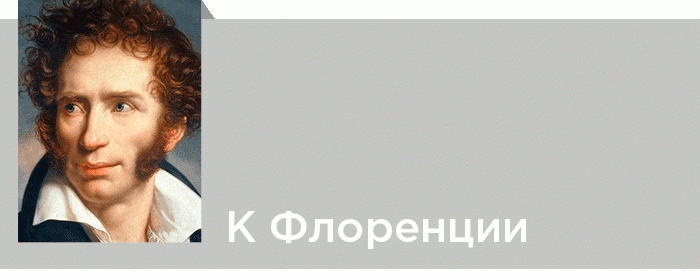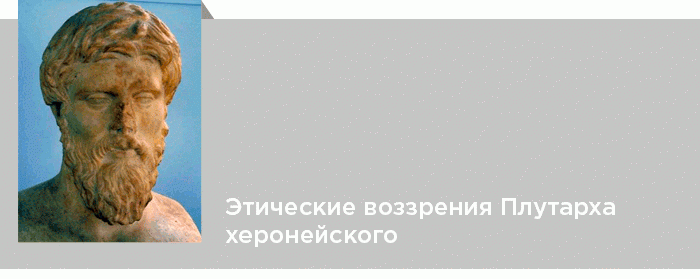Неведомая земля Сэма Шепарда

Ричард Гилмен
Мало кто из критиков будет отрицать, что Сэм Шепард — на сегодняшний день наиболее интересный и вызывающий всеобщее любопытство драматург США. Однако лишь немногие могут определить, в чем для нас источник неиссякаемого интереса его драматургии: даже набор критических определений, как хвалебных, так и уничижительных, весьма малочислен и однообразен.
Дарование Шепарда то и дело называют «мощным», при этом с оттенком «брутальности», «мрачности» или «странности», и уж обязательно «мужественным». Часто говорят о «сюрреалистичности» и «готичности» его произведений, несколько реже его именуют «мифологическим реалистом», а самое живописное сравнение — «необъезженный мустанг американского театра» — я как-то услышал от одного нашего речистого театрального критика. Недоброжелателям его творчество представляется «темным», «непонятным», «хаотичным», причем всегда «нарочитым». Но даже враги Шепарда признают за ним дар «театральной магии» (всегда употребляется именно это выражение), а также все хором твердят о его «словесной изысканности». Все сходятся на том, что в подавляющем большинстве его пьес главным является: гибель или предательство «американской мечты», разрушение национальных мифов, растущая механизация жизни, поиск корней, катаклизмы в семье. (Трудность, однако, заключается в том, что все эти темы встречаются у изрядного числа других американских писателей.)
Что сделать, чтобы не угодить в сети клише и общих мест, какую форму исследования нужно выработать, чтобы понять этого ускользающего от анализа драматурга?
Впервые я увидел Сэма Шепарда в Оупен тиэтр в 1965 году. Это был юноша в стиле Джеймса Дина, но с интеллектуальным блеском в глазах. 50-е годы, из которых он вышел, а точнее, вырвался, породили два весьма существенных для нашей культуры явления. Во-первых, стала постепенно стираться грань между «высоким» и «низким» в искусстве, а во-вторых, тяга к самовыражению, к противопоставлению своей личности молчанию и анонимности стала настолько сильной, что победила веру в необходимость формального обучения, посещения разного рода классов, стажировок.
Разумеется, Шепард — нечто большее, чем простое производное от этих тенденций, и тем не менее они повлияли на него и, как считают некоторые, даже вдохновили. Он родился в Иллинойсе, но сформировался в Южной Калифорнии, яркая, взрывоопасная среда которой провоцировала воображение писателя. Шепард говорил, что вырос в атмосфере «молодежной автомобильной культуры» и что Южная Калифорния несет в себе «какую-то наркотическую магию».
Шепард, по-видимому, не следует какой-либо литературной или театральной традиции, более того, кажется, что он порожден самим отсутствием подобных традиций в Америке. Все это создает иллюзию, будто за его плечами нет накопленного временем культурного опыта, будто он использует лишь его тончайший пласт, однако понятно, что иллюзия эта культивируется драматургом умышленно: он хочет выглядеть самоучкой. В частности, он никогда не упоминал, что на него могла повлиять пьеса Джека Гилбера 1959 года «Связной», или произведения Рональда Тейвела, или же некоторые принципы драматургии Пинтера или Бонда, или некоторые аспекты «театра абсурда».
Зато мы знаем, что в какой-то степени он писатель не по своей воле. В 1971 году он сказал: «Я не хотел быть драматургом. Я хотел быть звездой рок-н-ролла... А писать пьесы начал просто потому, что другого дела у меня не было. Если бы я не стал писать, то, возможно, погиб». Эти слова, сказанные во многом из тактических соображений, нельзя полностью принимать на веру, и все же доля истины в них есть. Пьесы Шепарда иногда производят впечатление как бы недовольства тем, что являются произведениями для сцены и вынуждены следовать драматическому канону. А недавнее перевоплощение драматурга в киноактера лишь усиливает нашу убежденность, что изначально он был кем-то большим, чем просто писателем для театра.
И все же он начал именно с театра. Хотя влияние рока ощущается в его первых пьесах достаточно явно, более того — оно главенствует. Это проявляется и в вводимых им в ткань пьесы зонгах, а также в новом сценическом языке — очень современном в своей жесткой, нервной манере и включающем в себя, как музыка и стихи рока, псевдопрофессиоцальное арго и лирическую интонацию. Рок вошел в пьесы Шепарда даже на уровне тематики: легендарное существование звезд рока стало предметом изображения в таких пьесах, как «Самоубийство в си миноре» и «Зуб преступления».
Рок не единственный музыкальный стиль, который использует в своих пьесах Шепард. Он привлекает также современный джаз, блюз, кантри и другие разновидности народной музыки. Шепард всегда заявлял (иногда, впрочем, за него это делали и другие), что для его драматургии музыкальные элементы так же важны, как текст и декорации. Действительно, трудно представить себе большинство его пьес без музыки, которая у него не способ приукрасить действие и не стратегический прием, прерывающий речевой поток, как у Брехта, а органическая часть произведения, выводящая его на новый уровень сознания.
Выбор места и сценография у Шепарда тесно связаны с достижениями графических искусств и хореографии, бурно развивавшихся в годы его юности и творческого становления. На драматурга повлиял, по его словам, Джексон Поллак и особенно — живительная сила искусства хэппенинга, коллажи в стиле Джонса и Раушенберга, а также опыты с синтезированием разного рода искусств того же Раушенберга, Джона Кейджа и других.
В целом мы можем обнаружить в произведениях Шепарда множество взаимосвязанных влияний, интересов, навязчивых идей. Наиважнейшие из них — «автомобильная» или «дорожная» культура времен его юности, голливудские вестерны и — шире — американский миф об освоении «дикого» Запада, поп-культура телевидения. Помимо этого Шепард называет еще «водевиль, цирк... ритуальные танцы, знахарские церемонии», а мы — при желании — добавим: телепатические состояния, галлюцинации, видения, магия и колдовские обряды.
На первый взгляд все это сильно отдает эклектикой, однако что-то прочно и органично соединяет эти, казалось бы, несовместимые вещи, наш интерес к которым привлекла поп- или контркультура, зародившаяся в 50-е годы. Когда мы задумываемся над тем, что дало нам это движение, ответ приходит неожиданно быстро: собственную позицию, брошенную, как вызов авторитету и традиции, антиэлитаризм, культ природных инстинктов. Но за всем этим просматривается, что особенно важно, когда пытаешься осознать суть творчества Шепарда, более тонкая связь вещей: мир, потерпевший крах, пейзажи с руинами, заполненными металлоломом, неуловимые видения, незаконченные действия; мир, где царит хаос и диссонанс, разрыв и нелогичность, где время и пространство безжалостно искажены...
Обращение Шепарда к актерам, предшествующее тексту «Энджел сити», мог бы написать, за исключением последних фраз, почти любой представитель авангарда последних лет. В своих основных положениях оно перекликается с революционным предисловием Стриндберга к «Фрекен Юлии». «Традиционные представления о «характере» неприменимы к этой пьесе, — пишет Шепард. — Актерам нельзя здесь исходить из идеи «цельного характера» с логически мотивированным поведением. Они должны увидеть «разорванный» мир, в котором центральная тема буквально взрывает «характер». Это конструкция коллажа, джазовой импровизации. Музыка или живопись в пространстве».
Среди новых пьес американских драматургов произведения Шепарда отличает их большая, по сравнению с другими, живость и гибкость и, что еще важнее, их необычайная «всеядность», насыщенность динамикой и энергией действий, событий и поступков. В 60-е годы он больше, чем любой другой драматург, преуспел в разрыве жестких канонов драмы. Но это было опасным делом. Он говорил, что хочет создать «тотальный» театр, и это стремление было одновременно источником как его триумфов, так и его неудач. Ведь тотальный театр, где все составные элементы должны сосуществовать одновременно, может породить и нечто самоуничтожающее — мрак и путаницу.
Первые пьесы Шепарда были поставлены в Нью-Йорке в конце 1964 года, и нет ничего случайного в том, что через несколько месяцев он появился в Открытом театре — этом центре драматического возрождения.
Здесь не место для пространного разговора о влиянии Открытого театра на драматургию Шепарда, однако нельзя не сказать, что для него оказалась важной идея «трансформации» — одна из принципиальных в эстетике театра... Шепард усвоил эту идею глубже всех других и перенес ее в некоторые свои пьесы, где персонажи мгновенно перерождаются или начинают говорить от другого лица, хотя сама сцена не меняется...
Творчество Шепарда упорно сопротивляется делению на периоды, отвергает разговоры об эволюции. Исключением являются последние пьесы, явно отличающиеся от предыдущих произведений. Обычно мы представляем себе творчество писателя в определенной последовательности развития, но у Шепарда все иначе: кажется, будто все его произведения сотворены и усвоены нашим сознанием разом.
Мы не можем не рассматривать творчество Шепарда, упуская из виду сложные и противоречивые связи его произведений с жизнью вне театра. Эти связи характерны для всякой драмы, но в случае Шепарда они демонстрируют яркое взаимодействие, в котором театральность как образ отношений проистекает из самой жизни, в то время как живое существование — хаотичное, неорганизованное, непредсказуемое — постоянно принимает искусственные, завершенные сценические формы.
В творчестве Шепарда можно найти и политическую, и социологическую тематику, но если искать в нем некую сквозную идею, то она, скорее всего, заключается в том, что наша жизнь театральна по своей природе, хотя театр, в котором мы «играем», давно подвержен неприятельской осаде и частично уже разрушен.
Самое замечательное в пьесах Шепарда — то, что в них показано, с какой острой, щемящей болью, с какой изобретательностью происходит в наше время «поиск себя», а также выведены силы, противостоящие этому поиску, острые типично американские обстоятельства, которые Шепард, со своей обостренной чувствительностью, превратил в наваждение и поэзию.
Мне кажется, что под этим углом зрения можно рассматривать все темы и мотивы у Шепарда... Взять хотя бы проблему «корней», которая то поставлена во главу угла, а то смутно маячит в его пьесах. Иметь корни — значит быть звеном в каком-нибудь процессе и, следовательно, иметь необходимый простор для действий. Не иметь корней — значит действовать в пустоте. Именно поэтому я считаю столь важными факты социального и культурного окружения Шепарда. Он не мог родиться ни на востоке страны, ни на севере, ни в другое время. На западе Америки люди, лишенные корней, встречаются значительно чаще, а для многих эта неприкаянность — жизненная норма. В то же самое время запад, особенно Калифорния, — место, где успех, яркая индивидуальность, слава могут сознательно или бессознательно выступать, как маскировка отсутствия корней».
Темы «поиска себя» и «корней» сливаются воедино в творчестве Шепарда. Если под «американской мечтой» понимать нечто большее, чем просто миф об экономическом становлении нации, то можно разглядеть в ней и еще кое-что, прежде всего — надежду человека на обретение себя как личности. В театре Шепарда эта коллизия реализуется двояко: личность здесь либо сломлена, а точнее, сметена с лица земли, либо направлена по пути, ведущему к наживе, насилию, безумию или мучительной потребности в известности.
Монологи Шепарда чаще всего напряженные, отрывистые, их красноречие завораживает. Разноголосье монологов обнаруживает удивительную чуткость Шепарда к разговорной речи, однако не в ее «уличных» проявлениях, а скорее в ее возможностях. Шепард не подслушивает, а изобретает сам. Речь его персонажей — это победа над молчанием...
В своих пьесах конца 70-х — начала 80-х годов Шепард заметно отошел от экстравагантных ситуаций, сложной многоголосицы и хаотичности, характерных для его ранних произведений. Его неуловимые темы начинают обретать ясность, его воображение все более занимает реальная жизнь. Материальные или экономические обстоятельства также играют все большую роль в его пьесах.
Я говорил, что, исследуя «американскую мечту», нужно заглядывать дальше ее экономического подтекста, но сейчас мы остановимся именно на нем. Обладать богатством означает стать личностью, получить возможность действовать. Более того, деньги в Америке как ничто другое дают возможность распоряжаться «человеческим театром»: именно деньги распределяют здесь роли, все наши драмы вызваны наличием или отсутствием денег. И все же, как отметил Фрейд, деньги не есть первостепенная потребность нашего духа, — герои Шепарда разделяют это мнение.
В «Проклятье голодающего класса» изображена семья бедная, но не до безысходности: за материальной нуждой скрывается другая, более важная потребность. Герои голодают, но не физически. Действие пьесы разыгрывается на кухне, все вокруг вызывает ассоциации с едой, и все же акцентируется не физический голод, и лучше всего это демонстрирует эпизод, когда Уэстон приносит в дом неимоверное количество артишоков. Абсурдность такого поступка очевидна, и он в полной мере показывает, что «еда» является здесь метафорой «поиска», а не «конечной цели». В действительности они «голодают» из-за отсутствия самодостаточности, определенности, удовлетворительных жизненных «ролей». Они отказываются принадлежать к «голодающему классу» на всех уровнях...
В «Погребенном ребенке» семья, в которую возвращается сын Винсент, тоже бедная, но и здесь причина драматического напряжения не в бедности. Винсент понимает, что родные не узнают его, что они сознательно пребывают в физической изоляции, беспричинном гневе и духовной слепоте. Завязывается битва между тем, что мы можем назвать принципами движения и инерции. Сбежав из дома после очередного скандала, Винсент все же возвращается: «Я должен продолжить род. Я должен следить за тем, чтобы все шло, как положено». Отец — сама непоследовательность — кричит, что будущее не на чем строить — прошлого нет. Глядя на свою юношескую фотографию, он упорно настаивает: «Это не я! Никогда не был таким!»
Таинственное поле, раскинувшееся за домом, про которое известно, что оно ничего не родит, неожиданно приносит изобилие овощей. Это сказочное поле — метафора плодородия и одновременно надежды на лучшее будущее, несмотря на горькую, долго скрываемую правду, которая в финале выходит наружу в образе «убиенного».
«Настоящий Запад» — самая понятная и самая нетипичная из всех пьес драматурга. Главные герои, два брата, чем-то напоминающие Ленни и Тедди из «Возвращения домой» Пинтера, вступают в конфликт друг с другом из-за распределения жизненных «ролей». Ли — бродяга, скитающийся в пустыне, завидует Остину, преуспевающему сценаристу, и стремится занять его место, продав продюсеру «настоящий» вестерн — порождение не артистического воображения, а строгого документализма.
Спор между братьями идет с переменным успехом, пока Остин не подводит итог словами: «Такого понятия, как Запад, нет больше. Оно мертво». Мифы кончились. Однако его собственная индивидуальность сформирована под влиянием манипуляций с популярными мифами, поэтому под воздействием «безжалостного» реализма Ли он чувствует себя опустошенным. Пьеса заканчивается яростным нападением Остина на брата — последней отчаянной попыткой защитить свое «я»...
Немного о пьесах «Языки» и «Дикарь. Любовь». Обе они скорее зарисовки, чем пьесы, и являются результатом экспериментов Шепарда и Чайкина с «чистой» драматической формой, лишенной элементов сюжета, физического действия, когда остается лишь звук и интонация. В некоторых местах они достигают таинственного и животворного лиризма, напоминая нам тогда о разнообразных, неистощимых дарованиях Шепарда.
В последние годы Сэма Шепарда увлекло кино: он работает там и как сценарист и как актер. Кажется, что он навсегда покинул театр. Но я подозреваю, что вскоре он снова чем-нибудь поразит нас.
Л-ра: Театр. – 1989. – № 9. – С. 58-62.
Произведения
Критика