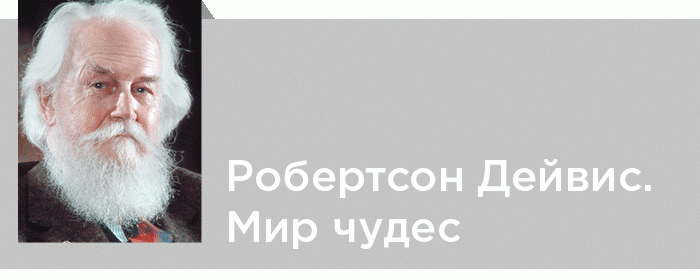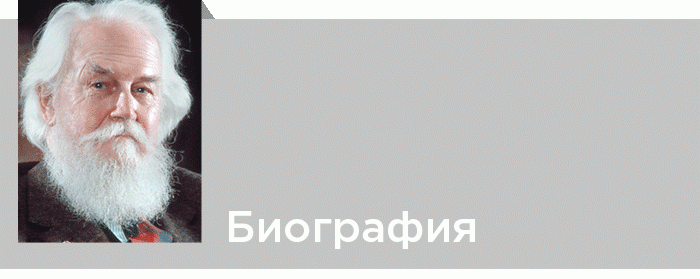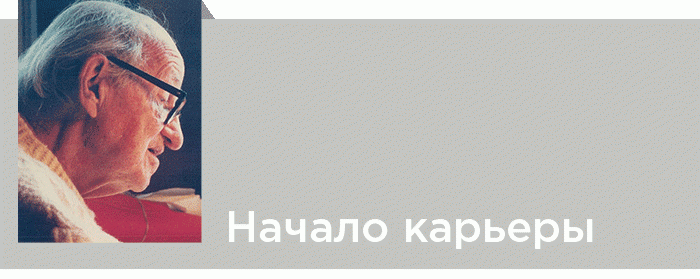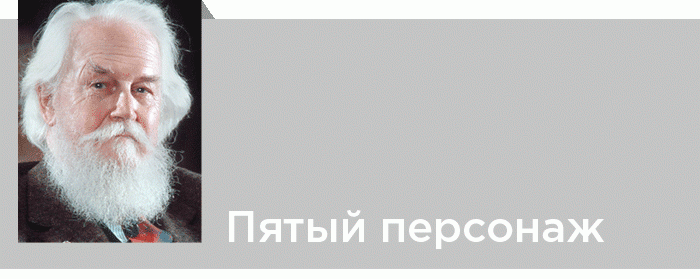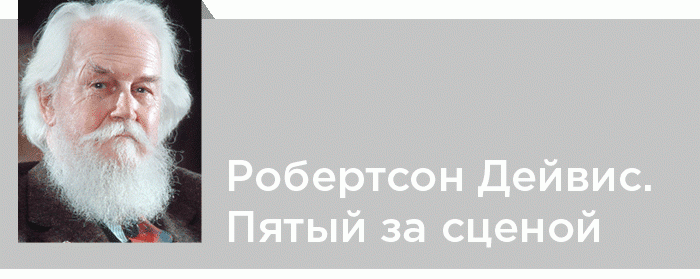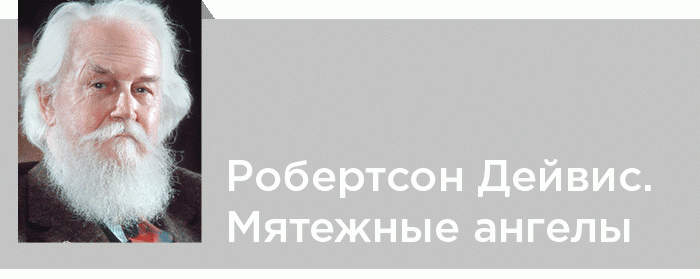Робертсон Дэвис. Мантикора

(Отрывок)
I. Почему я поехал в Цюрих
1
– Когда вы решили, что вам следует приехать в Цюрих, мистер Стонтон?
– Когда услышал свой крик в театре.
– В этот момент и решили?
– Кажется, да. Я, конечно же, после этого подверг себя обычному освидетельствованию, чтобы не оставалось никаких сомнений. Но могу сказать, что решение было принято сразу же, как только я услышал собственный крик.
– Обычному освидетельствованию? Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?
– Конечно. Я говорю о том освидетельствовании, которое мы всегда проводим, чтобы определить причины своего поведения, степень своей ответственности и тому подобное. Все было предельно ясно. Я больше не контролировал свои действия. Нужно было принимать какие-то меры, и я должен был сделать это до того, как это придется сделать за меня другим.
– Расскажите мне еще, пожалуйста, о том эпизоде, когда вы закричали. Поподробнее, пожалуйста.
– Это случилось позавчера, то есть девятого ноября, приблизительно без четверти одиннадцать вечера в Театре королевы Александры в Торонто, где я живу. Я сидел в заднем ряду на галерке. Это само по себе уже было необычно. Шло представление под довольно помпезным названием «Суаре иллюзий» – выступал фокусник Магнус Айзенгрим. Насколько я понимаю, он широко известен среди людей, которые любят вещи такого рода. У него был номер, который он назвал «Медная голова Роджера Бэкона». Большая голова, похожая на латунную, но изготовленная из какого-то почти прозрачного материала, словно бы плавала посредине сцены. Не знаю уж, как это достигалось, наверно, с помощью каких-нибудь проводов. Голова изрекала то, что могло сойти за советы кое-кому из публики. Именно это и вывело меня из себя. Всякие рискованные глупости, скандальные намеки – супружеские измены, маленькие сплетни, глупая скабрезная чушь… Во мне нарастало раздражение из-за того, что подобная дребедень может быть кому-то интересна. Понимаете, это же было несанкционированное вторжение в частную жизнь, а иллюзионист вдобавок явно ощущал такое превосходство над всеми… просто шарлатан, который словно бы снисходит до серьезных людей! Я чувствовал, что завожусь, но только услышав свой голос, я осознал, что вскочил и ору в сторону сцены.
– И что вы орали?
– А что, вы думаете, я орал? Я орал во весь голос – а голос у меня ого-го, натренированный… Я орал: «Кто убил Боя Стонтона?» И тут такое началось!..
– Разразился скандал?
– Еще бы! Кто-то стоявший в ложе громко вскрикнул и рухнул как сноп. Многие начали шептаться, а некоторые поднялись, чтобы увидеть, кто это кричал. Но они сразу же угомонились, как только Медная голова начала говорить.
– И что же она сказала?
– Мнения разнятся. В новостях передавали, будто бы Голова намекала, что это был целый заговор. Я только услышал что-то о «женщине, которую он знал… женщине, которую он не знал», а это могло относиться только к моей мачехе. Но я уже спешил на выход. На этом балконе очень крутой подъем к дверям, а я был возбужден и мне было стыдно за то, что я сделал, потому я почти ничего и не услышал. Я хотел уйти до того, как меня узнают.
– Потому что вы и есть Бой Стонтон?
– Нет-нет-нет, Бой Стонтон был мой отец.
– И его убили?
– Конечно, его убили. Вы что, не читали об этом? Это же не какой-нибудь там трущобный бродяга, зарезанный из-за нескольких сотен долларов. Мой отец был очень важной персоной. Не будет преувеличением сказать, что это была новость международного масштаба.
– Понимаю. Извините, пожалуйста, что я не знал. А теперь, может быть, пройдемся по некоторым эпизодам вашей истории еще раз?
И мы прошлись. Это продолжалось довольно долго и было порой болезненно, но он оказался умным аналитиком, а я время от времени осознавал, что свидетель из меня никудышный, поскольку предполагаю, что доктор знает то, чего я ему не говорил, и то, что он никак не мог знать. Мне было стыдно за то, что я так часто вставлял свое «конечно», будто излагал твердые факты, а не беспочвенные домыслы; сам бы я ни за что не стал терпеть такого свидетеля. Я смущался из-за того, что выглядел таким дураком, причем в ситуации, в которой, как я бессчетное число раз говорил себе и другим людям, никоим образом не должен был оказаться: беседую с психоаналитиком и делаю вид, будто ищу помощи, но не надеюсь ее получить. Я никогда не верил, что они могут сделать для умного человека что-то такое, чего он не может сам. Я знаю многих, кто полагается на психоаналитиков, но все они люди по природе зависимые, они бы и на священника полагались, если бы жили во времена, когда была сильна вера, или на гадалку по кофейной гуще, или на астролога, если бы у них не хватило денег на жулика более высокого полета. Но вот я сам сидел перед ним, и теперь мне ничего не оставалось, как пройти все до конца.
У этого дела была и смешная сторона. Я не знал, чего мне следует ждать, но полагал, что мне предложат лечь на кушетку и будут задавать вопросы о моей половой жизни, что было бы пустой тратой времени, так как половой жизни у меня все равно что нет и рассказывать тут не о чем. Но в кабинете директора цюрихского института Юнга, на Гемайндештрассе, не было никакой кушетки – не было ничего, кроме стола и двух стульев, одной или двух ламп и нескольких картин – в восточном, кажется, стиле. И доктора Чуди. И его огромной восточноевропейской овчарки, чей взгляд, исполненный вежливого и пытливого любопытства, таинственным образом походил на взгляд самого доктора.
– Это ваш телохранитель? – спросил я, войдя в кабинет.
– Ха-ха, – хохотнул доктор Чуди.
С подобным смешком я частенько сталкивался в Швейцарии. Так смеются, когда вежливо признают, что вы пошутили – а теперь, мол, шутки в сторону. Но у меня создалось впечатление (впечатления – мой конек), что в этом насквозь швейцарском кабинетике доктору с кем только не приходится иметь дело и что собака призвана отнюдь не только развеивать скуку.
Вся атмосфера института Юнга, насколько мне удалось его увидеть, озадачила меня. Это был один из тех высоких цюрихских домов, у которых вид не жилой и не конторский, а серединка на половинку. Мне пришлось несколько раз нажать кнопку звонка, прежде чем дверь отворилась, а тонированное стекло ее не позволяло увидеть, идет кто-нибудь открывать или нет; секретарша, встретившая меня, сама походила на доктора и не ослепляла улыбкой, как то свойственно работникам «паблик рилэйшнз». Чтобы добраться до доктора Чуди, мне пришлось одолеть длинный гулкий лестничный пролет, навевавший воспоминания о старой школе моей сестры. Я ни к чему такому не был готов; думаю, я ждал найти здесь что-то, сочетающее дух клиники и пугающую атмосферу сумасшедшего дома из плохого фильма. Но тут все было как… в общем, это была Швейцария. Настоящая Швейцария. И хотя ничто здесь не напоминало о часах с кукушкой, о банковских сейфах или о молочном шоколаде, в институте царила домашняя, но лишенная особой теплоты обстановка. Это была реальность, в пределах которой не верилось в ее реалии, что сразу поставило меня в невыгодное положение. Направляясь на прием к психоаналитику, я, конечно, догадывался, что утрачу толику моей профессиональной привилегии всегда быть в выгодном положении, однако вряд ли следовало рассчитывать, что мне это понравится.
Целый час провел я с директором, и за это время выяснилось несколько важных вещей. Во-первых, он полагал, что некоторое количество пробных сеансов у психоаналитика могут пойти мне на пользу. Во-вторых, этим психоаналитиком должен быть не он, а кто-то, кого он порекомендует, у кого есть возможность принять в настоящее время еще одного пациента и кому он пошлет подробный отчет о нашем разговоре. В-третьих, предварительно я должен пройти всестороннее медицинское обследование, чтобы выяснить, в самом ли деле мне необходим психоанализ, а не, скажем, физиотерапия. Доктор Чуди встал и пожал мне руку. Я хотел было пожать лапу овчарке, но пес с презрением отверг мою шутку, а на лице директора появилась ледяная улыбка.
Я снова оказался на Гемайндештрассе, чувствуя себя дураком. На следующее утро в отель мне пришло письмо с указаниями, где я должен пройти медицинское обследование. Еще там говорилось, что через три дня в десять часов утра я должен явиться к доктору по имени И. фон Галлер – меня будут ждать.
2
Настолько досконального клинического обследования я не проходил еще ни разу в жизни. Кроме привычных унижений (торчишь полуголый в компании полуголых незнакомцев; писаешь в бутылочку, а потом вручаешь ее, пахучую и еще теплую, молоденькой медсестре; кашляешь по просьбе доктора, который тыкает тебя сзади в мошонку; отвечаешь на сугубо личные вопросы, пока тот же врач засовывает тебе в задний проход свой длинный палец и пытается уличить твою простату в тех или иных отклонениях от нормы; с трудом поднимаешься, а потом спускаешься по специальной лесенке, а врач ведет отсчет, вслух и с выражением; то разеваешь рот, то пыхтишь, то тужишься, то высовываешь язык, то закатываешь глаза, то делаешь еще какую-нибудь глупость, которая о многом говорит доктору, но заставляет пациента чувствовать себя полным идиотом) я подвергся и тем, что были для меня в новинку. Я был вынужден расстаться в итоге с изрядным количеством крови – куда больше, чем та капелька, что берут из мочки уха. Выпил целый стакан какой-то смеси, приправленной шоколадом, после чего каждый час в течение последующих шести меня привязывали к поворотному столу рентгеновского аппарата и опрокидывали вниз головой, отслеживая передвижение этой дряни по моим кишкам. Ко мне лепили множество проводов, о назначении которых я мог только догадываться, но поскольку при этом кресло, где я сидел, вращалось и кренилось, то, видимо, таким образом проверяли мою нервную систему, вестибулярный аппарат, слух и прочее. А еще мне задавали бессчетное множество вопросов – сколько лет прожили мои бабушки, дедушки и родители и отчего они умерли. Когда я назвал причину смерти отца – убийство, – врач моргнул, и я порадовался, что хоть на секунду, но все же пробил брешь в броне его швейцарской невозмутимости. Я был не в себе, когда приехал в Цюрих, а проведя два дня в этой медицинской живодерне, совсем приуныл и хотел теперь только уехать – но не домой, конечно же, ни в коем случае не домой, куда-нибудь в другое место. Однако я полагал, что хоть раз должен встретиться с доктором И. фон Галлером, даже если только ради удовольствия хорошенько с ним поскандалить.
Почему я испытывал такую неприязнь к образу действий, который сам же и выбрал? Однозначного ответа на этот вопрос не было. Как я уже сказал директору, решение свое я принял, основываясь на логике разума, и я собирался придерживаться этого выбора. Нетти всегда говорила мне, что когда предстоит сделать что-то неприятное – принять лекарство, извиниться за плохое поведение, сознаться в чем-нибудь отцу, понимая неизбежность порки, – я должен быть «стойким солдатиком». Насколько я понимал, стойкие солдатики никогда не колеблются, они поступают как должно, не задавая лишних вопросов. И вот мне опять предстояло быть стойким солдатиком и хотя бы раз посетить доктора по имени И. фон Галлер.
Да, а стойким солдатикам когда-нибудь приходилось посещать психоаналитиков? Они часто посещали дантистов, и я много раз, надев на плечо ремень моего маленького невидимого мушкета, строевым шагом отправлялся лечить зубы. Неужели визит к психоаналитику так уж сильно отличается от визита к дантисту? Да, сильно.
Какая польза от дантиста, я понимал. Он мог сверлить, пломбировать, шлифовать, а иногда и рвать. Но что может психоаналитик? Те, которых я видел в суде, противоречили друг другу, напускали дымовую завесу, и профессиональный жаргон их не выдерживал обычно перекрестного допроса. Я никогда не приглашал психоаналитиков в качестве свидетелей, разве что если уж иначе было совсем никак. И тем не менее существовало широко распространенное убеждение, что в случаях, подобных моему, они могут быть полезны. Я должен был делать то, что представлялось мне наилучшим, независимо от того, как я сам к этому относился. Остаться в Торонто и сойти с ума было бы просто непозволительно.
Зачем я приехал в Цюрих? Директор счел, что я сделал абсолютно нормальный выбор, но что он знал о моей ситуации? В Торонто я ни под каким видом не пошел бы к психиатру; такое лечение считается конфиденциальным, но все, кажется, в курсе, кто каких докторов посещает, и каждый не прочь потеоретизировать, в чем же состоит причина таких визитов. Как правило, называют гомосексуальные наклонности. Конечно, я мог бы поехать в Нью-Йорк, но все, кто туда ездил, кажется, посещали психоаналитика-фрейдиста, и то, что с ними происходило потом, не очень меня впечатляло. Конечно, может быть, фрейдизм и не виноват, потому что, как я уже говорил, эти люди искали себе опору, и полагаю, что и сам Фрейд не смог бы им помочь. «Пустой мешок не стоит», – частенько говаривал мой дедушка. О последователях Юнга я знал, пожалуй, лишь то, что фрейдисты их не любят, а один мой знакомый, ходивший к психоаналитику-фрейдисту, однажды съязвил по поводу тех, кто ездит в Цюрих с целью:
…слушать сердцем
Мистических немцев
Проповедь в приемные дни.
Но из чувства противоречия, зачастую одолевающего меня, когда приходится выбирать из двух зол, я решил попытать счастья в Цюрихе. У юнгианцев были две отрицательные рекомендации: их ненавидели фрейдисты и Цюрих находился далеко от Торонто.
3
Я был поражен, когда узнал, что доктор И. фон Галлер – женщина. Ничего не имею против женщин – просто мне и в голову не приходило, что о сугубо личных проблемах, которые заставили меня отправиться из Торонто в Цюрих, надо будет говорить с женщиной. Во время обследования двое из врачей, с которыми я столкнулся, были женщинами, и это не вызывало у меня протеста. Они имели такое же право копаться в моих потрохах, как и любой мужчина. Но вот копаться в мозгах… Тут дело обстоит иначе. Поймет ли – способна ли понять – женщина, что со мной? Широко распространено мнение, будто женщины – существа очень проницательные. Мой опыт общения с ними, в какой бы роли они ни выступали – клиента, свидетеля или противной стороны, – навсегда избавил меня от подобных заблуждений. Некоторые женщины и в самом деле проницательны, но я не сталкивался ни с чем таким, что убедило бы меня, будто в целом женский род проницательнее мужского. Я полагал, что мой случай требует деликатного отношения. Обладала ли доктор И. фон Галлер необходимыми для этого качествами? Я никогда не слышал о женщинах-психиатрах – разве что детской специализации. Мои же неприятности были отнюдь не детскими.
Но тем не менее мы оказались друг перед другом, и к тому же в обстановке, ассоциировавшейся скорее со светским визитом, нежели с посещением врача. Кабинет ее напоминал гостиную, причем стулья были расставлены так непрофессионально, что я сидел в тени, тогда как свет из окна падал на ее лицо. Кушетки и вовсе не было.
Доктор фон Галлер выглядела моложе меня; лет ей было, наверно, около тридцати восьми, поскольку, хотя лицо у нее и было молодым, в волосах виднелись седые пряди. Тонкое лицо с крупными, но не грубыми чертами. Великолепный нос – орлиный, если бы кто-то пожелал сделать ей комплимент, и чуть крючковатый, если бы такого желания не возникло. Широкий рот и превосходные зубы – белые, но не по-американски белые. Красивые глаза – карие, в тон волосам. Приятный низкий голос и хорошее, но не идеальное владение разговорным английским: небольшой акцент. Одета она была ничем не примечательно – не модно, но и не безвкусно; Каролина называет такой стиль классическим. В целом она производила впечатление человека, который вызывает доверие. Но с другой стороны, я и сам такой, мне прекрасно известны все профессиональные хитрости, которыми достигается это впечатление. Побольше помалкивай – пусть клиент сам говорит; не высказывай никаких предположений – пусть клиент облегчит свою душу; наблюдай за клиентом – пусть проявит свои слабые стороны. Все это было ей известно. Но и мне тоже. В результате разговор наш поначалу не клеился.
– Значит, это убийство вашего отца подтолкнуло вас приехать?
– А что, повод не достаточный?
– Смерть отца – это критический момент в жизни каждого мужчины, но обычно он успевает психологически приготовиться к этому. Отец стареет, его жажда жить ослабевает, он явно готовится к смерти. Насильственная смерть – это всегда сильное потрясение. Но все же вы понимали, что рано или поздно ваш отец умрет.
– Вероятно, понимал. Не помню, чтобы я об этом думал.
– Сколько ему было?
– Семьдесят.
– Вряд ли это можно назвать преждевременной кончиной. Возраст Псалмопевца.
– Но это было убийство.
– Кто же его убил?
– Не знаю. Никто не знает. Его прямо в машине сбросили с причала в Торонтской гавани. Или он сам съехал. Он так крепко вцепился в баранку, что его руки с трудом оторвали от нее, когда автомобиль вытащили из воды. Глаза его были широко раскрыты, а во рту был камень.
– Камень?
– Да. Вот этот камень.
Я протянул ей камень на шелковом платочке, в котором я его с тех пор так и носил. Улика номер один в деле об убийстве Боя Стонтона: кусочек канадского розового гранита размером с куриное яйцо.
Она обстоятельно осмотрела его, потом медленно засунула себе в рот и очень серьезно посмотрела на меня. Или не так уж серьезно? Не было ли в ее глазах озорной искорки? Не знаю. Ее поступок был для меня таким неожиданным, что я плохо соображал. Потом она вынула камушек, тщательно отерла платком и вернула мне.
– Да, это могло произойти, – сказала она.
– Вы довольно хладнокровный человек, – сказал я.
– Да. Моя профессия для хладнокровных людей, мистер Стонтон. Скажите мне, ни у кого не возникало предположения, что ваш отец совершил самоубийство?
– Конечно нет. Это абсолютно не похоже на него. А почему вы вдруг подумали об этом? Я ведь сказал вам, что его убили.
– Но никаких свидетельств убийства обнаружено не было.
– Откуда вам это известно?
– Я прочла, что написал о вас доктор Чуди, и попросила библиотекаря в «Нойе Цюрхер Цайтунг» проверить их архив. Знаете, они сообщали о смерти вашего отца – у него были связи с несколькими швейцарскими банками. Сообщение в силу жанра было отрывочным и коротким, но самоубийство тогда казалось наиболее вероятной версией.
– Он был убит.
– В записке доктора Чуди сказано, что, как вы полагаете, к этому может иметь отношение ваша мачеха.
– Да, да. Но только косвенным образом. Она уничтожила его. Она сделала его несчастным, и он перестал быть похожим на себя. Я никогда не думал, что она могла сбросить его с причала. Она убила его психологически.
– Правда? А у меня создалось впечатление, что вы не слишком высокого мнения о психологии, мистер Стонтон.
– Психология играет важную роль в моей профессии. Я довольно известный адвокат по уголовным делам – или вы уже и об этом справились? Я должен разбираться, почему люди поступают так, а не иначе. Будь я глух к психологии, просто не смог бы делать то, что делаю, а именно – выуживать из людей сведения, которые они не хотят сообщать. Ведь и ваша работа состоит в этом, не правда ли?
– Нет, моя работа состоит в том, чтобы слушать то, что люди очень хотят рассказать, но боятся, что никто их не поймет. Вы используете психологию как наступательное оружие в интересах правосудия. Я же – как целительное средство. Такой вдумчивый юрист, как вы, почувствует разницу, и вы уже продемонстрировали, что чувствуете. Вы полагаете, мачеха убила его психологически, но, по-вашему, этого было недостаточно, чтобы побудить его к самоубийству. Знаете, я сталкивалась с такими вещами. Но если убийцей была не она, кто бы это мог быть?
– Тот, кто засунул ему в рот этот камень.
– Ну что вы, мистер Стонтон, невозможно засунуть камень в рот человеку против его воли, не переломав ему зубов и не оставив очевидных следов насилия. Я это поняла, положив камень себе в рот. А вы не пробовали? Наверно, нет. Должно быть, ваш отец сам положил его туда.
– Зачем?
– Может быть, кто-то ему приказал. Кто-то, кого он не мог или не хотел ослушаться.
– Это смешно. Никто не мог заставить отца сделать то, что он не хотел делать.
– Может быть, он хотел это сделать. Может быть, он хотел умереть. С некоторыми так бывает.
– Только не с моим отцом. Я не знал никого другого, кто любил бы жизнь так, как он.
– Даже после того, как ваша мачеха психологически убила его?
Я ощутимо сдавал позиции. Это было унизительно. Я мастер перекрестного допроса, и тем не менее раз за разом эта женщина-врач укладывала меня на лопатки. Ну что ж, дело поправимое; все в моих руках.
– По-моему, мы только зря теряем время, – произнес я. – Будьте так добры назвать гонорар за вашу консультацию, и мы закончим этот разговор.
– Как вам угодно, – сказала доктор фон Галлер. – Но должна вам сообщить, что многие находят первую консультацию бесполезной и хотят убежать. Потом, правда, они возвращаются. У вас незаурядный интеллект. Не проще ли будет обойтись без этой предварительной фазы и продолжить? Вы же разумный человек и должны были предвидеть, что лечение такого рода не может быть безболезненным. Начало всегда дается трудно, в особенности людям вашего склада.
– Значит, вы уже причислили меня к определенному складу?
– Прошу прощения. С моей стороны было бы слишком самоуверенно утверждать что-либо подобное. Я только имела в виду, что вы человек богатый и умный и привыкли поступать по-своему, а в начале анализа такие люди нередко ведут себя враждебно и раздражительно.
– Значит, вы предлагаете мне стиснуть зубы и продолжать.
– Конечно, продолжайте. А вот стискивать зубы не надо. Думаю, вы в последнее время и так этим злоупотребляли. Давайте горячиться не будем.
– Вы намекаете, будто мой отец покончил с собой, когда я утверждаю, что он был убит, и еще хотите, чтобы я не горячился?
– Это не я намекаю, а газеты, и то в крайне осторожных выражениях. Наверняка вы и раньше слышали эту версию. И я знаю, как настороженно к подобным версиям обычно относятся. Но давайте сменим тему. Вы часто видите сны?
– Ага, значит, мы уже и до снов дошли? Нет, я не вижу снов. Или, точнее, я не придаю особого значения тому, что вижу во сне.
– А в последнее время у вас были сны? После того, как вы решили приехать в Цюрих? После вашего приезда сюда?
Рассказать или нет? Что ж, я ведь за это удовольствие деньги плачу, так пусть все будет по полной программе, какая бы программа ни была.
– Да, в прошлую ночь мне приснился сон.
– И?..
– Очень яркий сон для меня. Обычно во сне я вижу лишь какие-то фрагменты, обрывки, которые не задерживаются в памяти. Этот сон был совсем другим.
– Он был цветным?
– Да. Он был очень… красочным.
– А какое было общее настроение этого сна? Я хочу узнать, вам он понравился? Он был для вас приятен?
– Приятен? Да, я бы сказал, что приятен.
– Расскажите, что вы видели в этом сне.
– Я был в каком-то здании – вроде бы знакомом, хотя места этого я совсем не знал. Но каким-то образом оно было связано со мной, и я там был важной персоной. Вернее даже, здание окружало меня со всех сторон, ну, как здание колледжа – знаете, как здания некоторых колледжей в Оксфорде, – а я торопился через внутренний двор к задним воротам. Когда я проходил под аркой, двое людей, стоявших у ворот на посту, – швейцары или полицейские, какие-то должностные лица и охранники – приветствовали меня, улыбаясь как знакомому. Я помахал рукой им в ответ. Потом я оказался на улице. Но не канадской улице. Больше было похоже на какой-нибудь симпатичный городишко в Англии или в Европе – деревья по обеим сторонам и очень милые частные домики, хотя кое-где были и магазины, а потом мимо проехал автобус с людьми. Но я спешил, потому что мне было куда-то нужно, и я быстро повернул налево и вышел за город. Я был на дороге, город остался у меня за спиной, а я вроде бы шел вдоль поля, которое было все изрыто, и я знал, что это археологические раскопки. Я двинулся через поле к какой-то времянке в самом центре раскопок и вошел в дверь. Внутри времянка оказалась совсем не такой, как я ожидал, потому что снаружи, как я уже говорил, она казалась каким-то временным хранилищем инструментов, бумаг и так далее, но внутри там все было в готическом стиле. Потолок низкий, но с прекрасной каменной резьбой, и вообще все сооружение было каменным. Там внутри была парочка молодых ребят, простоватых парней лет, я бы сказал, двадцати с небольшим. Они разговаривали, стоя на вершине винтовой лестницы, которая, как я знал, уходила под землю. Я хотел спуститься и попросил их дать мне пройти, но они не послушались, и, хотя со мной они и не говорили, а продолжали беседовать друг с другом, я чувствовал, что они считают меня обычным любопытствующим, который не имеет никакого права спускаться под землю и на самом деле даже не собирается этого делать. Поэтому я вышел из времянки и направился к дороге, а там повернул к городу; и тут мне встретилась женщина. Она была какая-то странная, похожа на цыганку, но одета не так броско, как цыганки, которые выпрашивают милостыню. На ней была старомодная потрепанная одежда, вроде как выцветшая от солнца и дождя, а на голове сидела широкополая помятая черная бархатная шляпа с какими-то яркими перьями. Казалось, женщина хочет сообщить мне что-то важное, и она никак не отставала, но я не мог понять ни слова из того, что она говорит. Язык был мне совершенно незнаком – наверно, цыганский, решил я. Она не просила подаяния, но что-то ей все-таки было нужно. Я сказал себе: «Ну что ж, каждая страна имеет таких иностранцев, каких заслуживает» – а это довольно глупое замечание, если вдуматься. Но у меня было ощущение, что время поджимает, а потому я поспешил назад в город, резко повернул теперь направо и почти вбежал в ворота колледжа. Один из охранников обратился ко мне: «Вы еще можете успеть, сэр. На сей раз вас не оштрафуют». И я тут же в моей адвокатской мантии оказался во главе стола, за которым председательствовал. Вот, собственно, и все.
– Замечательный сон. Может быть, вы гораздо лучший сновидец, чем думаете.
– Вы хотите сказать, что в этом сне есть какой-то смысл?
– Во всех снах есть смысл.
– Для Иосифа и фараона или, может быть, жены Пилата. Вам придется здорово попотеть, чтобы убедить меня, будто они значат что-нибудь здесь и сейчас.
– Не сомневаюсь, что мне придется здорово попотеть. А пока скажите-ка мне, особо не задумываясь: вы кого-нибудь узнали из тех, кого видели во сне?
– Никого.
– Как вы думаете, это могли быть люди, которых вы еще не видели? Или с кем не были знакомы вчера?
– Доктор фон Галлер, вы единственный человек, которого я видел, но вчера еще не знал.
– Так я и думала. Я не могла быть кем-нибудь из вашего сна?
– Секундочку, не так быстро. Вы хотите сказать, что я мог видеть вас во сне еще до того, как узнал?
– Это было бы абсурдно, не правда ли? И тем не менее я спросила, не могла ли я быть кем-нибудь из вашего сна?
– Нет, никем, абсолютно точно. Если только вы не намекаете на эту цыганку с ее абракадаброй. Что-то не верится.
– Никто не в силах заставить такого способного юриста, как вы, мистер Стонтон, поверить в какую-либо нелепицу. Но разве не странно, что вам снится женщина совершенно незнакомого вам склада, которая пытается сказать вам что-то важное, что вы не можете и не хотите понять, поскольку так стремитесь вернуться в милое вашему сердцу замкнутое окружение, к вашей адвокатской мантии, к председательству на каком-то заседании?
– Доктор фон Галлер, не хочу показаться грубым, но, по-моему, вы все это высосали из пальца. Имейте в виду, пока я сюда не пришел, я и понятия не имел, что доктор И. фон Галлер – женщина. Так что если даже в моем сне столь причудливо преломился будущий визит к психоаналитику, я не мог бы осознать этот факт должным образом. Разве не так?
– Это не факт; разве что лишь в том смысле, что все совпадения – факты. Вы в вашем сне встречаете женщину, и я тоже женщина. Но совсем не обязательно – та самая женщина. Уверяю вас: нет ничего необычного в том, что новому пациенту перед началом лечения, еще до знакомства с врачом, снится важный, исполненный смысла сон. Мы всегда спрашиваем об этом – на всякий случай. Но если такой сон содержит неизвестный факт – это большая редкость. Во всяком случае, разбирать его сейчас нет необходимости. У нас для этого еще будет время позднее.
– Вы полагаете, у нас будет «позднее»? Если я правильно понимаю, то я просто ничего не разобрал из того, что говорила эта цыганка на своем загадочном языке, и вернулся в знакомый мне мир. Какой вывод вы из этого делаете?
– Сны не предсказывают будущего. Они выявляют состояния ума, в которых будущее заложено потенциально. В настоящее время вы пребываете в таком состоянии ума, когда вам не нужны разговоры со странной и непонятной женщиной. Но ваше состояние ума может измениться. Вы так не считаете?
– Я, право, не знаю. Откровенно говоря, мне представляется, что наш сегодняшний разговор – это борьба кто кого. Какая-то рукопашная. Лечение и дальше будет проходить в том же духе?
– Возможно, какое-то время. Но на этом уровне оно не принесет никаких результатов. Ну а пока… наш час почти на исходе, поэтому я должна подвести некоторые итоги. Скажу без обиняков: я смогу помочь вам только в том случае, если вы будете говорить со мной от вашего лучшего «я», честно и доверительно. Если же вы и дальше будете говорить от вашего худшего, подозрительного «я», пытаясь уличить меня в шарлатанстве, я ничего не смогу для вас сделать и вы через несколько сеансов прервете этот курс. Возможно, именно это вы и хотите сделать сейчас. У нас осталась одна минута, мистер Стонтон. Вы придете на следующий сеанс? Пожалуйста, не думайте, что меня оскорбит, если вы откажетесь, потому что приема у меня ждут многие, и если бы вы были знакомы с прочими моими пациентами, они бы заверили вас, что я не шарлатан, а серьезный опытный врач. Так что вы выбираете?
Я терпеть не мог, когда меня ставили в неприятное положение. Это меня просто бесило. Но, потянувшись за шляпой, я увидел, что рука у меня дрожит, и от доктора Галлер это тоже не укрылось. С дрожью нужно было что-то делать.
– Я приду в назначенное время, – сказал я.
– Хорошо. Пожалуйста, приходите на пять минут раньше. У меня очень плотный график.
И вот я оказался на улице, злой на себя и на доктора фон Галлер. Но в глубине души я был рад тому, что увижу ее снова.
4
До моего следующего сеанса было два дня, в течение которых я несколько раз менял свое решение, но когда время пришло, я был у нее. Я бессчетное число раз пережевывал то, что было сказано между нами, и придумал несколько неплохих аргументов, которые высказал бы, приди они мне в голову в надлежащее время. Тот факт, что врач оказался женщиной, выбил меня из колеи в гораздо большей степени, чем мне хотелось в этом признаваться. У меня были свои причины не любить, когда мне читают наставления женщины, и отнюдь не все эти причины связаны с невыносимым старым афритом Нетти Куэлч, которая, сколько я себя помню, постоянно понукала меня. Не понравилась мне и игра в интерпретацию сна, которая противоречила всем юридическим канонам. Одной из важнейших целей правосудия является установление истины, и этому я посвятил то лучшее, что во мне есть. Какую истину можно найти в тумане снов? Не понравилась мне и бесцеремонная манера, с которой она распоряжалась: я должен принять решение, я не должен попусту тратить время, я должен быть пунктуальным. Она поставила меня в положение, в котором я чувствовал себя глуповатым свидетелем, а такая оценка моих качеств – вершина нелепости. Но я не отступлю перед доктором Иоганной фон Галлер, не сделав по крайней мере еще одной попытки, а может быть и не одной.
По справочнику я узнал, что ее зовут Иоганна. Кроме ее имени, а также того, что она Prof. Dr. Med. und spezialarzt fur Psychiatrie, мне ничего не удалось выяснить.
Ах да, еще была дрожь в руках. Не стоит придавать этому такое уж большое значение. Нервы – ничего удивительного. Но разве не из-за нервов я приехал в Цюрих?
На сей раз мы встретились не в гостиной, а в кабинете доктора фон Галлер; кабинет был темноват и набит книгами; стояло там и несколько современных скульптур, на вид очень неплохих, хотя разглядеть их повнимательнее у меня не было возможности. И еще в оконную раму было вставлено старое витражное стекло, вполне симпатичное, но мне оно не понравилось, потому что смотрелось несколько нарочитым. На столе на видном месте стояла фотография самого доктора Юнга, с автографом. Доктор фон Галлер села не за стол, а на стул рядом со мной; мне был знаком этот прием, предназначенный для того, чтобы вызвать доверие, поскольку таким образом устраняется естественный разделительный барьер – рабочий стол. На этот раз я не сводил глаз с доктора и был настроен не давать ей спуску.
Она была сплошная любезность.
– Я надеюсь, на этот раз у нас не будет никаких рукопашных, мистер Стонтон?
– Надеюсь. Но это будет зависеть только от вас.
– Только? Ну, хорошо. Прежде чем мы начнем – из клиники прибыли результаты обследования. Вы, судя по всему, довольно истощены, и у вас небольшое… нервное расстройство, если вам угодно. Раньше это называлось неврастенией. Еще невралгия. Худоба. Иногда явно выраженный тремор.
– Да, это началось недавно. Я был в стрессовом состоянии.
– А раньше руки никогда не дрожали?
– Изредка, когда приходилось много работать.
– Сколько вы выпили сегодня утром?
– Рюмочку на завтрак и еще одну, перед тем как отправиться сюда.
– Это для вас нормально?
– Обычно я именно столько и выпиваю, когда мне нужно появляться в суде.
– Вы рассматриваете визит ко мне как появление в суде?
– Конечно нет. Но, как я вам уже несколько раз говорил, я был в стрессовом состоянии, а таким способом я снимаю напряжение. Вы, несомненно, считаете, что это плохой способ. Я придерживаюсь иного мнения.
– Я уверена, что вам известны все аргументы против чрезмерного употребления алкоголя.
– Я мог бы, не сходя вот с этого места, прочесть вам превосходную лекцию о пользе трезвости. Я твердо убежден, что трезвость хороша для тех людей, которым она полезна. Я не из их числа. Трезвость – это добродетель среднего класса, а мне принадлежать к среднему классу не судьба. Напротив, я богат, а в наши времена богатство выводит человека из среднего класса, если только он не сам заработал свои деньги. Моя семья богата уже в третьем поколении. Быть богатым означает быть человеком особого рода. Вы богаты?
– Нет, ни в коем случае.
– Вы слишком быстро сказали «нет», по моему мнению. Впрочем, особой нужды вы явно не испытываете, и большинство, несомненно, отнесло бы вас к богатеям. Вот я, например, богат, но не так, как думают. Если вы богаты, вам приходится открывать собственные истины и устанавливать множество собственных правил. Этика среднего класса не годится для вас, а если вы будете ее придерживаться, она вас подведет и выставит на посмешище.
– Что вы имеете в виду, говоря «богатый»?
– Деньги и только деньги. Я не имею в виду богатство ума, или духа, или любую другую напыщенную ерунду. Я говорю о деньгах. Еще конкретнее: я считаю человека богатым, если он имеет годовой доход более ста тысяч долларов, до вычета налогов. А тогда у него есть и масса других свидетельств богатства. У меня значительно больше ста тысяч в год, и большую часть этих денег я зарабатываю благодаря тому, что являюсь одним из лучших в своей профессии – юриспруденции. Я, как говорили раньше, «знаменитый адвокат». А если богатство и знаменитость требуют, чтобы я выпил до завтрака, то я готов заплатить эту цену. Но не сомневайтесь, я чту память предков, которые ненавидели алкоголь, считая его дьявольским наущением, поэтому в первую утреннюю рюмку я добавляю сырое яйцо. Это мой завтрак.
– И сколько вы выпиваете в день?
– Ну, скажем, бутылку – чуть больше или чуть меньше. Сейчас – больше, потому что, как я вам все время повторяю, у меня стрессовое состояние.
– С чего вы взяли, что вам нужен психоанализ, а не лечение от алкогольной зависимости?
– Потому что я не считаю себя алкоголиком. Алкоголизм – это крест среднего класса. У меня в моей стране такая репутация, что, окажись я в обществе анонимных алкоголиков, нелепей фигуры не было бы; а заявись кто-нибудь из них мне помогать, они бы просто испугались. Как бы то ни было, я не буйствую, не падаю мордой в салат и не выставляю себя на посмешище – я просто много пью и предпочитаю быть откровенным. А если бы мне на пару с каким-нибудь анонимным алкоголиком нужно было отправиться к третьему выводить его из запоя, один только мой вид нагнал бы на него страху. Он бы решил, что по пьянке натворил что-то ужасное, а я – его адвокат и что следом явится полиция упрятать его в каталажку. Да и групповая психотерапия не для меня – побывал я как-то раз на одном сеансе… Я не интеллектуальный сноб, доктор, – так мне, по крайней мере, казалось до настоящего времени, – но запанибратство групповой психотерапии не для меня. Исповедоваться не в моем характере – я предпочитаю вдохновлять на исповедь других, желательно когда они дают показания под присягой. Нет, я не алкоголик, потому что алкоголизм – не моя болезнь, а мой симптом.
– Что же вы тогда называете своей болезнью?
– Знал бы – сказал. Но вообще-то я наделся что это вы мне скажете.
– Такое определение на настоящем этапе вряд ли нам поможет. Давайте назовем ваше состояние стрессом, который последовал за смертью вашего отца. Хотите, поговорим об этом?
– А разве начинают обычно не с детства? Не хотите услышать, как меня приучали к горшку?
– Я хочу услышать о ваших сегодняшних проблемах. Давайте начнем с того момента, когда вы узнали о смерти отца.
– Это случилось около трех часов ночи в прошлом ноябре, четвертого числа. Меня разбудила моя экономка – сказала, что звонят из полиции. Это был один мой знакомый инспектор, он сказал, что я должен немедленно приехать в порт, мол, там произошел несчастный случай с машиной моего отца. Он не хотел подробно распространяться, а я не хотел говорить ничего такого, что дало бы пищу для любопытства экономке, которая вертелась поблизости, ушки на макушке, поэтому я вызвал такси и поехал в гавань. У причалов, казалось, царила полная неразбериха, на самом же деле там был порядок, какой только допускала ситуация. Там был ныряльщик с аквалангом, который первым добрался до автомобиля, пожарная служба пригнала грузовик с краном, который как раз поднимал из воды машину, плюс еще стояли полицейские машины и грузовик с прожекторами. Я нашел инспектора, и он сказал мне, что это определенно автомобиль моего отца, а на месте водителя обнаружено тело. Насколько они могли судить, машина съехала с пирса в воду на скорости около сорока миль в час – она еще преодолела некоторое расстояние, прежде чем затонуть. Сторож поднял тревогу сразу же, как только услыхал всплеск, но к тому времени, когда прибыла полиция, точно определить, где находится машина, было затруднительно, а потом около двух часов ушло на водолазные работы, на вызов крана, на то, чтобы зацепить тросом переднюю часть рамы, а потому номерной знак они увидели всего за несколько минут до того, как позвонили мне. В полиции хорошо знали эту машину: у отца был короткий, хорошо запоминающийся номер.
Это была одна из тех кошмарных ситуаций, когда надеешься… ну, на чудо, а здравый смысл говорит, что чудес не бывает. Никто, кроме моего отца, не водил эту машину. Наконец они вытащили ее на причал – грязную, с нее струями стекала вода. Двое пожарных медленно открыли дверь, сдерживая напор воды изнутри, потому что полицейские не хотели, чтобы оттуда вымыло какие-нибудь важные улики. Но вода быстро схлынула, и я увидел его за рулем.
Я думаю, больше всего меня поразила эта жуткая грязь. Отец всегда отличался элегантностью. А теперь он с ног до головы был облеплен тиной, мазутом и всякой портовой дрянью, но глаза у него были широко распахнуты, а руки держали баранку. Пожарные попытались вытащить его, но тут-то и обнаружилось, что он вцепился в руль просто мертвой хваткой и никаким обычным способом ее не разомкнуть. Вы, вероятно, знаете, что такое чрезвычайные происшествия – в подобных ситуациях делают вещи, до которых в обычной жизни ни за что не додумаешься. Наконец они отцепили его руки от баранки – потом, правда, выяснилось, что при этом ему поломали чуть ли не все пальцы. Я не виню пожарных – они сделали то, что нужно было сделать. Его положили на брезент, а потом все расступились, и я понял: они ждут, как я поступлю. Я встал рядом с ним на колени, отер платком его лицо и тут увидел, что у него что-то не так со ртом. Помочь мне подошел полицейский врач, и когда челюсти отца наконец разомкнули, там обнаружился камень, который я вам показывал. Тот самый камень, который вы сами себе положили в рот, потому что усомнились в моих словах.
– Извините, если вас это шокировало. Но пациенты иногда рассказывают такие невероятные истории… Продолжайте, пожалуйста.
– Я знаю полицейские правила. Полиция проявила ко мне максимум сочувствия, но они должны были увезти тело в морг, составить отчет и проделать всю рутинную работу, которая положена даже после самых странных происшествий. Они нарушили правила, позволив мне взять камень, хотя он и был вещественной уликой. Наверное, они не сомневались, что если возникнет необходимость, то я им этот камень верну. Но при этом какой-то репортер заметил, что я взял камень, или выудил эту информацию у доктора, а потому в новостях из этого камня раздули бог весть что. Но они, как и я, просто делали свою работу, вот только у меня помощников совсем не было.
А потому я сделал то, что должен был сделать. Я немедленно отправился в дом отца, разбудил Денизу (это моя мачеха) и сказал ей, что случилось. Не знаю, чего я ожидал. Наверное, истерики. Но она восприняла это известие с ледяным самообладанием, за что я был ей благодарен, потому что если бы она не сдержалась, то и я бы так или иначе потерял контроль над собой. «Мое место там», – сказала она. Но я знал, что полиция должна сейчас проводить экспертизу, и попытался убедить ее дождаться утра. Ни малейшего шанса. Она поедет туда, и немедленно. Я не хотел, чтобы она садилась за руль, а сам я уже несколько лет не водил машину, это означало, что нужно будить шофера и что-то ему объяснять. Ах, эти добрые старые времена, – вот только были ли они? – когда можно было сказать слуге, что нужно сделать то-то и то-то, не вдаваясь в объяснения! Но вот наконец мы оказались в центральном полицейском участке и в морге, а там произошла еще одна задержка, потому что полиция, щадя чувства вдовы, не допускала ее к телу, пока доктор не закончил свою работу и отца худо-бедно не привели в порядок. Потому, когда мы его увидели, он был похож на какого-то пьянчужку, угодившего под ливень, промокшего до нитки. Вот тут-то самообладание изменило ей, а для меня это было хуже некуда, потому что, если хотите знать, я терпеть не могу эту женщину, и как-то поддерживать ее, утешать, говорить всякие слова было для меня сущей пыткой. Тогда-то я в полной мере и осознал весь ужас случившегося. Полицейский доктор и все остальные, кто мог бы протянуть мне руку помощи, были чересчур тактичны и не решались вмешаться. Все дело, доктор фон Галлер, опять же в богатстве: даже ваше горе воспринимается совершенно иначе и никому не приходит в голову осушить ваши золотые слезы. Спустя какое-то время я отвез ее домой и вызвал Нетти, чтобы присматривала за ней.
Нетти – это моя экономка. Вообще-то она – моя старая нянька, и она хозяйничает у меня в доме со времени второй женитьбы отца. Нетти тоже не любит мою мачеху, но она казалась как раз тем человеком, который нужен, – у нее сильный и властный характер.
По крайней мере, так я думал. Но, когда Нетти приехала в дом моего отца и я сказал ей, что произошло, она сорвалась с ручки. Это ее собственное выражение для описания полной потери самообладания – «сорваться с ручки». Она стенала, рыдала взахлеб, жутко, по-бабьи выла и напугала меня до крайности. Пришлось мне ободрять ее и утешать. Я так до сих пор и не знаю, что это с ней стряслось. Конечно, мой отец играл в ее жизни очень важную роль – как и в жизни любого, кто знал его хорошо, – но вы же понимаете, она все-таки не родня. В итоге вскоре моя мачеха принялась приводить Нетти в чувство, а не наоборот; к тому же шофер перебудил всех других слуг, и в гостиной столпилась куча сонного полуодетого народу, а Нетти все голосила и голосила – совершенно дикое было зрелище. Я попросил кого-то позвонить моей сестре Каролине, и вскоре она появилась вместе с Бисти Бастаблом, и я никогда в жизни не был так рад их видеть.
Каролина была ужасно потрясена, но держалась хорошо. Довольно холодная женщина, но не дура. А Бисти Бастабл – ее муж – один из этих толстых одышливых пучеглазых типов, от которых вроде никакой пользы, но у них иногда обнаруживается удивительный подход к людям. В конечном счете именно он отправил слуг готовить горячее питье, именно он успокоил Нетти и предотвратил готовую возникнуть на пустом месте стычку между Каролиной и моей мачехой… Вернее, не на пустом месте, а из-за того, что Каролина слишком рано стала демонстрировать эдакий собственнический подход, ну, как это делают по отношению к тем, кто недавно лишился близких, а моей мачехе не понравилось, что ей в ее собственном доме заявляют, чтобы она, мол, пошла и полежала.
Я был благодарен Бисти, потому что, когда неразбериха улеглась, он сказал: «А теперь по рюмочке, но потом уже больше ни глотка, пока не поспим, как?» Бисти часто добавляет «как?» – это привычка многих богатых людей из Старого Онтарио. Явный реликт эпохи короля Эдварда, только они еще так и не поняли, что это вышло из моды. Но Бисти тогда не дал мне пить слишком много – прицепился, как репей, и не отходил от меня, наверное по той же причине, несколько часов. Наконец я поехал к себе домой, где, к счастью, не было Нетти, и хотя я не спал, а Бисти очень тактичным образом не подпускал меня к бутылкам, я принял ванну и два часа провел в тиши, а потом, в восемь часов, Бисти просунул голову в дверь моей комнаты и сказал, что сделал яичницу. Мне казалось, что я не хочу яичницу. Я хотел взбитое яйцо в бренди, но выяснилось, что яичница на удивление вкусна. Вы не считаете, что есть что-то унизительное в том, как горе пробуждает в нас чувство голода?
Пока мы ели, Бисти объяснил мне, что нужно делать. Даже странно – ведь он всего лишь биржевой брокер, и мы с отцом всегда держали его за дурачка, хотя и вполне порядочного. Но его семья широко известна, и он не раз уже организовывал похороны и хорошо в этом разбирался. Он даже порекомендовал хорошую похоронную контору. А я бы и не знал, к кому обратиться. Я хочу сказать, кто когда-нибудь встречал гробовщика? Это все равно как люди говорят про дохлого осла: вы вот видели когда-нибудь дохлого осла? Бисти сел на телефон и договорился в своей любимой похоронной конторе, чтобы они забрали тело, когда разрешит полиция. Потом он сказал, что мы должны обговорить с Денизой подробности церемонии. Он, казалось, полагал, что она не захочет нас видеть утром, но когда он позвонил, она сразу же сняла трубку и сказала, чтобы мы подъезжали к девяти, и желательно без опоздания, потому что у нее много дел.
Это было очень в духе Денизы – такая деловитость мне всегда в ней и не нравилась. Дело для нее превыше всего, и никто не может ей помочь или сделать для нее что-нибудь, не почувствовав при этом своего подчиненного положения: она всегда должна быть начальником. И конечно, она командовала моим отцом значительно чаще, чем он догадывался, а он был не из тех людей, которые подчиняются. Но таковы уж женщины. Правда?
– Некоторые женщины – определенно.
– Мой опыт говорит мне, что женщины либо стремятся командовать, либо ищут опору.
– А не говорит ли вам ваш опыт то же самое и о мужчинах?
– Возможно. Но с мужчинами я могу разговаривать. А с мачехой не могу. С девяти до десяти Дениза говорила с нами, а возможно, проговорила бы и еще больше, если бы не приход парикмахера. Она знала, что ей предстоят встречи со многими людьми и ей необходимо сделать прическу, потому что позднее у нее такой возможности не будет.
И она такого наговорила!.. У меня чуть волосы дыбом не встали. Дениза тоже не спала – она строила планы. Надеюсь, доктор, хоть сейчас вы признаете, что у меня были причины беспокоиться. Я вам уже говорил, что мой отец был очень важным человеком. Не просто богатым. Не просто филантропом. Он был еще и политиком – большую часть Второй мировой войны занимал пост министра продовольствия и добился немалых успехов. А потом он ушел из большой политики. Эта история стара как мир; примерно так же было с Черчиллем. Масса ненавидит истинно способных людей и призывает их только тогда, когда не может без них обойтись. Прямота и решительность, которые делали моего отца нужным во время войны, стали причиной его неприятностей с мелочными людишками, как только война закончилась, и его попросту затравили. Все же он был слишком заметной личностью, его служба на благо общества давала ему право на признание, и ему предложили стать следующим губернатором нашей провинции. Вы знаете, кто такой губернатор?
– Какая-то парадная фигура, кажется.
– Да, представитель короны в провинции.
– Это высокая честь?
– Да, но таких представителей десять. Мой отец вполне мог бы стать генерал-губернатором, который стоит над всеми ними.
– Очень важная персона.
– Глупцы посмеиваются над парадными должностями, потому что не понимают их. Парламентская система невозможна без этих официальных фигур, представляющих государство, корону, все правительство, а также выборных деятелей, которые, в свою очередь, представляют избирателей.
Он не занял этой должности. Но он получил от госсекретаря официальное извещение о назначении, а в свое время прибыл бы и указ королевы – примерно через месяц. Однако Дениза хотела организовать ему государственные похороны, словно бы он уже был в должности.
Бог мой! Как юрист, я понимал, что это нелепица. В то время когда мы обсуждали этот сумасшедший план, существовал вполне законный губернатор. Никаким образом невозможно было организовать для моего отца похороны по официальному разряду. Но она хотела именно этого: солдаты в парадной форме, подушечка с его орденом «За безупречную службу» и еще одна – с орденом Британской империи, салют над могилой, укрытый флагом гроб и столько политиков и официальных лиц, сколько удастся собрать. Я был ошеломлен. Но что бы я ни говорил, она отвечала: «Может быть, ты и не знаешь, чего Бой достоин, а я знаю».
Мы сильно поскандалили. Наговорили друг другу таких вещей, что бедняга Бисти весь побледнел и все бормотал: «Ну, пожалуйста, Дениза, пожалуйста, Дейви, давайте попробуем мирно…» – что, конечно, звучало совершенно по-идиотски, но он просто не владел лексиконом, уместным в подобных ситуациях. Дениза даже не делала вида, что питает ко мне какие-то добрые чувства, и в выражениях не стеснялась: я был дешевым адвокатишкой для самых низкопробных негодяев, я был горьким пьяницей, я всегда завидовал отцу и, если только мог, непременно перечил ему, я говорил непозволительные вещи про нее и шпионил за ней, но уж на сей раз я должен буду подчиниться, иначе, Господь свидетель, она подвергнет меня невообразимым унижениям, опозорит так, что я никогда не отмоюсь. Я сказал, что она морочила моему отцу голову с первого дня их знакомства, выставляла его своими нелепыми, невежественными претензиями и глупостями на посмешище, а теперь хочет превратить его похороны в цирк, рассчитывая восседать на самом большом слоне. Какое-то время мы говорили друг другу нелицеприятные вещи, можете мне поверить. И только когда Бисти был готов расплакаться – я не преувеличиваю: он шумно втягивал воздух и тер глаза – и появилась Каролина, мы немного успокоились. У Каролины есть такая презрительная манера, которая заставляет простых смертных, даже Денизу, вести себя примерно.
В конце концов мы с Бисти получили приказание отправляться в похоронную контору и выбрать наилучший гроб. Она решила, что более всего подойдет бронзовый, поскольку гравировку можно будет сделать прямо на нем.
«Какую гравировку?» – спросил я. Должен сказать в ее оправдание, что у нее хватило стыда немного покраснеть, и даже искусный макияж не мог это скрыть. «Герба Стонтонов», – сказала она. «Да нет никакого…» – начал было я, но Бисти потащил меня оттуда. «Чем бы ни тешилась…» – шепнул мне он. «Но это мошенничество! – выкрикнул я. – Это претенциозно и нелепо, и это мошенничество». Каролина помогла ему вытащить меня из комнаты. «Дэйви, делай, что тебе сказано, и заткнись», – проговорила она, а когда я возмутился: «Карол, ты не хуже меня знаешь, что это незаконно», то с этим ужасным женским презрением ответила: «Подумаешь!»
Произведения
Критика