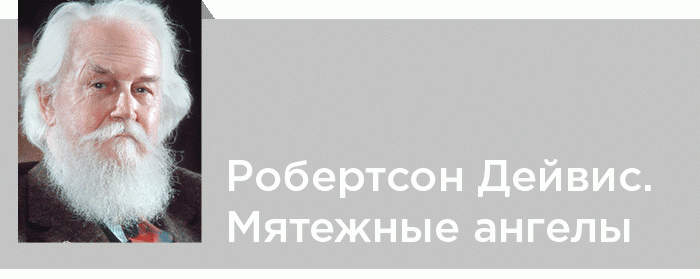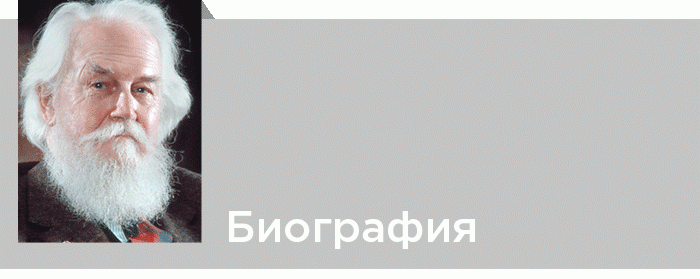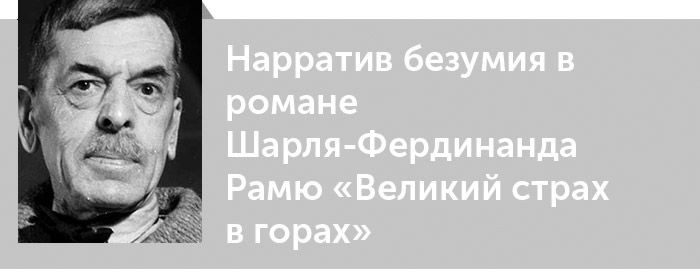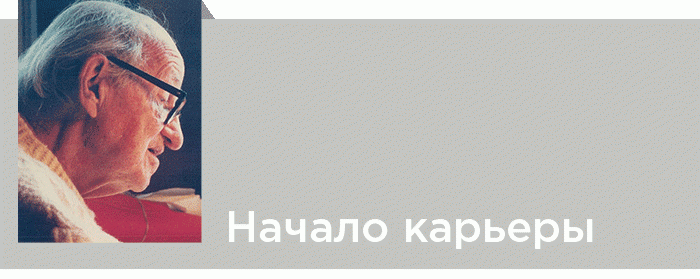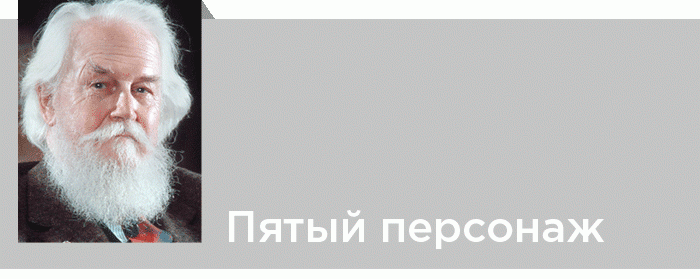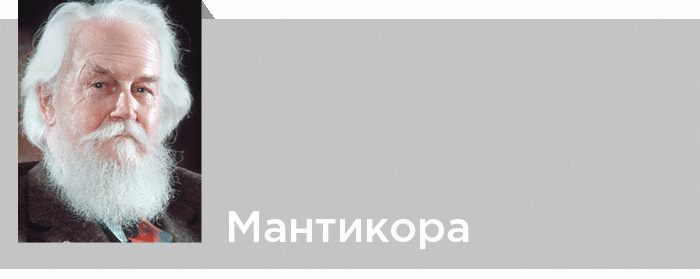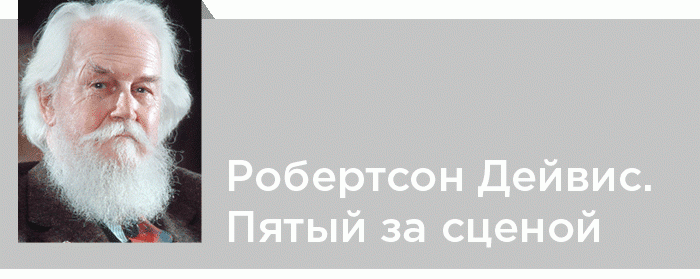Робертсон Дейвис. Мир чудес
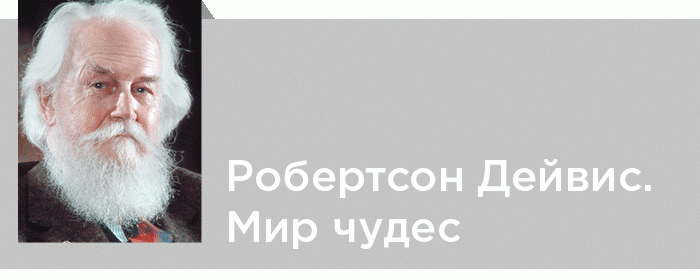
С. Белов
Художественная проза — главная, хотя вовсе не единственная, сфера деятельности Робертсона Дейвиса (род. в 1913 году). Актер лондонского театра «Олд Вик» в далеком прошлом, профессор университета Торонто в прошлом недавнем, журналист и философ, беллетрист и драматург — таковы грани его человеческой и профессиональной индивидуальности. Романы «Пятый за сценой» (1970) «Мантикора» (1973) и «Мир чудес» (1975) составили философско-сатирическую трилогию, явившуюся, несомненно, наибольшим достижением Р. Дейвиса-прозаика (всего на его счету двадцать). Все три получили обширную прессу, причем в общем хвалебном тоне рецензентов — прежде всего зарубежных — отчетливо слышалось одобрительное «наконец-то»: наконец-то, дескать, канадская словесность, вызвавшая к жизни дейвисовскую трилогию, сдала экзамен на аттестат зрелости с учетом программных требований, предъявляемых к новейшей литературе. Энтони Бэрджесс, например, рецензируя вторую часть трилогии, торжественно возвестил, что теперь «литература Канады уже не дочь в материнском (читай: британском. — С. Б.) доме, но хозяйка в своем собственном». Что же до новейших «программных» требований, то к ним относили прежде всего возрастающую интеллектуализацию художественной литературы, крепнущие контакты ее с философией, социологией, историей культуры — понятия, сами собой разумеющиеся в странах с литературной традицией постарше канадской. Поэтому едва ли удивительно, что трилогия Р. Дейвиса (в частности, вторая и третья ее части), представляющая попытку взрастить в суровом канадском климате прихотливые побеги европейского интеллектуального романа, стала объектом столь пристального внимания критики на родине ее автора и за рубежом.
Романы, образовавшие это триединство, строятся по общему ретроспективному образцу и охватывают значительный временной промежуток — от 1908 года до наших дней. Столь же обширен и пространственный диапазон трилогии. Из захолустного Дептфорда (провинция Онтарио), где проходит детство героев, действие переносится то в Европу (в Англию, Францию, Швейцарию), то в Соединенные Штаты, то в Южную Америку, то возвращается в Канаду. Все основные события происходят в «Пятом за сценой»; вторая же и третья книги толкуют и перетолковывают неясные места первой, восполняют пробелы в биографиях действующих лиц, подробно останавливаются на том, что было намечено лишь штрихами.
Словно посмеиваясь над литературной нарочитостью внешне событийного слоя повествования, автор-демиург приглашает читателя не слишком увлекаться «интригой», но устремиться к тому, что скрывается за фабульным фасадом. Отсюда известный схематизм в обрисовке персонажей, каждый из которых интересен не сам по себе, но своим местом в «системе».
Тщательно отлаженный сюжетный механизм трилогии приходит в движение от сущего пустяка — снежка, которым одиннадцатилетний Бой Стонтон запустил в сверстника и приятеля Данстана Рамсея (рассказчика в первой и третьей книгах), но попал нежданно-негаданно в беременную супругу местного священника. Нервное потрясение вызвало преждевременные роды. Так появился на свет третий из основных персонажей — Поль Демпстер, впоследствии Магнус Айзенгрим, знаменитый маг и иллюзионист. Впрочем, «бенефис» его еще впереди, в «Мире чудес», а в «Пятом за сценой» он существует на периферии — значительно больше Р. Дейвиса интересуют пока Бой Стонтон и Данстан Рамсей.
Биография Стонтона — сплошная вереница удач, побед и достижений. Человек редкой предприимчивости и кипучей энергии, он преумножает отцовское, на сахарной свекле сколоченное, состояние, доводя его до семизначной цифры, не без успеха занимается политикой. Он не склонен предаваться рефлексиям, сентименты ему смешны, душевные терзания неведомы. Все, что мешает его восхождению, безжалостно устраняется с пути. Иной тип являет собой Рамсей. Его жизнь — образец самодисциплины и верности долгу. Однако талантливый и эрудированный Рамсей не находит в себе сил вырваться из цепких объятий канадской обыденщины, большая часть его жизни проходит в трудах и заботах на скромном учительском поприще (он преподает в школе историю).
В 1968 году все трое сводятся автором на очную ставку в доме Рамсея, где последний предъявляет собравшимся тот самый «снежок», что когда-то искалечил м-с Демпстер и стал причиной преждевременного появления на свет Поля, точнее, тот камень, что вредный мальчишка Стонтон много лет назад вложил в снежок. На следующий день Стонтон погибает при загадочных обстоятельствах: его обнаруживают на дне озера с этим самым камнем во рту. Кто же посягнул на жизнь всесильного миллионера, без пяти минут губернатора провинции Онтарио?
Реконструируя в романе «Мантикора» этапы воспитания чувств главного героя — здесь им оказывается сын Стонтона Эдвард, — писатель свидетельствует, что вся система буржуазных отношений — и внутрисемейных и общественных — направлена на полное подчинение эмоционального мира личности деляческой целесообразности и здравому смыслу, воплощением которых выступает Бой Стонтон. И вопрос «кто убил Боя Стонтона?» внезапно оборачивается расследованием дела о том, «кого погубил Бой Стонтон?» Среди жертв его эгоизма и безответственности — несчастная м-с Демпстер, в результате инцидента со снежком лишившаяся рассудка, и его собственная жена Леола, покончившая с собой, отчаявшись обрести в муже человека, способного на привязанность. Эдвард же парадоксальным образом оказывается жертвой гипертоофированного — и по-своему понимаемого — отцовского чувства ответственности. Стонтон не жалеет усилий, чтобы сделать из сына «делового человека»: то посредством насмешливой иронии, то советом, то прямым вмешательством. «Стонтоновским» принципам отвечает и обучение Эдварда в Оксфорде, где персонаж постигает тайны юриспруденции под руководством слепого профессора (чья слепота, как нетрудно догадаться читателю, явление не просто физиологическое). Итог неутешителен: талантливый юрист, признанный мастер своего дела, Эдвард к сорока годам потерпел поражение как человек, «не состоялся» как целостная личность. Им овладел недуг, носящий, по Р. Дейвису, в современном мире характер эпидемический. Это — неумение чувствовать, неспособность любить, атрофия души. Разочарованный в самом себе и окружающих, неврастеничный, склонный к алкоголизму Эдвард прибегает, как к последнему средству, к психоанализу. Но и психоанализ в глазах Р. Дейвиса вовсе не панацея от всех бед цивилизации. Исцеление, с его точки зрения, могут принести лишь личные усилия страждущих, направленные на преодоление того зла, что выявил аналитик, будь то врач или художник (для Р. Дейвиса в этих понятиях много общего). Не случайно тема творчества, судьбы художника в деловом и рациональном обществе становится главенствующей в третьей части трилогии — «Мир чудес».
Читатель, во что бы то ни стало пожелавший разыскать героя или теорию, которые можно было бы безбоязненно отождествить с автором и его позицией, рискует оказаться в лабиринте. Что есть истина и что заблуждение, факт и фикция, добро и зло — в рамках таких антиномий рассматривается Р. Дейвисом история превращения Поля Демпстера, вечной жертвы насмешек дептфордских мальчишек, предводительствуемых Боем Стонтоном, в могущественного Айзенгрима. Великий маг XX века, как он без ложной скромности себя аттестует, Мангус Айзенгрим снимается в фильме не менее великого шведского режиссера Юргена Линда о великом же Робер-Удэне, французском иллюзионисте XIX века, а в свободное от съемок время повествует о себе коллегам и друзьям (среди которых оказывается вырвавшийся наконец из Канады Рамсей). Эти своеобразные семинары продолжаются и в отсутствие Айзенгрима — участники всесторонне и неторопливо раскладывают по полочкам чужую жизнь, стараясь осмыслить ее «под знаком вечности».
Космополитический творческий союз, обосновавшийся на вилле Зоргенфрай в Швейцарских Альпах, в описании «заседаний» которого настойчиво проступают интонации «Волшебной горы» Т. Манна, выполняет в последней части трилогии важнейшие «идеологические» функции. Нельзя усомниться в том, что канадский писатель очень дорожит великим культурным наследием Европы. Разрыв с традицией (или намеренное игнорирование ее), по его мнению, свидетельствует о кризисных процессах в современном западном сознании. Связь с великим прошлым, сохранение общих культурных ценностей, взаимодействие художников разных национальностей — все это, считает Р. Дейвис, необходимо в борьбе с потребительской цивилизацией, погрязшей в «частном интересе» и несущей ее обитателям разобщение и бездуховность. Недаром его канадцам — и Рамсею, и Айзенгриму — так свободно дышится в Европе. В Цюрих едет и Эдвард Стонтон — если уж психоанализ, так непременно высшей, юнгианской пробы. Канада отдана на откуп таким, как Бой Стонтон.
Однако если «швейцарские» эпизоды романа не однажды побуждают читателя вспомнить о Томасе Манне, то за всей линией повествования, связанной с образом «мага» Айзенгрима, как бы встают тени Гарри Галлера и «Магического театра» — эти емкие символы нерасторжимости иллюзии и реальности, искусства и жизни, порожденные воображением Германа Гессе. Итак, Демпстер-Айзенгрим, кто же он?
Живой, одушевляющий «механизм» несравненного Абдуллы — автомата, играющего в карты, гордости балагана с громким именем «Мир чудес». Дублер знаменитого театрального актера романтической школы, подменяющий его при выполнении тех трюков, что не под силу самому маэстро (таких, как хождение по канату). Чародей из всемирно известного представления «Вечер иллюзий». Таковы этапы его артистической карьеры. Симптоматично, что в этой биографии менее всего идет речь о становлении, эволюции творческой личности. Любой очередной фрагмент из его прошлого — доказательство или опровержение очередного тезиса дейвисовской «теории» судьбы художника в XX веке. Собственно, теории как таковой нет. Щедрой рукой, как фокусник из цилиндра, Р. Дейвис раздает образы-символы, афоризмы, которые, будучи высказаны разными персонажами, приходят в столкновение при попытке свести их в систему. Системосозидательство, умозрительный подход к живой действительности вызывают у автора усмешку, изредка проглядывающую за тем бесстрастным видом, с которым он предлагает читателю новые концепции и настаивающие на расшифровке символы.
Читатель готов поверить в то, что с искусством Р. Дейвис связывает исключительно игровое, развлекательное начало (недаром от имени художника у него выступает иллюзионист). В этом есть своя справедливость, ибо интеллект, по мнению Р. Дейвиса, все расколдовывает и расколдовывает мир, того и гляди в нем ничего не останется, если не считать пресловутой системы «положительных законов, открывающихся деятельному разуму». Человеку хоть изредка надлежит освобождаться «от логарифмов» в каком-нибудь «Мире чудес» или на «Вечере иллюзий», где правит искусство, видимость и сущность водят причудливые хороводы, а работягу-рассудок дурачат и водят за нос, как морочил своих доверчивых карточных партнеров Абдулла. По Дейвису, искусство — это и «ловкость рук», в основе которой каждодневные упражнения, и умение отвести глаза почтеннейшей публике. Но, и это для Р. Дейвиса стократ важней, искусство — это исследование человеческой души, это путь постижения истины, которая — об этом прозаик не раз говорит на страницах трилогии — постигается нелогическим, интуитивным способом. (Впрочем, вот еще один парадокс: утверждение интуитивного начала осуществляется у Р. Дейвиса самым что ни на есть рассудочным способом, а магический театр Магнуса Айзенгрима никогда и не стал бы великой силой, если бы создатель его не опирался на интеллект своей верной соратницы — некой Лизль Негели.) Искусство, наконец, может быть действенной силой с правом решающего голоса. В конце романа выясняется (или, вернее, предлагается как возможная гипотеза, ибо Р. Дейвис от категорических суждений воздерживается), что Айзенгрим приложил-таки руку к гибели Боя Стонтона. Встреча того и другого, последовавшая за «очной ставкой» у Рамсея, — своего рода сеанс гипноза, когда Айзенгрим, выслушав сетования стареющего и страшащегося старости миллионера, наводит его на решение покончить с собой — романтический выход из сугубо практической игры, которую Стонтон уже не в силах вести.
Что ж, можно понять писателя, который не устоял перед соблазном дать возможность Художнику (или, если угодно, эстетическому сознанию) сокрушить Капиталиста (воплощающего сознание практическое), хотя бы только в словесном пространстве романа. Но не следует ли это понимать в том смысле, что и самая возможность такой расправы существует для Р. Дейвиса исключительно в пределах «словесного пространства»? Как оценивать в этой связи прогрессирующую пассивность Рамсея, олицетворяющего, между прочим, сознание нравственное? И почему это нравственное сознание оппонирует у Р. Дейвиса сознанию эстетическому? Словом, нерешенных вопросов и неснятых противоречий в трилогии канадского романиста — этом почти тысячестраничном следствии по делу о буржуазной цивилизации — немало. Нередко сам следователь, забыв присущую ему ироничность, с серьезной торжественностью начинает комментировать и иллюстрировать положения модных авторитетов (в первую очередь Юнга и Шпенглера). Все это, однако, не умаляет художественной значимости трилогии, не только стимулирующей самостоятельную, творческую мысль читателя, но и дающей трезвое изображение кризисных процессов и социальных изъянов общества, в котором живет и работает ее автор.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 44-48.
Произведения
Критика