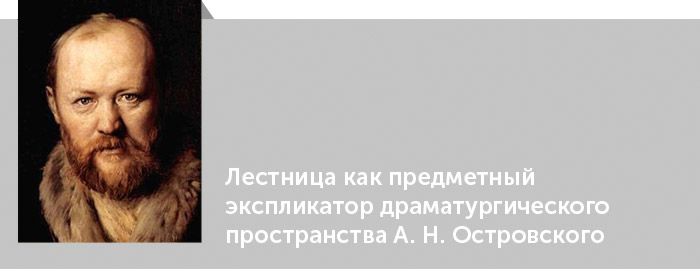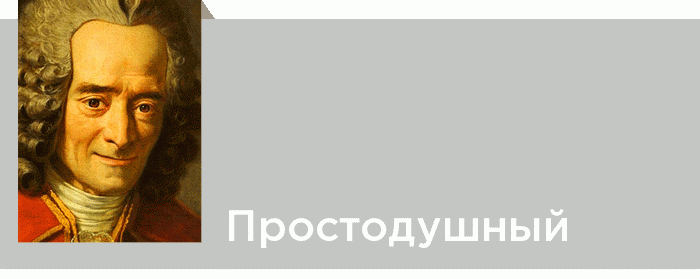О некоторых прототипах «Кандида»

Л. С. Гордон
Любовь Вольтера к псевдонимам общеизвестна: ведь и само прославленное имя Вольтер является псевдонимом, под которым выдвинулся молодой Франсуа-Мари Аруэ. Позднее он выступает то под именем английского священника доктора Гудхарт («Добросердечный»), то от лица русского дворянина Ивана Алетова («Правдин») и т. д. Его любимое детище, философский роман «Кандид или оптимизм», также опубликован им в
Порой Вольтер нагромождает псевдоним на псевдоним: так, летом* г. в качестве автора «Кандида» называется некий мифический «капитан Демад из Брауншвейгского полка»; и, публикуя в
Точно так же Вольтер охотно превращает в смысловой каламбур имена своих современников: так, его друг и соратник по борьбе против иезуитов Морле (Morellet) под его пером превращается в Mords-les — «кусай их»; враг энциклопедистов Палиссо (Palissot) в его письме назван palis-sot — «бледней, глупец». Принцип построения такого имени-каламбура везде одинаков: меняется правописание, но сохраняется звучание, тогда полностью переосмысляется семантическое наполнение имени. И даже название науки Панглосса в «Кандиде» — «метафизико-теолого-космоло-нигология» — содержит каламбур, дающий оценку этой науке: nigaud по-французски — «дурак, простофиля». Отсюда — nigologie Панглосса, «дурацкая наука».
* * *
О ссоре Вольтера и Фридриха Прусского написано очень много: достаточно вспомнить специальный раздел «Voltaire et Frédéric» в восьмитомном исследовании Денуартерра. Перечень этой литературы может легко быть найден в известной библиографии М. М. Барр. И во всех, даже школьных, комментариях к «Кандиду» отмечено, что за «королем болгар», одним из персонажей романа, кроется Фридрих. Не разъяснено лишь, почему, если действие начальных глав романа развертывается в Вестфалии, в него вторгается именно болгарский король.
Ответ на этот вопрос мы найдем в характере полемики той эпохи, в характере самого Вольтера; а, кроме того, он сам разъяснил своим внимательным читателям, что это значило тогда во Франции. В его «Философском словаре» есть статья «Bulgares ou Boulgares», где показана идущая еще из средневековья, из клеветы церковников на еретиков-альбигойцев связь этого слова с ругательством bougre. Свою статью Вольтер заканчивает иронической pointe: «Об этимологии этого прекрасного имени сказано вполне достаточно».
Известно, что в
Исследователь вопроса о деятельности Вольтера в эпоху Семилетней войны де Брой резюмирует отношение Вольтера к прусскому королю следующими словами: «К удовольствию от созерцания поражений своего преследователя присоединялась более изысканная радость быть призванным ему на помощь». Но Вольтер — живой человек со многими недостатками, а не гипсовый святой: откровенность с врагами не входила в число его добродетелей, и в письмах Фридриху II и его сестре, маркграфине байрейтской, он установил тон самого восторженного поклонения.
Фридрих, впрочем, знал цену этим излияниям и держался настороже. Чрезвычайно выразителен в этом отношении дневник придворного чтеца Фридриха II, де Катта. Король бывал с ним откровенным и порой даже советовался с ним — и мы видим, что Фридрих то в восторге восклицает: «...Вы видите, мой дорогой, что Вольтер меня не забывает: теперь наша переписка возобновится», то выражает самую неприкрытую подозрительность и злобу: «...как жаль, что ему нельзя доверять». Отмечено де Каттом и такое высказывание Фридриха о Вольтере: «Когда вы видите его спокойным, это наверняка означает, что он задумывает какую-нибудь гадость!».
Совершенно очевидно, что «возобновление» их дружбы к этому времени есть чистейшая видимость. К этому надо прибавить, что Вольтер в период Семилетней войны стремился поправить свои отношения с французским правительством и пытался содействовать тому в переговорах с Фридрихом, т. е. действовал в направлении, диаметрально противоположном желаниям последнего. Известно, что Вольтер давал свои письма к прусскому королю на просмотр французскому министерству иностранных дел; сохранились замечания посланника Шовлена на его не дошедшее до нас письмо. Вместо дипломатической помощи Фридриху он отвечал тому инспирированными свыше письмами и памфлетами.
Рассмотрим «Кандида» в свете этих настроений Вольтера и вспомним, что Вестфалия и в его глазах, и в глазах его современников являлась pars рго toto — символом Германии вообще. Это объясняется, можно думать, тем, что в памяти французов крепко держался 1648 год — дата Вестфальского мира, решавшего судьбу Германии после завершения последней большой войны Европы — Тридцатилетней войны. Курсы истории, выпускавшиеся в XVIII в., именно эту дату брали как исходную; примером может служить хотя бы книга из библиотеки Вольтера, носящая следы его внимательного чтения: Tableau de l'histoire moderne, depuis la chute de I'Empire d'Occident, jusqu'à la paix de Westphalie Par. M. le chevalier de Méhégan. T. 1-3, Paris, 1766.
Уже во время своей первой поездки к Фридриху в
О detestable Westphalie!
Vous n’avez chez vous ni vin frais,
Ni lit, ni servante jolie...
В
Читая описания Берлина в «Мемуарах», мы находим целые фразы, очень легко приложимые к описанию вестфальского замка, родины юного Кандида. Вот, например, одна из них: «...Берлин разрастался; в нем начинали познавать прелести жизни, бывшие в большом пренебрежении у покойного короля (Фридриха-Вильгельма, отца Фридриха II. — Л. Г.): некоторые лица имели мебель, большинство даже носило рубашки». Сравним это с замком Тундер-тен-Тронк, в котором были даже окна и двери. И дальше (Вольтер делает вид, что расточительная роскошь версальского двора является нормой, а скромность Потсдама — нечто необъяснимое): «Если вы хотите знать королевские церемонии этого подъема, каковы были большие и малые выходы, каковы были функции его главного духовника, его старшего камерария, его первого камергера, его привратников, — я отвечу вам, что один лакей приходил разжигать его камин, одевать и брить его». И несколько поздней читаем: «...именно его камер-лакей Фредерсдорф и был одновременно его главным дворецким, его старшим виночерпием и старшим хлебодаром». Не совпадает ли это с замком барона в «Кандиде», псарь которого был и его великим ловчим, а деревенский викарий — его главным духовником?
И повторяя жалобы стихотворения
Вольтера — автора «Мемуаров» — поражает контраст между «строгостью военной дисциплины и негой внутри дворца, между пажами, которыми забавляются в своем кабинете, и солдатами, которых пропускают шесть раз сквозь строй под окнами монарха, смотрящего на это». Вспомним, кстати, что Кандида в армии болгарского короля тоже прогнали сквозь строй тридцать шесть раз и что король его простил «с милосердием, которое будет восхвалено во всех газетах и во всех веках».
Уже общепризнано, что король болгар — это Фридрих. Но Фридрих фигурирует в романе и в другом облике. Рассматривая «краутюнкерский» замок барона как резиденцию Фридриха, зная манеру Фридриха ругаться — Donner dir или, в отсутствие провинившегося, — Donner dem имя рек — и вспоминая любовь Вольтера к именам-каламбурам, мы можем и название замка Thunder-ten-Tronkh расшифровать как «гром на Тронка», или точней — на Тренка.
Барон Фридрих фон дер Тренк (1726-1794) — майор австрийской кавалерии, одно время близкий ко двору Фридриха и возлюбленный его сестры Амалии. Не имея за собой «72-х поколений предков», он был признан недостаточно знатным претендентом на руку принцессы и удален из Потсдама; поздней, за попытку установить тайные сношения с Амалией, закованный в цепи, он был брошен в казематы Магдебургской крепости, где провел без малого десять лет. Окончил он свою жизнь на гильотине, отправленный туда Комитетом общественного спасения по обвинению в шпионаже вскоре после казни Анахарсиса Клоотса с другими иностранцами-якобинцами.
История его любви, изложенная им самим в «Мемуарах» под названием Friedrich Freyherrn von der Trenck merkwürdige Lebensge- schichte (Berlin, 1787, 3 Bd.), попала в скандальную хронику эпохи и в свое время немало испортила крови Фридриху. Ж. Сарей в книге «Эссе о «Кандиде» тоже полагает, что имя Тренка могло натолкнуть Вольтера «на столь забавную аллитерацию», но он не замечает сюжетных совпадений автобиографических записок Тренка и «Кандида».
Наивный (или притворяющийся наивным) голос — голос Кандида — слышится в его жалобах: «Это была дама, на которую я мог взирать лишь с благоговением; и так как я не пишу романа приключений, а лишь сухо повествую, то скажу кратко, что это было обоюдно нашей первой любовью и что до настоящего времени я не кляну ни одного несчастья, восставшего из этого благородного источника и слившегося с ним в сцеплении моей судьбы» (Bd. 1, S. 30). Дальше мы находим и угрозы, и брань Фридриха: «Тут король мне сказал, проходя мимо: «Сударь! Гром и молния падут вам на сердце — остерегайтесь же» (Ebenda, S. 42).
Если прочитанное нами верно, то мы получаем mutato nomine следующую расстановку героев романа: Фридрих фон Тренк — Кандид, Амалия Прусская — Кунигунда; Фридрих II — ее брат, в начале ученик Панглосса, позднее — полковник иезуитских войск в Парагвае, а в конце романа — каторжник на галерах, единственный персонаж, которому за его спесь и неблагодарность не находится места на «островке спасения», в саду, который обрабатывает Кандид.
Прочитанный таким образом «Кандид» оказывается свирепым памфлетом, ядовито персифлирующим семейные дрязги Бранденбургского дома. Приключения Кунигунды, достающейся (как дочь короля дель Гарбо в «Декамероне») то болгарскому капитану, то португальскому инквизитору и одновременно с ним еврейскому ростовщику и, наконец, — дону Фернандо д’Ибарраа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суза, приобретают особую остроту в свете того обстоятельства, что реальная Кунигунда-Амалия после разлуки с Тренком стала аббатиссой женского монастыря. Но само слово abbesse обросло во Франции такой плотной фольклорной и литературной традицией (от сборника Cent nouvelles до Vert-Vert Грессе), что оно одно могло натолкнуть Вольтера на злую шутку.
Не домысел ли все это? Прочитал ли кто-нибудь из современников «Кандида» так, как он читается здесь? Прямого ответа на этот вопрос мы не находим: но есть косвенные указания на то, что некоторые читатели эту отравленную стрелу заметили. Вероятно, эти читатели ближе других знали сплетни эпохи, ее potins. Попытаемся расшифровать эти косвенные указания.
Один из первых откликнувшихся на роман органов, уже упомянутый выше Journal Encyclopédique, в своей рецензии допускает (сознательную?) опечатку, и барона Тундер-тен-Тронк систематически именует Тундер-тен-Тренк (Thunder-ten-Trunkh — англизированному Thunder вместо немецкого Donner отвечает и английская транскрипция фамилии Тренка, обеспечивающая ее правильное произношение) — таково первое из этих косвенных указаний.
Вторым указанием может являться продолжение «Кандида», написанное неким Торель де Кампиньель. Там мы узнаем, что Кандид, расставшись со своим садом и друзьями и пройдя через ряд новых приключений, снова пробует соединиться с Кунигундой, обретшей свою былую красоту (!), — и тут он схвачен и закован в цепи. Бесчеловечная тяжесть кандалов, в которые Фридрих заковал возлюбленного своей сестры, была известна многим; автор «Второй части» заковывает своего героя в кандалы весом в
И последним из доступных свидетельств, наконец, является для нас вспышка ярости Фридриха. В
Но де Катту он признавался: «Я уверен, что, читая мое письмо, он скажет: «Этот... (многоточие в подлиннике. — Л. Г.), кажется, совсем не задет всем этим, и моя злоба не попала в цель». Таким образом, по мнению Фридриха, «Кандид» написан, чтобы задеть его, и свидетельствует о злобе Вольтера. Поэтому он ответил Вольтеру не только приведенным выше любезным письмом, но и оскорбленной эпиграммой: Candide est un petit vaurien Qui n’a ni pudeur ni cervelle,
A ses traits on reconnaît bien Frère cadet de la Pucelle.
Leur vieux papa, pour rajeunir,
Donnerait une belle somme;
Sa jeunesse va revenir,
Il fait des oeuvres de jeune homme.
Tout n’est pas bien: lisez l’écrit,
La preuve en est à chaque page,
Vous verrez-même en cet ouvrage Que tout est mal, comme il le dit.
Об этой эпиграмме еще идут споры: ее можно найти не только в академическом издании произведений Фридриха, но и в сборнике стихов известного остроумца второй половины XVIII в. Шамфора.
Однако историограф Бранденбургского дома И. Д. Е. Прейс безапелляционно приписывает ее Фридриху. Это подтверждают и некоторые погрешности против французского языка (Frère cadet, без необходимого перед frère артикля), которых Шамфор не допустил бы даже в порядке licentia poetica. А, кроме того, Шамфор, которому в
В пользу авторства Фридриха говорит и срок появления этой эпиграммы в Париже: Гримм помещает ее в своей «Корреспонденции» за июнь
Если же эту эпиграмму написал Шамфор (в чем можно сомневаться), то уместно спросить себя, почему она попала к Гримму так поздно; роман был новинкой в феврале, а Шамфор не был столь медлителен в своих реакциях.
Существует еще один вариант той же эпиграммы, упомянутый аббатом Гюйон, который приписывает его перу какого-то неизвестного военного, будто бы оскорбленного непочтительным отзывом Вольтера о «героях». Он отличается от основного текста лишь 3-й строкой 1-го катрена:
Qu’il est frère de
Но важней всего то, что сам Вольтер считал автором эпиграммы Фридриха и искренне наслаждался этим. Приведем беседу с Вольтером, записанную его гостем в
AhIQu’on le reconnaît bien Pour le cadet de la Pucelle,
«Вы кажется теперь не в ладах с ним, — сказал я. — Это одновременно ссора немца и влюбленного. — Он улыбнулся...».
Интересно отметить, что Вольтер сам сократил и выправил погрешности эпиграммы; чувство ревнителя стиля пересилило отвращение к надоевшему еще во времена Потсдама «грязному белью».
Характерно и то, что после «Кандида» и «Мемуаров» высказывания Фридриха о Вольтере, записанные де Каттом, становятся резко озлобленными. Так, когда в печать попали стихи Фридриха, которые он хотел оградить от общественного мнения, он прямо и грубо обвинял в этом Вольтера: «Вы увидите, что это сделал Вольтер; только этот мерзавец (coquin) способен сыграть со мной такую шутку, — я вижу этого негодяя (drôle) насквозь». Несколько позднее он же говорил о своем «друге»: «Этот человек во сто раз злей собак, дерущихся на улице из-за кости; они забывают свою ненависть, как только отомстят за себя, Вольтер же никогда не забывает, никогда не прощает, он странное, коварное существо, его опасно раздражать; он кусает даже когда его не дразнят».
Стрелы, очевидно, жалили больно, и было тем больней и тем обидней, что, кажется, сам Фридрих и подал когда-то Вольтеру мысль о «Кандиде». «Если бы вы захотели сочинить какого-нибудь Акакию, вы имели бы хороший материал, собрав глупости, творящиеся в нашей доброй Европе. Нужно пороть людей, а совсем не моего бедного президента, который может быть и написал не очень продуманную книгу; но эта книга не сделала и не наделает никогда в мире того зла, которое делают героические глупости политиков. Если у вас остался хоть один зуб, используйте его на то, чтобы искусать их; это будет хорошим использованием».
Еще давно, в начале их дружбы, читая тома Лейбница и Вольфа, присланные ему из Берлина, Вольтер писал Фридриху, еще не ставшему королем: «Я брошусь во мрак метафизики, чтобы осмелиться сразиться с Лейбницами, Вольфами, Фридрихами». И через 20 лет сам Фридрих этим своим письмом вложил Вольтеру в руки оружие против Лейбница с Вольфом и против себя.
Потому что «Кандид» — философский роман, отнюдь не сосредоточенный на чисто умозрительных вопросах. Вернее говоря, это философский роман в том смысле, как понимает философию XVIII век. По определению «Энциклопедии» Дидро и Даламбера, философия распадается на философию теоретическую и практическую; теоретическая философия делится на учение о боге — теологию; учение о душе — психологию и учение о материи — космологию. Практическая же в соответствии с этим имеет ветви — культ, мораль и политику.
Именно в этом широком понимании слова и надлежит искать философию «Кандида»: отсюда и ширина «фронта атаки». Помимо вопросов метафизики, теодицеи (Mr. de Leibnitz ne pouvant avoir tort) в романе подверглись нападению церковь (парагвайские главы романа) и политика. А основным злом в политике во времена Семилетней войны для Вольтера был Фридрих. Отсюда этот свирепый persiflage и удар по самым болезненным, уязвимым местам в «Кандиде» и последующая атака (так кавалерия рубит беглецов) в «Мемуарах».
Итак, мы обнаружили в «Кандиде» два удара по Фридриху: один прямой и почти не замаскированный, философский выпад против короля-агрессора (с обертоном — короля болгар) и второй — по чувствам брата и по достоинству человека. Нет слов, что второй выпад несколько снижает облик Вольтера: «месть» может показаться мелкой. Но ведь известно, что Вольтер-человек не всегда держался на самой большой высоте: вспомним хотя бы его ссору с президентом де Бросс.
Но, могут спросить меня, было ли свойственно Вольтеру вообще вводить в свои художественные произведения живых людей, своих современников? Ответ на это — в его творчестве: так, в своей трагедии «Скифы» (1767) Вольтер изображает самого себя и свою племянницу госпожу Дени (под масками древних персов, живущих в Скифии), а в комедии «Monsieur du Cap-Vert», известной также под названием «Les Originaux», написанной им для домашнего театра, он выводит своего женевского приятеля «Корсара» Риё (Rieu) и наделяет фамилией своего архитектора Ракля (Racle) откровенно фарсовый персонаж пьесы, глупую гувернантку, виновницу нелепых qui pro quo; при этом имя Ракля превращается в Рафль, создается новая игра словами: racler означает скоблить, rafler — грабить, как в свое время критик Вольтера Фрерон превратился в Фрелона («трутня»), Ракль был очень жаден и требовал от Вольтера огромных («грабительских») гонораров. Ко времени создания этой комедии Вольтер был уже прославленным «Фернейским патриархом» и мог себе позволить такую шутку. Но и много раньше, когда он был изгнанником и гостил в Сире у г-жи дю Шатле, он и тогда развлекался волшебным фонарем, показывая ее гостям комедии своего сочинения. Г-жа дю Графиньи, участница этих вечеров, пишет: «После ужина он показывал нам волшебный фонарь и мы чуть не умерли со смеху от его слов. Он вывел сторонников (coterie) герцога Ришелье, историю аббата Дефонтен, излагая свои побасенки с акцентом савояра. Нет, ничто не могло быть забавней!».
Точно так же Вольтер и показал Фридриха, как в театре марионеток, использовав его и его близких как прототипы своего философского романа. Самый вопрос о прототипах — всегда спорный вопрос. Бывает, что бумаги и черновики авторов или их устные высказывания дают наводящие или точные указания; счастлив в таком случае исследователь. Но психология творчества, подспудная лаборатория художественного мышления, очень сложна; и там, где прямые высказывания авторов или документальные доказательства отсутствуют, на помощь должна прийти гипотеза.
И гипотезе не мешает распадение реального Фридриха на несколько ипостасей: короля болгар, старого барона Тундер-тен-Тронк и его сына. Такие случаи литературе известны: распался же реальный исторический Шванвич, офицер-дворянин, перешедший на сторону Пугачева, на образы добродетельного героя Петруши Гринева и злодея Швабрина (в романе Пушкина «Капитанская дочка»). Автор строит свой мир не из выделяемой его гением паутины абстракций, а из воспринятых впечатлений. Абсолютной портретностью персонажи романа никогда не отличаются: художник не копирует, а создает образы. Но оправдана и наша попытка найти за этими образами живых людей, современников автора.
И, наконец, еще вопрос: меняет ли вопрос о прототипах значение романа? Однозначного ответа тут не может быть: тут есть и да и нет. Нет — потому, что философской (антиоптимистической) сути романа этот момент не касается. И да — потому, что он расширяет наши представления о философском романе: философия тут не уходит в дебри метафизики, а чрезвычайно злободневно вторгается в реальную жизнь своего времени, живя его страстями и скандалами. Выпад Вольтера против короля-агрессора был элементом его борьбы против бессмыслиц и несправедливостей абсолютизма вообще; но лишь попутной забавой, сведением старых личных счетов был выпад против Фридриха-человека. А фонетический гротеск, каламбур с именем Тундер-тен-Тронка был лишь очередным каламбуром, нечаянной жертвой которого оказался барон Фридрих фон дер Тренк.
Л-ра: Филологические науки. –1970. – № 6. – С. 27-36.
Произведения
Критика