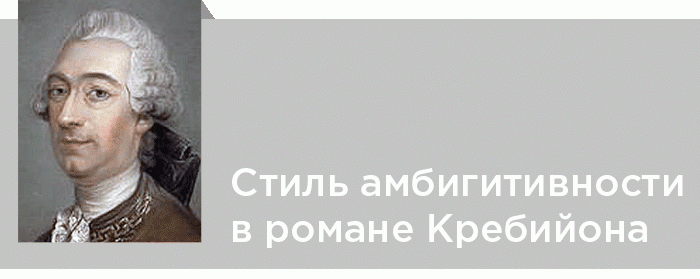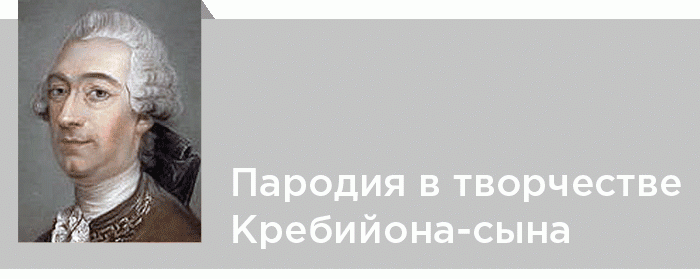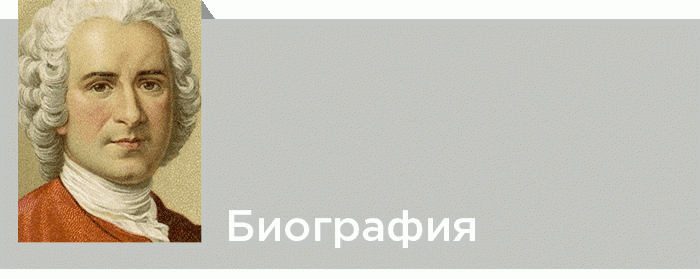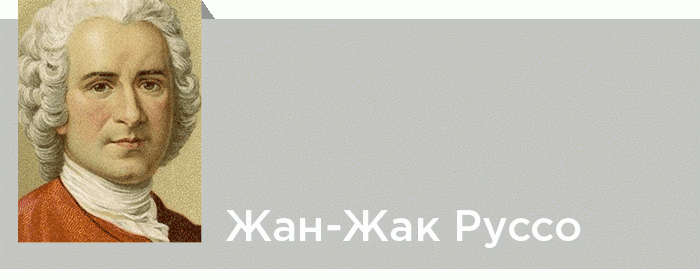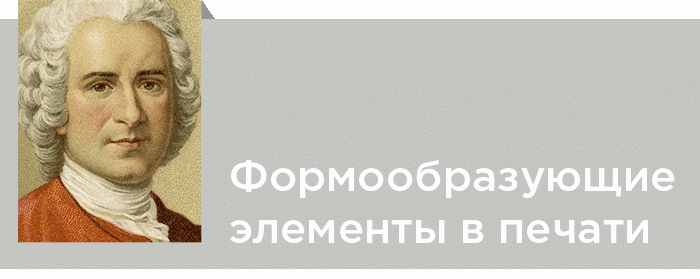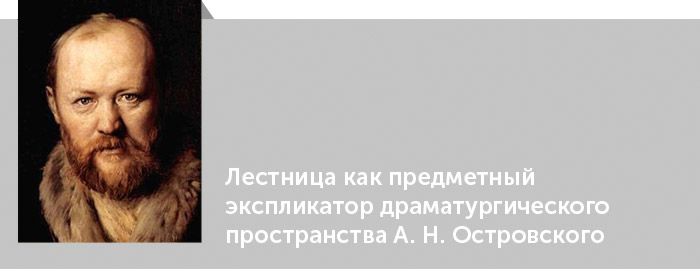Жан-Жак Руссо. Прогулки одинокого мечтателя

(Отрывок)
ПРОГУЛКА ПЕРВАЯ
И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга — без иного собеседника, кроме самого себя. Самый общительный и любящий среди людей оказался по единодушному согласию изгнанным из их среды. В своей изощренной ненависти они выискали, какое мученье будет жесточе для моей чувствительной души, и грубо порвали все узы, меня с ними связывавшие. Я продолжал бы любить людей против их желания. Только перестав быть людьми, могли бы они отделаться от моего чувства. И вот они мне чужие, незнакомые, никто наконец,— раз они этого хотели. А я — что такое я сам, оторванный от них и от всего? Вот что мне остается еще решить. К сожалению, этому должен предшествовать беглый обзор моего положения. Это ступень, которой мне нельзя миновать при переходе от них к себе.
Вот уже пятнадцать лет и даже больше, как я нахожусь в этом странном положении, а оно все еще кажется мне сном. Мне все представляется, что меня мучает несварение желудка, что я тревожно сплю и скоро проснусь, утешенный в своих огорченьях тем, что увижу себя среди друзей. Да, нет сомнений! Сам того не заметив, я сделал прыжок из яви в сон или скорей — из жизни в смерть. Вырванный, не знаю как, из обычного хода вещей, я оказался ввергнутым в непостижимый хаос, в котором ничего не различаю; и чем больше думаю о теперешнем своем положении, тем меньше могу понять, где нахожусь.
Ах, как мог я предвидеть участь, меня ожидающую? Как могу я понять ее теперь, когда она постигла меня? Мог ли я, рассуждая здраво, предположить, что когда-нибудь, оставаясь тем самым, кем был, тем, кем остаюсь до сих пор, я прослыву, буду считаться настоящим чудовищем, отравителем, убийцей, что стану извергом человеческого рода, игрушкой черни, что взамен приветствия прохожие будут плевать на меня, что целое поколение станет в полном согласии развлекаться тем, чтобы заживо меня похоронить? Когда совершился этот странный переворот, я, захваченный врасплох, сначала был потрясен им. Мое волненье, негодование довели меня до исступления, которое едва могло успокоиться за десять лет; и в этот промежуток времени, переходя от заблужденья к заблужденью, от ошибки к ошибке, от безрассудства к безрассудству, я доставил своими неосторожными поступками властителям судьбы моей все орудия, которые они умело пустили в ход, чтобы сделать ее непоправимой.
Я долго отбивался — столь же отчаянно, сколь и тщетно. Не обладая ни ловкостью, ни хитростью, ни уменьем притворствовать, неосмотрительный, откровенный, прямой, нетерпеливый, вспыльчивый, я, отбиваясь, только сильней запутывался и давал им все больший перевес над собой, которым они не упускали случая воспользоваться. Наконец, видя, что все мои усилия напрасны, и терзаясь без всякого толку, я принял то единственное решенье, которое мог еще принять,— покорился своей судьбе, не идя против неизбежного. Я нашел в этой безропотности возмещенье за все свои страданья — благодаря доставляемому ею спокойствию, которое было бы несовместимо с непрерывным трудом сопротивления, столь же тягостного, сколь и бесплодного.
Еще одно содействовало этому спокойствию. Как ни изощрялись мои преследователи в своей ненависти, неистовая злоба заставила их позабыть одно истязанье: они не догадались так соразмерить свои действия, чтобы поддерживать и беспрестанно возобновлять мои муки, все время нанося мне новые удары. Если б у них хватило хитрости оставить мне хоть луч надежды, они этим еще удержали бы меня в своих руках. Они могли бы еще обратить меня в свою игрушку при помощи какой-нибудь, лживой приманки и непрестанно терзать мне сердце муками обманутого ожидания. Но они сразу исчерпали все свои средства. Ничего мне не оставив, они сами лишили себя всего. Клевету, унижения, издевательства, позор, которые они па меня обрушили, уже нельзя ни усилить, ни смягчить; им и той же мере недоступно отягчить все это, как мне — от этого избавиться. Они так поторопились переполнить чашу моей скорби, что нет такой человеческой власти, которая, будь она поддержана всеми кознями ада, могла бы что-нибудь добавить в нее. Даже физическая боль, вместо того чтоб увеличивать мои муки, только отвлекала бы меня от них. Исторгая у меня крики, она давала бы мне возможность удерживаться от стонов, и терзание сердца было бы прервано терзанием тела.
Зачем же мне еще бояться их, если все уже сделано? Не имея больше возможности ухудшить мое состояние, они уже не могут вызывать во мне тревоги. Тревога и ужас — вот страданья, от которых они навсегда освободили меня: это все-таки облегченье. Действительные страдания имеют мало власти надо мной; я легко переношу те, которые испытываю, но не те, которых ожидаю. Мое испуганное воображенье приводит их в сочетанья, переворачивает, растягивает и умножает. Ожиданье их терзает меня в сто раз больше, чем их присутствие, и угроза для меня ужасней самого удара. Как только они приходят, свершенье отнимает у них все, что в них было воображаемого, и сводит их к истинным размерам. Тут я нахожу, что они гораздо меньше, чем я представлял себе, и даже посреди мук все же чувствую облегченье. В этом состоянии, когда я избавлен от всякой новой боязни и свободен от опасений, от надежды, довольно будет привычки, чтобы с каждым днем мое положение, которого уже ничто не может ухудшить, делалось для меня все более сносным; и по мере того как ощущенье его притупляется в силу длительности, они теряют возможность оживлять его. Вот добро, которое сделали мне мои преследователи, нерасчетливо исчерпав все возможности изливать спою злобу. Они лишили себя всякой власти надо мной, и отныне я могу смеяться над ними.
Не прошло еще двух месяцев с тех пор, как в сердце моем вновь воцарился полный покой. Уже давно я перестал чего-либо бояться; но я еще надеялся, и надежда эта, то успокаивающая, то обманчивая, была моим слабым местом, ибо по этой причине множество разнообразных страстей не переставало волновать меня. Недавнее событие, столь же печальное, сколь неожиданное, погасило наконец в моем сердце последний слабый луч надежды и показало мне, что судьба моя здесь, на земле, определилась навсегда и бесповоротно. С этих пор я безоговорочно смирился и обрел мир.
Как только я начал проникать в заговор во всем его объеме, я навсегда оставил мысль при жизни вернуть к себе людей, и, поскольку такой возврат уже не мог быть взаимным, он отныне был мне даже не нужен. Напрасно они снова вернулись бы ко мне,— они уже не нашли бы меня. При том презрении, которое они внушили мне, общенье с ними было бы для меня бессмысленно и даже тягостно, и я во сто раз счастливей в своем одиночестве, чем мог бы быть, живя с ними. Они вырвали из моего сердца все радости общенья; в мои годы эти радости уже но могут вновь пустить там ростки; слишком поздно. Отныне, будут ли мне делать добро или зло,— все, что исходит от людей, мне безразлично, и что бы мои современники ни делали, они всегда будут для меня ничем.
Но я еще верил в будущее и надеялся, что другое, лучшее поколение, тщательней рассмотрев, как нынешнее судило обо мне и поступило со мной, без труда проникнет в ухищренья его руководителей и увидит меня наконец таким, каков я есть. Именно эта надежда побудила меня написать мои «Диалоги» и толкнула меня на тысячу безумных попыток передать их потомству. Эта надежда, хоть и отдаленная, держала мою душу в такой же тревоге, как в то время, когда я искал еще в этом веке справедливое сердце, и чаяния мои, напрасно устремлявшиеся вдаль, также делали меня игрушкой людей сегодняшнего дня. Я рассказал в своих «Диалогах», на чем основывал свое ожидание. Я обманулся. К счастью, я понял это вовремя, чтобы изведать еще до наступления своего последнего часа период полной безмятежности и совершенного покоя. Период этот начался в ту пору, о которой я здесь говорю, и у меня есть основания думать, что он не будет прерван.
Редкий день проходит без того, чтобы новые размышления не подтверждали мне, как я ошибался, рассчитывая на возвращение ко мне людей, хотя бы в другом поколении,— поскольку во всем, что касается меня, ими руководят вожаки, непрерывно выдвигаемые корпорациями, которые относятся ко мне с неприязнью. Отдельные лица умирают, но не умирают сообщества людей. Одни и те же страсти живут в них бесконечно, и их пламенная ненависть, бессмертная, как демон, ее внушающий, всегда одинаково действенна. Когда отдельные мои враги будут мертвы, врачи и ораторьянцы все еще будут живы, и даже если у меня не будет других преследователей, кроме этих двух корпораций, я могу быть уверен, что они не оставят мою память в покое, как при жизни не оставляли в покое меня самого. Может быть, со временем врачи, которых я действительно обидел, и успокоятся; но ораторьянцы, которых я любил, уважал, которым всецело доверял и которых никогда не обижал, ораторьянцы — церковники и полумонахи — навсегда останутся неумолимыми: собственная их несправедливость составляет мое преступление, и этого их самолюбие никогда мне не, простит; а публика, враждебность которой они будут все время заботливо поддерживать и оживлять, не успокоится, как и они.
Все кончено для меня на земле. Тут мне не могут причинить ни добра, ни зла. Мне не на что больше надеяться и нечего бояться в этом мире, и вот я спокоен в глубине пропасти, бедный смертный,— обездоленный, но бесстрастный, как сам бог.
Все, что вне меня,— отныне чуждо мне. У меня нет в этом мире ни близких, ни мне подобных, ни братьев. Я на земле, как па чужой планете, куда свалился с той, на которой прежде жил. Если я что и различаю вокруг себя,— то лишь скорбные и раздирающие сердце предметы, и на все, что касается и окружает меня, не могу кинуть взгляда без того, чтобы не найти там какого-нибудь повода к презрительному негодованию или удручающей боли. Отстраним же от себя все мучительные предметы; думать о них столь же горько, сколь и бесполезно. Одинокий на весь остаток жизни, поскольку лишь в себе нахожу я утешенье, надежду и мир, я не должен и не хочу заниматься ничем, кроме себя. В этом состоянии я возобновляю то суровое и искреннее исследование, которое когда-то назвал «Исповедью». Я посвящаю последние дни свои изучению самого себя и заблаговременной подготовке к отчету, который не замедлю дать о себе. Отдадимся же целиком отраде собеседования с собственной душой, раз она — единственное, что люди не могут у меня отнять. Если путем размышленья о своих душевных склонностях я получу возможность внести в них больше порядка и устранить зло, которое, может быть, там еще остается, размышленья мои не окажутся вовсе бесполезными, и хоть я не гожусь больше ни па что на земле, мои последние дни не будут совершенно потеряны. Приволье моих ежедневных прогулок нередко было исполнено пленительных созерцаний, и мне жаль, что я утратил воспоминанье о них. Закреплю на бумаге те, которые еще могут всплыть в моей памяти; всякий раз, перечитывая их, я буду переживать их радость. Буду забывать свои несчастья, своих преследователей, свои униженья, думая о награде, которую заслуживало мое сердце.
Эти листки — собственно, лишь беспорядочный дневник моих мечтаний. В них будет много говориться обо мне, потому что размышляющий отшельник неизбежно много занимается самим собой. Впрочем, мысли о посторонних предметах, приходящие мне в голову во время прогулки, точно так же займут здесь свое место. Я буду передавать все, что думал,— в том виде, как это у меня возникло, и с той же связностью, с какою мысли вчерашнего дня сочетаются обычно с мыслями сегодняшнего. Но из этого всегда будет получаться новое познание мира природы и моего характера на основе чувств и мыслей, составляющих ежедневную пищу моего ума в том странном положении, в котором я нахожусь. Таким образом, на эти листки можно смотреть, как на придаток к моей «Исповеди», но я уже не даю им этого заглавия, так как чувствую, что мне не придется сказать ничего, что заслушивало бы его. Сердце мое очистилось в горниле бедствий, и я, тщательно его исследуя, едва нахожу в нем остатки дурных стремлений. В чем мне еще исповедоваться, если все земные привязанности оттуда вырваны? Мне уже не за что ни хвалить, ни бранить себя: отныне я ничто среди людей, и это все, чем я могу быть, не имея с ними никакой действительной связи, никакого подлинного общения. После того как я лишился возможности сделать какое бы то ни было добро, которое не обратилось бы в зло, всякой возможности действовать, не вредя ближнему или самому себе, воздержание стало единственным моим долгом, и я исполняю его, поскольку это зависит от меня. Но в этом бездействии тела душа моя продолжает действовать; она еще порождает чувства, мысли, и ее внутренняя, нравственная жизнь как будто еще возросла благодаря смерти всех земных и временных интересов. Тело мое для меня теперь только обуза, только помеха, и я заранее освобождаюсь от него, насколько могу.
Столь необычное состояние, конечно, заслуживает того, чтобы его изучить и описать, и этому-то изучению посвящаю я свои последние досуги. Чтобы сделать его успешным, надо бы вести его по порядку и методически; но я не способен к такой работе, и она даже удалила бы меня от цели, которая состоит в том, чтобы дать себе отчет в изменениях своей души и в их последовательности. В известном смысле я произведу на самом себе те опыты, которые физики производят над воздухом, чтобы знать ежедневные изменения в его состоянии. Я приложу к своей душе барометр, и эти опыты, хорошо налаженные и долгое время повторяемые, могут дать мне результаты столь же надежные, как и у них. Однако у меня более скромные намерения. Я довольствуюсь тем, что буду регистрировать показания, не стремясь свести их в систему. Я ставлю себе ту же задачу, что и Монтень,— но преследую цель совершенно противоположную: он писал «Опыты» только для других, а я пишу свои «Прогулки» только для себя. Если в более глубокой старости, уже приближаясь к концу, я останусь — надеюсь — в том же умонастроении, что и сейчас, то, читая их, буду вспоминать радость, которую испытываю теперь, когда их пишу; воскрешая передо мной таким образом прошлое, они, так сказать, у двоят мое существование. Против воли людей я еще смогу наслаждаться очарованием общенья и, уже одряхлевший, буду жить с самим собой в другом веке, как жил бы с другом менее старым, чем я.
Я писал прежнюю свою «Исповедь» и «Диалоги», все время угнетаемый заботой, каким бы способом скрыть их от хищных рук моих преследователей, чтобы передать, если возможно, другим поколениям. Относительно этого сочиненья такая тревога не мучает меня: я знаю, что она была бы тщетной. И поскольку желание быть лучше узнанным людьми погасло в моем сердце, мне глубоко безразлична как судьба подлинных моих сочинений, так и судьба незыблемых доказательств моей невинности, которые, может быть, все уже истреблены и исчезли навсегда. Пусть шпионят за моими действиями, пусть хлопочут об этих листках, пусть их захватывают, пусть уничтожают, пусть подделывают,— все это отныне мне безразлично. Я не прячу их и не показываю. Если у меня еще при жизни отнимут их, у меня не отнимут ни удовольствия от сознания, что я написал их, ни воспоминанья об их содержании, ни одиноких размышлений, плодом которых они явились и источник которых может исчезнуть только вместе с моей душой. Если бы я, испытав первые же бедствия, заставил себя покориться своей доле и решился на то, на что решаюсь теперь, все усилия людей, все их ужасающие козни остались бы для меня без последствий, и всеми своими интригами они возмутили бы мой покой не больше, чем в состоянии возмутить его своими теперешними успехами. Пусть они вдоволь наслаждаются моим униженьем,— они не помешают мне наслаждаться сознанием моей невинности и вопреки им окончить дни свои в мире.
ПРОГУЛКА ВТОРАЯ
Таким образом; задумав описать обычное состояние своей души в самом странном положении, в каком только может когда-либо оказаться смертный, я не видел другого более простого и верного способа осуществить это намерение, как повести подробный отчет о своих одиноких прогулках и тех мечтаниях, которыми они бывают наполнены, когда я даю голове своей полную свободу и позволяю своим мыслям течь беспрепятственно и непринужденно. Эти часы одиночества и размышленья — единственные за весь день, когда я бываю вполне самим собой, принадлежу себе безраздельно, без помех и могу на самом деле сказать, что я таков, каким природа пожелала меня сделать.
Скоро я понял, что слишком медлил с исполненьем этого замысла. Воображенье мое, уже не столь живое, как прежде, больше не вспыхивает при виде предмета, когда-то его одушевлявшего; я меньше опьяняюсь бредом мечтанья; отныне но всем, что оно создает, больше воспоминаний, чем творчества; все душевные силы мои охватывает какое-то вялое томление; дух жизни мало-помалу угасает во мне; душа моя уже с трудом вырывается из своей ветхой оболочки; и если бы не надежда достичь состояния, к которому я стремлюсь, чувствуя, что имею на него право, я жил бы только в воспоминаньях. И вот, для того чтобы созерцать самого себя до своего упадка, я вынужден вернуться по крайней мере на несколько лет назад,— к тому времени, когда, утратив всякую надежду в этом мире и не находя больше пищи для своего сердца на земле, я мало-помалу привыкал питать его собственным его веществом, отыскивать для него снедь в самом себе.
Источник этот, к которому я прибег слишком поздно, оказался таким изобильным, что скоро вознаградил меня за все. Привычка погружаться в себя привела к тому, что я утратил наконец ощущенье своих страданий и даже чуть ли не самое воспоминание о них. Я познал таким путем на собственном опыте, что источник истинного счастья в нас самих и что не во власти людей сделать подлинно несчастным того, кто хочет быть счастливым. Вот уже четыре или пять лет, как я наслаждаюсь теми внутренними радостями, которые любящие и нежные души находят в созерцании. Гуляя в одиночестве, я иногда испытываю восхищенье, восторг и этой радостью обязан моим преследователям: без них я никогда не нашел и не узнал бы сокровищ, которые носил в себе самом. Среди стольких богатств — как вести им верный учет? Вызывая в памяти столько нежных мечтаний, я, вместо того чтоб их описывать, вновь погружался в них. Это состояние, воскресающее при одном воспоминанье, становится непонятным, как только вовсе перестаешь его чувствовать.
Я испытал это во время прогулок, следовавших за решением писать продолженье «Исповеди»,— особенно во время той, о которой я сейчас расскажу, когда неожиданный случай прервал теченье моих мыслей и сообщил им на некоторое время другое направленье.
В четверг 24 октября 1776 года, после обеда, я прошел по бульварам до Зеленой аллеи, поднялся по ней на высоты Менильмонтана и оттуда, по тропинкам, бегущим через виноградник и луга, пересек до самой Шаронны всю разделяющую эти две деревни веселую местность; потом я отклонился в сторону, чтобы вернуться по тем же лугам, но другой дорогой. Проходя по ним, я испытывал чувство удовольствия и интереса, которое всегда вызывает во мне живописная местность; иногда я останавливался, чтобы определить какое-нибудь растение среди зелени. Я заметил два таких, которые редко попадались мне в окрестностях Парижа, а в этом округе встречались во множестве. Одно из них, Picris hieracioides , из семейства сложных, другое, Bupleurum falcatum , из семейства зонтичных. Это открытие обрадовало и очень долго занимало меня и привело к открытию растения, еще более редкого, особенно в высокорасположенной местности,— а именно Cerastium aqnaticum , которое я, несмотря на происшедший со мной в тот день случай, определил по книге, бывшей при мне, и поместил в свой гербарий.
А затем, подробно рассмотрев несколько других растений еще в цвету, которые мне всегда приятно видеть и определять, хотя они хорошо мне знакомы, я мало-помалу оставил эти мелкие наблюдения, чтобы отдаться не менее приятному, но более волнующему впечатлению от всей картины в целом. За несколько дней перед тем кончился сбор винограда; гуляющих из города уже не было; крестьяне тоже покинули поля до зимних работ. Местность, еще покрытая зеленью и веселая, но уже отчасти растерявшая свой убор и почти пустынная, всюду открывала взгляду зрелище одиночества и приближения зимы. Вид ее рождал смешанное чувство нежности и печали, слишком сходное с моим возрастом и судьбой, чтобы я не сделал этого сопоставленья. Я видел себя на склоне жизни невинной и несчастливой, с душой, еще полной живых чувств, и умом, еще украшенным кое-какими цветами, однако уже смятыми печалью и иссушенными горестью. Одинокий и всеми оставленный, я чувствовал приближение зимы, холод первых морозов, и мое иссякающее воображение уже не населяло одиночество существами, созданными мне по сердцу. Я говорил себе, вздыхая: «Что сделал я здесь, на земле? Я был создан для жизни, а умираю, не познав ее. Но по крайней мере в этом нет моей вины, и я понесу творцу дней моих если не добрые дела, которых мне не дали совершить, то по крайней мере дань напрасных добрых намерений, чувств святых, но оставшихся бесплодными, и терпенья, равнодушного к людским обидам». Я умилялся от этих размышлений, возобновлял в памяти движения своей души, испытанные в юности и зрелом возрасте, и после того как меня отлучили от общества людей, и в течение долгого уединенья, в котором мне придется кончить свои дни. Я с радостью возвращался мыслью ко всем своим сердечным привязанностям — к чувствам столь нежным и столь слепым, к образам не столько печальным, сколько утешительным, которыми дух мой питался вот уже несколько лет; я готовился припомнить их достаточно ясно для того, чтобы описать с наслаждением, почти равным тому, с каким в свое время им отдавался. Все послеобеденное время прошло у меня в этих мирных размышлениях, и я уже возвращался, очень довольный проведенным днем, как вдруг посреди своих мечтаний был оторван от них событием, о котором мне предстоит рассказать.
К шести часам я находился на склоне Менильмонтана, почти против Галан-Жардинье, когда какие-то люди, шедшие впереди, вдруг быстро расступились, и я увидел, что на меня летит большой датский дог, который, мчась стремглав перед каретой, не имел даже времени при виде меня задержать свой бег или отклониться в сторону. Я решил, что единственный способ не быть сбитым с ног — это подпрыгнуть высоко вверх с таким расчетом, чтобы собака проскочила подо мной в тот момент, когда я буду в воздухе. Эта мысль промелькнула быстрее молнии; у меня не было времени ни обдумать ее, ни привести в исполненье; вслед за ней тотчас произошло несчастье. Я не почувствовал ни удара, ни падения и ничего, что за ними последовало,— до того мгновенья, когда опять пришел в сознанье.
Уже почти совсем стемнело, когда я очнулся. Я увидел, что нахожусь на руках у трех-четырех молодых людей, которые и рассказали мне, что произошло. Дог, не сдержав бешеного стремления, кинулся мне под ноги и, сбив меня с разбега грудью, повалил головой вперед: верхняя челюсть моя, приняв на себя всю тяжесть моего тела, ударилась о неровную мостовую, и падение было тем сильней, что произошло на склоне, так что голова моя оказалась ниже ног.
Карета, перед которой бежала собака, мчалась вслед за ней и переехала бы меня, если бы кучеру не удалось мгновенно остановить лошадей. Вот что я узнал от тех, которые меня подняли и еще поддерживали, когда я очнулся. Состоянье, в котором я был тогда, слишком странно, чтобы не описать его.
Надвигалась ночь. Я увидел небо, несколько звезд и какую-то ветку. Это первое восприятие было чудным мгновеньем. Я ощущал себя тогда только через это. В этот миг я рождался к жизни, и мне казалось, что я наполняю своим легким существованьем все воспринимаемые мною предметы. Все сводилось для меня к данному мгновенью, я не вспоминал ни о чем; у меня не было никакого отчетливого ощущения своей личности, ни малейшего представленья о том, что произошло; я не знал, кто я, где нахожусь; я не чувствовал ни боли, ни страха, ни тревоги. У меня текла кровь, но я смотрел на нее, как смотрел бы на ручей, даже не думая о том, что кровь эта все же моя. Я чувствовал во всем споем существе дивное спокойствие и всякий раз, как вспоминаю о нем, не могу подыскать ничего равного ему среди всех изведанных мною наслаждений.
Меня спросили, где я живу; я не мог сказать этого. Я спросил, где я; мне ответили: «На Высокой границе». Это было все равно, как если б мне сказали: «На горе Атлас». Я был вынужден предлагать один за другим вопросы о стране, городе и квартале, в которых нахожусь. Да и этого оказалось мне недостаточно, чтобы прийти в себя; только пройдя весь путь от места несчастья до бульвара, я вспомнил наконец, где живу и как меня зовут. Один незнакомый мне господин, который оказался настолько милосердным, что проводил меня немного, узнав, что я живу так далеко, посоветовал мне взять у Тампля извозчика, который отвезет меня домой. Я мог ходить совершенно свободно, без всякого труда, не чувствуя ни боли, ни раны, хотя продолжал обильно плевать кровью. Но меня трясло ледяной дрожью и было больно оттого, что поврежденные зубы стучали друг о друга. Дойдя до Тампля, я подумал, что раз мне не трудно идти, то лучше продолжать путь по-прежнему пешком, чем мерзнуть на извозчике, подвергаясь опасности погибнуть от простуды. Так прошел я пол-лье, отделяющую Тампль от улицы Платриер, шагая легко, обходя препятствия, экипажи, выбирая дорогу и подвигаясь вперед совершенно так же, как делал бы это при полном здоровье. Прихожу, отпираю замок с секретом, вделанный в наружную дверь, поднимаюсь в потемках по лестнице, добираюсь наконец домой, не испытав иных злоключений, кроме падения и его последствий, которых я тогда еще даже не замечал.
Крики моей жены, когда она меня увидела, дали мне понять, что я изуродован более, чем думал. Я провел ночь, еще не зная и не ощущая своей беды. Вот что я почувствовал и обнаружил на другой день: верхняя губа у меня была рассечена изнутри до носа; снаружи кожа лучше предохранила ее и помешала полному разрыву; четыре верхних зуба расшатались; часть лица над верхней челюстью страшно вздулась и омертвела; большой палец правой руки оказался вывихнутым и очень распух, большой палец левой сильно поранен, левая рука вывихнута, левое колено страшно вспухло, и сильная, мучительная боль от ушиба не давала ему как следует согнуться. Но при всем этом никаких переломов, даже зубы остались целы — счастье, близкое к чуду при таком падении.
Вот очень точное повествование о моем несчастье. В несколько дней история эта распространилась по Парижу в таком измененном, искаженном виде, что в ней ничего нельзя было узнать. Я должен был бы заранее предвидеть ее превращенье; но к ней присоединилось столько нелепых подробностей, столько неясных намеков и недомолвок сопровождало ее, мне толковали о ней с таким до смешного загадочным видом, что вся эта таинственность привела меня в беспокойство. Я всегда ненавидел потемки, они внушают мне врожденный и невольный ужас, которого не уменьшил и тот мрак, что окружает меня кот уже несколько лет. Среди всех странностей, удивлявших меня и то время, я отмечу только одну, но ее достаточно для того, чтобы можно было судить об остальных.
Г-н ***, с которым у меня никогда не было никаких отношений, прислал своего секретаря узнать о моем здоровье и передать мне настойчивое предложение услуг, показавшихся мне в данных обстоятельствах не очень нужными для моего выздоровления. Секретарь его тем не менее очень горячо настаивал, чтобы я воспользовался этим предложением, и даже сказал мне, что если я не доверяю лично ему, то могу написать прямо г-ну ***. Его великое усердие и таинственный вид показали мне, что во всем этом кроется какая-то загадка, которую я напрасно старался разрешить. Этого было слишком достаточно для того, чтобы я испугался,— особенно в том возбужденном состоянии, в какое ввергло меня случившееся со мной несчастье и последовавшая за ним лихорадка. Меня волновало множество печальных догадок, и я высказывал обо всем происходящем вокруг предположения, обнаруживавшие скорей горячечный бред, нежели хладнокровие человека, отрешившегося от всех жизненных интересов.
Другое происшествие окончательно лишило меня покоя. Г-жа *** — я не мог догадаться почему — уже несколько лет заискивала передо мной. Любезные подарочки, частые посещения ни с того ни с сего достаточно ясно показывали мне, что во всем этом была какая-то скрытая цель, но не обнаруживали, какая именно. Она сообщила мне, что собирается написать роман, чтобы поднести его королеве. Я сказал ей, что думаю о женщинах- писательницах. Она заявила, что этот замысел имеет целью восстановить ее положение, для чего ей необходимо покровительство; на это я ничего не мог возразить. Позже она рассказала, что, не добившись приема у королевы, решила отдать свою книгу на суд публики. Теперь уж дело было не в советах, так как она у меня больше их не спрашивала и не стала бы им следовать. Раньше она заводила речь о том, чтобы предварительно показать мне рукопись, но я попросил ее не делать этого, и она так и поступила.
В один прекрасный день, во время моего выздоровления, я получил от нее эту книгу уже в совершенно готовом виде, даже переплетенную, и увидел в предисловии восхваления по своему адресу, до того аляповатые и приторные, что был этим неприятно поражен. Грубая лесть, в них сквозившая, была несовместима с доброжелательством; в этом сердце мое не могло ошибиться.
Через несколько дней после этого г-жа *** посетила меня со своей дочерью. Она сообщила мне, что книга ее наделала много шуму из-за одного места, которое я едва заметил при беглом просмотре романа. Я перечел его после ухода г-жи ***, вгляделся в то, как оно написано, и мне показалось, что я открыл цель ее посещений, ухаживаний, грубой лести в предисловии: я решил, что все это направлено к тому, чтобы навести публику на мысль, будто эти строки принадлежат мне, а значит — ко мне относится и вся брань, которую они могли навлечь на автора при тех обстоятельствах, при которых были опубликованы.
У меня не было никакой возможности положить конец этому слуху и впечатлению, которое он мог создать; от меня зависело только одно — не поддерживать этих пересудов, положив конец ненужным и показным посещениям г-жи *** с дочерью. Вот записка, которую я с такой целью написал этой даме: «Так как Руссо не принимает писателей, он благодарит г-жу *** за ее внимание и просит ее больше не оказывать ему чести своими посещениями».
Она ответила мне письмом, вежливым по форме, но составленным так же, как все, которые пишутся мне в подобных случаях. Я бессердечно вонзил кинжал в ее чувствительное сердце, я должен поверить по тону ее письма, что, питая ко мне такое горячее и искреннее чувство, она не переживет этого разрыва. Это еще раз доказывает, что прямота и всегдашняя откровенность оказываются страшными преступлениями в свете, и мои современники будут считать меня злым и жестоким, даже если у меня не будет в их глазах другого преступленья, кроме того, что я не так лжив и вероломен, как они.
Я уже несколько раз выходил из дому и даже довольно часто гулял в Тюильри; по тому удивлению, которое обнаруживали многие при встрече со мной, я понял, что относительно меня имеется еще какая-то новость, мне неизвестная. Наконец я узнал, что в обществе ходит слух, будто я умер от последствий своего падения; слух этот распространился так быстро и держался так упорно, что больше чем через две недели после того, как он дошел до меня, об этом все еще говорили, даже при дворе, как о достоверном факте. Как мне предупредительно написали, «Авиньонский курьер», сообщая эту счастливую новость, не упустил при этом случае внести заранее свою долю в ту дань обид и оскорблений, которыми; готовятся почтить после моей смерти мою память в виде надгробного слова.
Новость эта сопровождалась еще более странным обстоятельством; я узнал о нем только случайно и не мог собрать никаких подробностей. Оказывается, была уже открыта подписка на печатание рукописей, которые будут у меня найдены. Из этого я понял, что наготове держат сборник писаний, сочиненных нарочно для того, чтобы, когда я умру, объявить их моими; думать, что могла быть напечатана в своем подлинном виде какая-нибудь из действительно найденных моих рукописей, было бы глупостью, которая не могла бы взбрести в голову человеку разумному, и мой пятнадцатилетний опыт меня от нее предохранял.
Эти наблюдения, следовавшие друг за другом и сопровождаемые многими другими, не менее удивительными, снова привели в ужас мое воображенье, которое я считал угасшим; и этот мрак, беспрестанно сгущавшийся вокруг меня, воскресил весь страх, который он, естественно, мне внушает. Я ломал себе голову, строя тысячи догадок, пытаясь понять тайны, непостижимые для меня. Единственным бесспорным результатом стольких загадок было подтверждение всех предшествующих моих заключений: участь моей личности и репутации решена в полном, единодушном согласии всем теперешним поколением; никакими усилиями я не в состоянии избежать ее, поскольку мне совершенно невозможно передать что бы то ни было другим поколениям иначе, как через руки моих современников, то есть людей, заинтересованных в том, чтобы все это уничтожить.
Но на этот раз я проник глубже. Нагромождение стольких неожиданных обстоятельств, вызванное, так сказать, самой судьбой, восстание против меня всех самых жестоких моих врагов — всех, кто вершит государственными делами, всех, кто направляет общественное мнение, всех людей с положением, всех особ с весом, как будто нарочно подобранных для участия в общем заговоре из числа тех, кто затаил против меня вражду,— весь этот общий сговор слишком необычен, чтобы быть чисто случайным. Человека, отказавшегося вступить в него, любого события, вставшего поперек дороги, случайного обстоятельства было бы довольно, чтобы сговор этот потерпел крушение. Но все воли, все неизбежные стечения обстоятельств, все совпадения, как и все превратности, только содействовали человеческому умыслу, и столь поразительное, близкое к чуду сотрудничество не оставляет места сомнениям, что полное торжество его было предначертано в книге судеб. Множество отдельных наблюдений — как в прошлом, так и в настоящем — до такой степени укрепляют меня в этом мнении, что я не могу удержаться от того, чтобы по рассматривать, отныне как одну из непроницаемых для человеческого разума небесных тайн — то самое, что считал до сих пор только плодом человеческой злобы.
Эта мысль не только не кажется мне мучительной и не раздирает мне сердце, но утешает меня, успокаивает и помогает мне смириться. Я не захожу так далеко, как блаженный Августин, который, будь он осужден на вечные муки, утешался бы мыслью, что такова воля божья. Однако покорность моя проистекает из источника, правда менее самоотверженного, но не менее чистого и на мой взгляд не менее достойного того совершенного Существа, которому я поклоняюсь.
Бог справедлив; он хочет, чтоб я страдал, и делает так, чтоб я был невинен. Вот основание моего доверия; сердце мое и мой разум твердят мне, что оно меня не обманет. Пусть же люди и судьба делают свое дело. Научимся страдать безропотно; все в конце концов должно стать на свое место, а — рано или поздно — придет и мой черед.
Произведения
Критика