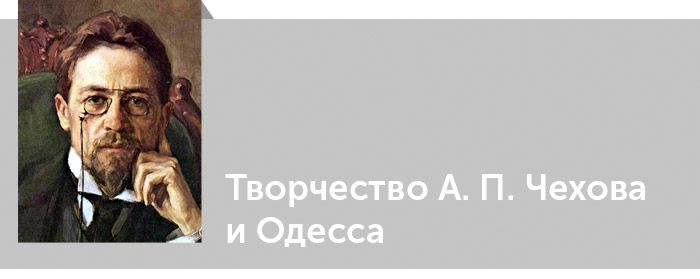О романтизме и реализме в романе Бенжамена Констана «Адольф»

Н. С. Шрейдер
Литературу первой Империи не только нельзя подвести под какое-либо литературное направление, но более того: споры писателей той поры еще не перешли в тот острый конфликт отчетливо осознающих себя направлений, который характеризует битву за романтизм при Реставрации или бурную многоликость французской литературы периода Июльской монархии.
По ироническому определению Констана, «Бонапарт любил дисциплину везде, в администрации, и они подчинялись так же стремительно, с тем же рвением.., ибо, покоряясь новому Людовику XIV, они считали себя равными великим людям, которые курили фимиам старому. И театральные правила, как и дворцовый этикет, казались обязательной частью императорского кортежа». Разумеется, такое покровительство могло только ускорить гибель классицизма. Теоретические споры по давней французской традиции сосредоточивались на театре: не только Сталь и Констану, но и Бальзаку и Стендалю в
Романы Шатобриана, Сталь возникали в тесной взаимосвязи с их теоретическими трудами, ратовавшими — по-разному, с различных позиций — за историзм эстетического идеала, за изображение в искусстве необратимо движущейся многообразной действительности. В них, как известно, не было прямого утверждения романтизма, да и сам термин встречался еще только ввиде прилагательного. Но уже отчетливо осознали, что литература изменилась вместе с жизнью после революции; что герой их — небывалое ранее существо — порожден некими новыми общественными явлениями и процессами, и новая форма романа, в центре которой он стоит, зародилась в XVIII в., у писателей, которых мы называем сентименталистами, прежде всего у Руссо и в «Вертере» Гете.
Бросается в глаза, как несхожи герои Сталь и Шатобриана — и, соответственно, виды романа: носительница «энтузиазма», вовлекающая в эпистолярное и разговорное общение множество персонажей, и некоммуникабельный Рене, исповедь которого почти сводится к так наз. dumono-logue, обращение к немым лицам. Однако в них есть общее. Это «выдвижение «исключительного», напряженно мыслящего, духовно сложного героя, резко противопоставленного среде» — одно из кардинальных свойств того нового, что внес романтизм в искусство. Это изображение характера, не переходящее в создание типа — что не исключает осознания героя «сыном века» и социально-исторической конкретности. Это пронизывающее героя «романтическое ощущение себя силой природы, и отсюда — вспышки возвышенного согласия с миром явлений».
И «Рене», и «Коринну» единодушно относят к романтизму — и французские литературоведы, и те, увы, немногие отечественные авторы, которые обращались к этой теме. Судьба «Адольфа» иная. И сходство его, и различие с романами Сталь и Шатобриана давно бросились в глаза. Их сопоставил сам Констан в предисловии ко второму изданию «Адольфа». Отрицая автобиографичность, он напомнил, что «более славные писатели прошли через то же испытание. Уверяли, что г. де Шатобриан описал себя в «Рене», в умнейшую и лучшую из женщин нашего времени, мадам де Сталь, заподозрили... в том, что она изобразила себя в «Дельфине» и «Коринне» . Это не помешало, разумеется, слишком часто толковать - автобиографичность как «роман с ключом». Считалось установленным, что эти романы — как и «Оберман» Сенанкура (1804), и «Валери» Крюднер (1803) — относятся к той разновидности личного романа, где автор почти открыто исповедуется.
Известно, что соотношение автора и героя гораздо сложнее, и автобиографичность как таковая, не определяет литературного направления. «Севастопольские рассказы» точнее воссоздают внешнюю и духовную жизнь автора, чем «Исповедь сына века», и причина этого, кстати, заложена в самом методе изображения.
Принцип соотнесения автора и героя в «Адольфе» близок к тому, который господствует в «Рене», «Дельфине»» «Коринне»: как бы изолирована часть авторской личности» несравненно более богатой; отметена политическая деятельность и — у Сталь сокращено, а у Шатобриана почти исключено — общение с людьми. Эта изолированная часть, авторской личности вырастает в образ, психологически близкий к автору, но гораздо беднее. Если романы Сталь густо заселены и включают — особенно «Коринна» — различные виды повествования (авторский рассказ, письмо-исповедь, письма), то «Адольф» и «Рене» строго эгоцентричны. Это монодии, заключенные в рамку. Последняя отчасти дань традиции, но она создает временную дистанцию: сначала показан герой — психологическая загадка, ее раскрывает или приоткрывает исповедь героя. Завершается рамка в каждом из романов двумя суждениями — спором «почтенных лиц», но оба мнения по существу расходятся и с авторским освещением героя. И у Рене, и у Адольфа единственный предмет интереса — собственное я, и самоосуждение — форма самолюбования, более скрытого в «Адольфе». Как говорилось, родственна и специфика автобиографичности, суживающая изображение до одного персонажа — остальные очерчены не как характеры с самостоятельной внутренней логикой, а как меняющиеся или беглые впечатления героя.
«Рене» — расцвеченная «словесной живописью» устная исповедь-поток. Герой добровольно и вдвойне изолирован от европейского современного общества: и одиночеством во Франции в период, о котором повествует старцам, а в момент рассказа — жизнью среди индейцев, где он также одинок. Герой непрерывно соотносит себя — порою в гармонии, чаще в диссонансе — с силами природы, ее картинами, звуками, со стихиями, эпохами истории, воспринимая себя как образ-символ и в то же время как создание беспредельно конкретное и хрупкое, но равноценное силам природы и таким абстрактным категориям как вечность, беспредельность, которые он ощущает очень интимно. Внешний мир воспринимается прихотливо и оказывается подчиненным элементом внутреннего мира Рене. Нельзя забывать и о том, что — хоть и условно — действие отнесено к началу XVIII в.
Адольф говорит, что сосредоточенность на своем положении отторгла его от «общих идей», и он «умалился до эгоизма нового рода, лишенного мужества, недовольного и униженного». Стиль заставляет вспомнить о классицизме, но сходство лишь внешнее: причудливыми скачками мыслей и эмоций, подтекстом он еще богаче, шатобриановского. «Адольф» — «чудо точности, ясности и сложности», и уединение героя вынужденное и мнимое. По превосходному определению Э. Ферли, «в XIX в., когда общество заменяет судьбу как внешняя сила, Констан сохраняет то же равновесие. Герой не просто невинное существо, которое: противится развращающим силам, но эти силы, как боги у Расина, проявляются в собственной его натуре». Далее цитируются слова Констана: «Общество вооружается всем скверным в сердце человека».
В «Адольфе» общество действительно оказывается «третьим героем романа». Но это не специфика Констана. Центральным вопросом эгоцентрического романа, поэмы первой трети XIX в. — будь это «Рене», «Чайльд-Гарольд», «Оберман», «Записки кота Мурра» — остаются отношения героя с современным обществом его родины, и этот вопрос он непрерывно решает, о нем он непрерывно думает, ощущает его на берегах Миссисипи, в бенедиктинском монастыре, в Альпах, у албанцев или в немецком маркграфстве. Специфика этих произведений (кроме романов Сталь) в том, что общество не изображается, оно выступает суммарно, как нечто враждебное, в сознании изолированного от него героя. Социальность этих «духовных: робинзонад» начала XIX в. представляет некую важную стадию художественного освоения человека, порожденного новой эпохой. Герой, непосредственно и больно столкнувшись с историей, не скованный, но и не защищенный феодальными устоями, живо ощущает и обдумывает то, что более отчетливо понято гораздо позже. По превосходной формулировке Б. Ф. Поршнева, углубляясь еще дальше в человека, находящегося наедине с самим собой, мы опускаемся в кратер, на дне которого кипят силы социальной жизни, борются воздействия различных общностей».
«Адольф» ближе к романам Сталь и в том смысле, что судьба героя на протяжении всего произведения соотнесена со светским обществом — герой не полностью сразу отринул его, «чтоб не умалить себя», как Рене, не ушел от людей своего круга в альпийское уединение, как Оберман. Мысли, эмоции, поступки Адольфа соотнесены с этим обществом не как с чем-то внешним, чуждым, а как с действующим, живым, явлением. Отношения с ним меняются, как и отношение героя к нему. Адольф общается с различными светскими людьми, а они воздействуют на его настроение и судьбу. Но с «Рене» роман Констана сближает то, о чем говорилось: замкнутость героя на собственной психологии в ее прихотливой противоречивости, отсутствие характеров с обликом, не меняющимся от капризов восприятия героя, наконец — одиночество героя, его внутренняя и в конце концов и внешняя изолированность. Можно ли считать отсутствие экзотики и патетики, явную соотнесенность с обычным светским кругом, наконец, заурядность героя признаками, реализма, отличающими «Адольфа» от романтического «Рене»?
История литературы показывает, что во всяком случае каждый из этих признаков сам по себе ничего не решает. Достаточно сопоставить «Таманго» с «Последним днем осужденного» или «Клодом Ге»; сравнить стиль Виньи и Бальзака; вспомнить, как зауряден Октав («Исповедь сына века») и как ярки герои Стендаля — если обращаться только к писателям, в реализме или романтизме которых наше литературоведение уверено твердо и небезосновательно.
Большинство критиков после выхода романа Констана «причислило его к «романтической школе», разумея под этим неправдоподобие, «космополитический стиль», «особую окраску», непривычную странность». Эту странность видели не столько в характере героя, сколько в методе изображения. Так, Л.-С. Оже, признавая, что в романе «много ума и знания человеческого сердца», сожалел, что анализ «доведен до предела, за которым он вырождается в излишнюю тонкость, неясность, дурной вкус».
Французские исследователи наших дней колеблются, причислить ли роман Констана к классицизму или романтизму. По мнению А. Адана, автор выражается максимами, как Ларошфуко, и «поступки Адольфа интересны только как примеры, иллюстрирующие общие законы». Г. Пикон считает, что в «Адольфе» желание абсолютного, осознав свою бесплодность, отвергает форму лирического порыва; обратившись на самое себя, это желание становится психологизмом, сухой, почти иронической, лишенной снисхождения ясностью. Пикон заключает, что «Адольф» предваряет романтическое повествование 1830-х гг. — прежде всего Стендаля. Молодые французы, претендующие на степень бакалавра, читают в учебнике-руководстве, что «Адольф» — шедевр аналитического романа, классический по ясности, по тенденции к универсальности, придающей многим замечаниям степень психологических законов, но в нем есть и романтические элементы; в стиль, почти холодный, вторгаются образы, где присутствует поэзия, романтично многое и в манере думать и чувствовать: страсть Элленор, неопределенная мечтательность героя.
Думается, что Оже — один из столпов классицизма, деятельный враг нового в литературе (его речь в Академии послужила для Стендаля в
Прежде всего, отечественные исследователи Констана, очень немногочисленные, относят Констана к литературным направлениям XIX столетия — к романтизму или к реализму, вкладывая, разумеется, в эти термины различное содержание. В книге
Думается, что суждения эти исходят из того ограничительного понятия романтизма, которое господствовало, за очень редким исключением (С. В. Тураев, А. А. Елистратова) в годы, когда писались цитированные статьи. Далеко не всеми оно преодолено и ныне.
Нет слов, в «Адольфе» освоение нового героя более глубокое и зрелое, чем у Сталь и Шатобриана. Такой судья, как Пушкин — кстати, почитавший обоих, выбрал «Адольфа», называя роман, «в котором отразился век...» Здесь сказывается прежде всего творческая индивидуальность Констана, но, может быть, и некоторые другие причины. Прежде всего, роман нельзя столь безоговорочно причислять к литературе Империи, как это обычно делают. Правда, считается наиболее вероятным, что «Адольф» писался в конце 1806 в
Как бы то ни было, но фактом литературной жизни роман стал на втором году Реставрация, в совсем ином политическом и литературном климате, чем изданные в годы Консульства и Империи «Рене», «Дельфина» и «Коринна», с которыми его объединяют самые различные авторы — будь то Брандес, Азар или наши исследователи. Со времени Сент-Бева констатируют, что первые три-четыре года Реставрации малоплодотворны для литературы. Нодье 19 апреля
Можно ли считать «Адольфа» следующей стадией развития жанра по сравнению с романом начала века, и как это соотносится с вопросом, поставленным в заглавии данной статьи?
Хронологически «Адольфу» — если он и закончен в
Размеры статьи не позволяют проанализировать, в какой мере перечисленным условиям отвечает «Коринна», и тем более сопоставить с этой точки зрения романы Сталь и Констана. Но сейчас важнее всего, что он так понимал ее метод и принимал его как свой. Сформулирован принцип, чрезвычайно близкий к тому, который мы считаем реалистическим: подчинение автора объективному развитию характеров и вытекающих из них событий. Отвергнута присущая XVIII в. морализация, от которой, как известно, не посмел освободиться и Шодерло де Лакло. В «Адольфе», как и в «Рене», морализация отброшена в рамку и даже там приведены два различных мнения. Сам роман Констана отвечает принципу, выраженному в статье
Как я пыталась доказать, в «Адольфе» много общего с каждой из разновидностей романтического романа, созданных в начале века: если жанр монодии, замкнутость героя на себе сближают его с «Рене», то постоянная соотнесенность героя со светским кругом, более явная социальность, роднят его с романами Сталь. Но трезвость и последовательность самоанализа, отнюдь не рационалистического, некое новое соотношение наблюдения и переживания предсказывают новое явление, относящееся уже к новому, еще более противоречивому периоду истории литературы, — творчество великого психолога-реалиста, обронившего незабываемые слова: «Я пытаюсь, сколько могу, быть сухим. Я хочу заставить умолкнуть свое сердце, а ему кажется, что оно многое может сказать. Я дрожу всегда, что написал только вздох, когда думал, что отметил некую истину». Констана часто называли предшественником Стендаля, и, думается, это относится прежде всего к этой специфике психологизма.
Но тут мы вправе вспомнить предостережение, сделанное Н. Я. Дьяконовой: не награждать званием реалиста за зрелость и трезвость ума. А. А. Елистратова считает творчество Байрона последнего периода новой ступенью романтизма, когда по-новому проявилось его критическое отношение к субъективно-эмоциональной стороне романтического искусства, которое оно стремится подчинить дисциплине разума.
Отличие, которое А. А. Елистратова усматривает между разными этапами творчества одного поэта, в какой-то мере соответствует различию между творчеством Констана, с одной стороны, и Шатобриана и Сталь, с другой.
В 1810-е гг. в литературе Англии появляются произведения, особенно тесно сочетающие признаки обоих литературных направлений, взаимодействие которых, отмечает собою всю литературу первой половины XIX в. О преобладании романтизма или реализма в поэмах позднего Байрона, в различных романах В. Скотта много спорят. Думается, что «Адольф» Бенжамена Констана принадлежит к числу произведений, которые, как и названные, служат переходом к литературе 20-40-х гг., когда и романтизм и реализм насквозь проникаются социальностью, когда самая фатальность обретает общественно-историческое и психологическое истолкование (что не всегда значит — объяснение; недоговоренность, даже зашифрованность отнюдь не исключается). Углубляется и то, что отличало уже французский роман начала XIX в. — конкретность семейных, имущественных обстоятельств, точная локализация во времени и пространстве.
«Адольф» ближе к романтизму, чем к реализму. Автор — «господин лишь над личностью, обладающей реальной жизнью» (Кюмстан). Но то, что входит в основу романтизма, «культ свободной личности в ее душевной отьединенности», царит не только в психологии героя и автора, но в самом методе изображения героя и его соотношения: со средой, в образной системе, полностью подчиненной мировосприятию единственного персонажа, с которым у читателя устанавливается непосредственная связь. Такой герой не обязателен для романтизма, но присущ ему.
Л-ра: Метод и мастерство. Зарубежная литература. – Вологда, 1970. – Вып. 2. – С. 15-29.
Произведения
Критика