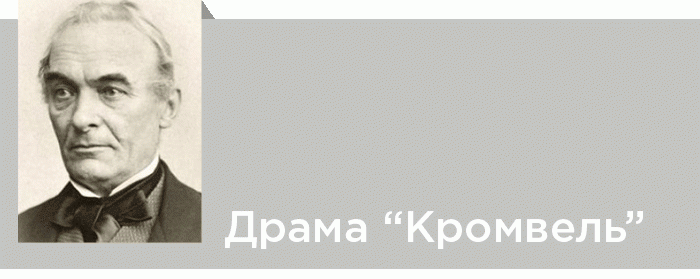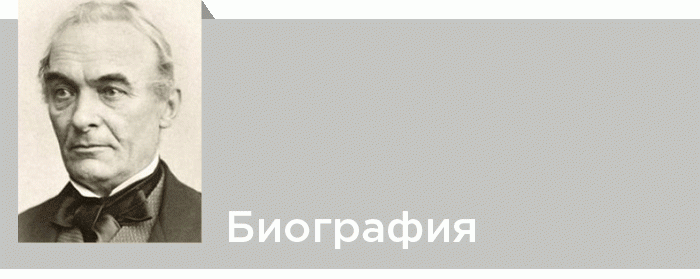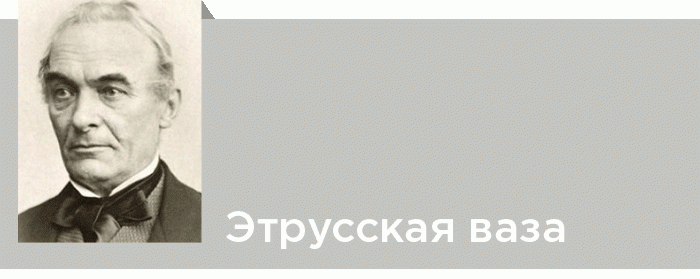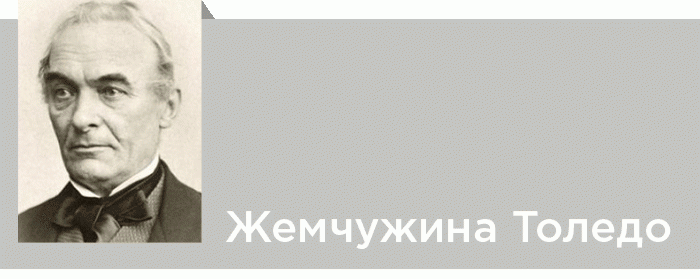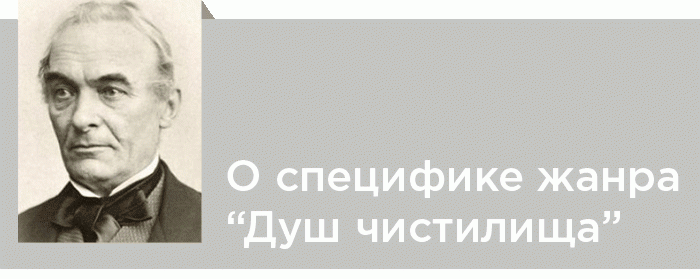«Оригинальный и острый писатель» (К 175-летию со дня рождения Проспера Мериме)
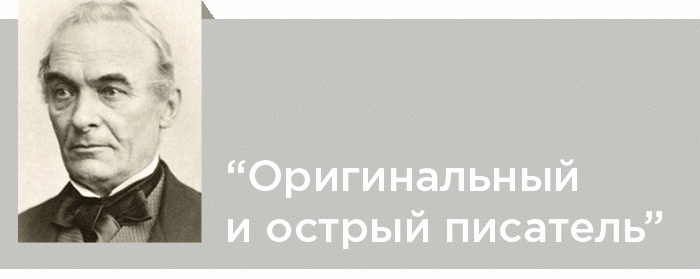
М. И. Бент
Познакомившись в 1857 году с Мериме в одном из парижских салонов, Тургенев так отозвался о нем: «Похож на свои сочинения: холоден, тонок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и меры и с совершенным отсутствием не только какой-нибудь веры, но даже энтузиазма». Русский писатель, сделавшийся впоследствии близким другом Мериме, имел возможность если не пересмотреть, то уточнить эту характеристику. Однако впечатление, вынесенное из первого свидания, несомненно, отражало какие-то подлинные приметы духовного облика Мериме. Каков же был этот замечательный человек, выдающееся литературное дарование которого было признано всеми при появлении самых ранних произведений и который своей оригинальностью разрушает всякие попытки причислить его к какой-либо литературной школе?
Проспер Мериме (1803-1870) вступил в литературу в 20-е годы, в эпоху «романтических битв», и его личность, являясь неповторимой, одновременно включала типические черты людей того времени. Исследователи уже давно заметили, что некоторым персонажам своих произведений Мериме придал черты «тайных автопортретов». Особенно охотно при этом ссылаются на характеристику Сен-Клера, героя новеллы «Этрусская ваза»: «Он родился с сердцем нежным и любящим; но в молодости, когда так легко воспринимаются впечатления, влияющие на всю жизнь, его слишком пылкая чувствительность навлекла на него насмешки товарищей. Сен-Клер был горд и самолюбив. Он дорожил людским мнением, как ребенок. С тех пор он принялся искусно скрывать все проявления того, что, по его понятиям, было унизительной слабостью. Цель была достигнута, но победа обошлась ему дорого. Перед людьми ему действительно удавалось скрывать ощущения нежной души своей, но терзался он ими тем сильнее, чем больше замыкался в самом себе».
В воспоминаниях о друге юности Викторе Жакмоне Мериме почти повторяет эту характеристику и отчасти связывает скрытность чувствительного сердца с «общей тенденцией своего поколения».
Действительно, литературный портрет поколения 20-х годов, верно предугаданный еще Б. Констаном в романе «Адольф», включал в качестве непременного атрибута способность скрывать волнения сердца под маской цинического равнодушия или скептической иронии. Несомненно, существовал и подлинный образец этого духовного явления, порожденного эпохой разочарований, связанных с наступлением века наживы, с утратой свободолюбивых и героических надежд в эпоху Реставрации (1815-1830), с философским скептицизмом и атеизмом.
О том, что перед нами явление типическое, говорит и близость в нему образа «лишнего человека», каким он впервые предстал в русской, литературе у Пушкина и Лермонтова. Прославленный художник Э. Делакруа, познакомившись с романом «Герой нашего времени» и давая ему высокую оценку, замечает в «Дневнике»: «Видно, что автор читал рассказы Мериме». Если сопоставить несколько нарочитое и все же в целом правдивое признание Печорина («...моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца...») с приведенной выше характеристикой Сен-Клера,, такое наблюдение не вызовет удивления, и существенна здесь верность литературного образа жизненному прототипу.
На протяжении всей жизни Мериме оставался верен литературным вкусам молодости; он сохранил в редкой неприкосновенности благородное, чуткое и любящее сердце, распознать которое было дано только близким людям. Когда в воспоминаниях о старшем друге — Стендале Мериме говорит о его почти болезненной скрытности, это носит одновременно и оттенок самопризнания. Склонность к мистификациям, которую обнаружил юный Мериме при вступлении в литературу, склонность, которая порой ставит в тупик исследователей, была лишь более отчетливой у Мериме, но не случайной и не единственной: ее находим у сверстников и старших современников писателя, как и вкус к литературной шутке, пародии, розыгрышу, столь типичный для романтической теории искусства. Отсюда, разумеется, и беззаботность, с которой Мериме относился к обнаружению его авторства после выхода в свет «Театра Клары Гасуль» (1825): раскрытие псевдонима входило в замысел.
Во вступительной заметке автор, укрывшийся под именем некоего Жозефа л'Эстранжа, представляет Клару Гасуль не только как одаренную актрису и пленительную женщину, но и как драматурга, обладающего острым и блестящим умом, как человека передовых убеждений и боевого темперамента. Злободневные навеки на режим Реставрации пронизывают все предисловие, они же определяют и содержание входящих в сборник пьес. И конечно, маленькая пьеса «Женщина-дьявол», где инквизиторы отрекаются от бога и вступают в кровавую борьбу за сердце прекрасной Марикиты, в концентрированном виде выражает авторскую позицию. Противопоставить религиозному мракобесию естественные человеческие чувства, разоблачить жестокость, прикрывающуюся словами о милосердии, — такие задачи ставили перед собой и просветители XVIII века (достаточно вспомнить вольтеровского «Кандида» или «Монахиню» Дидро). Не было ли обращение Мериме к подобным коллизиям анахронизмом в 20-е годы XIX века? Родители писателя, люди свободомыслящие, воспитали его в духе безбожия (он даже не был крещен), в духе просветительских идей. Эти-то идеи и подвергались озлобленным атакам со стороны приверженцев феодального прошлого, защитников религиозных догматов и церковных привилегий в годы Реставрации, последовавшей за падением Наполеона.
Был у Мериме — автора «Театра Клары Гасуль» и еще один противник— отжившие условности классицистического театра, против которых в это время, опираясь на авторитет Шекспира и Лопе Де Вега, сражались романтики. В прологе к «Испанцам в Дании» (эта пьеса, правда, вошла в состав сборника позднее) Клара Гасуль заявляет: «Я, чтобы судить о пьесе, не стану справляться, происходит ли событие в двадцать четыре часа и все ли действующие лица собираются в одном месте: одни — чтобы составить заговор, другие — чтобы дать себя зарезать, третьи — заколоться, над хладным трупам...»
Испанский «маскарад», к которому прибегает Мериме, при всей его условности очень ограничен: писатель не только насыщает произведение многочисленными испанскими реалиями, не только обнаруживает прекраснее знание «местного колорита», но и в самой технике построения руководствуется испанскими образцами, проявляя поразительную художественную интуицию. Нельзя связывать, «испанский колорит» пьес исключительно с необходимостью обезопасить себя от преследования властей и цензуры в равной степени не приходится игнорировать и очевидную связь с злободневными проблемами. Творческая личность неразложима на составные части: любовь к Испании определила формы воплощения актуальной проблематики.
Известно, что Мериме удалось ввести в заблуждение Пушкина, Мицкевича и других знаменитых современников другой своей мистификацией — сборником подражаний южнославянской поэзии «Гузла». Это произошло потому, что и в основе этих подражаний лежит не игра причудливого ума (такую мысль пытался внушить сам Мериме), а тщательное изучение этнографических источников и глубокое вчувствование в образцы славянского фольклора. Еще в XVIII веке у Мериме были выдающиеся предшественники, занимавшиеся собиранием подлинных образцов народной поэзии. Позднее романтики открыли в ней источник литературного обновления. Можно ли удивляться, что молодой Мериме, находившийся в гуще споров о романтизме, «местном колорите», о преимуществах Шекспира перед Расином, отозвался подражаниями славянскому фольклору!
Пушкин переложил некоторые сюжеты «Гузлы» в «Песнях западных славян», и это обнаруживает перекличку дарований, чутких к подлинной поэзии. Драгоценно и то, что эта связь в дальнейшем не распалась, напротив, имена Пушкина и Мериме оказались в тесном взаимодействии. Порой хочется предположить существование внутреннего родства двух дарований, истоки которого можно усмотреть в некоторых особенностях духовного типа, сформированного эпохой, в сходстве интеллектуальных воздействий, в том артистизме, которым, называя его «безукоризненным вкусом», восхищался у Пушкина Мериме и который был так присущ самому французскому писателю.
То, что Пушкин и Мериме почти одновременно создают исторические драмы («Борис Годунов» — 1825, «Жакерия» — 1828), само по себе еще ни о чем не говорит. В это время обращение к истории вообще и к переломным ее моментам в особенности было чуть ли не обязательным для романтиков. Оно помогало осмыслить недавнее прошлое, и, конечно, ориентиром был великий шекспировский театр. Но есть в пушкинских «Сценах из рыцарских времен» эпизод (Клотильда, узнавшая о том, что ее любит конюший Франц, чувствует себя оскорбленной и просит брата прогнать - дерзкого слугу), который прямо восходит к одной из сцен «Жакерии» (сцена 8). И это представляется знаменательным как образец доверия великого русского поэта к наблюдениям французского собрата, которого он считал «острым и оригинальным писателем, автором... произведений, чрезвычайно замечательных».
В предисловии к «Жакерий» Мериме замечает: «Что касается причин, вызвавших Жакерию, то о них нетрудно догадаться. Эксцессы феодального строя должны были повлечь за собой другие эксцессы». И он развертывает перед читателем серию картин крестьянской войны. Название этой войны происходит от презрительной клички — «жаки», которой наградили крепостных высокомерные бароны. Автор стремится «дать представление о жестоких нравах четырнадцатого столетия» и избежать при этом пристрастности феодальных хронистов.
Антифеодальный дух, которым проникну» та «Жакерия», присущ и единственному роману писателя «Хроника царствования Карла IX» (1829). Его заглавие звучит как злободневный намек. Ведь во Франции засилье клерикалов особенно отчетливо сказалось именно в 20-е годы, при Карле X, когда представители тех кругов, дворянства, которые «ничего не забыли и ничему не научились», сделали обреченную на провал попытку вернуться к дореволюционным порядкам. Обращаясь к событиям кровавой Варфоломеевской ночи (1572), писатель не скрывает параллелей с современностью, но ставит перед собой задачу исторически правдиво воссоздать отдаленную эпоху. Опорой для него стали не официальные исторические источники, а свидетельства частных лиц. «В истории, — говорит Мериме, — я люблю только анекдоты, а из анекдотов предпочитаю такие, в которых... нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи». В основе романа Мериме как будто лежит любовная интрига. Однако взаимоотношения Дианы и Бернара, принадлежащих к враждующим религиозным партиям, становятся здесь той «частной» историей, в которой отражаются закономерности исторических движений. Вершители судеб нации и никому неведомые люди оказываются не только участниками, но и двигателями событий. Мериме показывает Варфоломеевскую ночь как огромное преступление, но и фанатизм гугенотов вызывает его неприязнь.
Скептицизм, характерный для исторических воззрений Писателя, был связан с трезвой оценкой своего времени, с критическим отношением к буржуазному обществу. Раскроем его письма — и мы убедимся в том, что правящие классы внушают ему величайшее презрение эгоизмом, пошлостью, ханжеством, глупостью. Напротив, в народе он видит источник свежести, красоты и величия, идет ли речь об «испанской черни» или о народе Парижа в дни революции.
Суровый корсиканец Маттео Фальконе, убивающий девятилетнего сына за то, что он нарушил закон гостеприимства и выдал жандармам разбойника, нашедшего убежище на ферме. Африканский царек Таманго, бесстрашно отстаивающий свою свободу на невольничьем бриге капитана Леду. Красавица Коломба, заставляющая брата принять участие в вендетте, и наконец, цыганка Кармен, для которой нет большего блага на земле, чем чувствовать себя свободной. Эти яркие натуры — прямая противоположность расчетливым обывателям и рабам светских условностей.
Аналитический ум Мериме исследует границы этой свободы и убеждается в том, что человеческие страсти, характеры людей, их отношения неразрывно связаны со всем укладом жизни. Там, где внутренние понятия находятся в согласии с установившимися моральными нормами («Маттео Фальконе», «Таманго», «Коломба»), перед нами натуры, пусть простые и даже примитивные, но яркие, цельные, монументальные. Мериме не восхищается поступком Маттео, не выказывает сострадания Фортунато: он заставляет нас изумиться цельности натуры полудикого корсиканца и сам любуется уходящим в прошлое красочным и жестоким миром.
Но вот согласие нарушено, и свобода превращается в нравственный гнет, ведет к беде, к трагедии. Мы видим это на примере Орсо, брата Коломбы, для которого участие в кровной мести не является внутренней необходимостью, на примере дона Хосе («Кармен»); который так и не смог привыкнуть к «вольной» жизни бандита.
Прославленное бесстрастие Мериме оказывается на деле исследовательской страстью, и жанровые особенности его новелл позволяют увидеть эти свойство. Писатель, как правило, начинает с наблюдений над природой, обычаями, нравами. Это кажется условным приёмом, особенно если (как в новеллах «Кармен» и «Локис») автор скрывается под видом ученого путешественника. Новелла «Кармен» с особенной изощренностью демонстрирует внешнее бесстрастие автора и его исследовательскую страсть. Она написана в 1845 году. В это время Мериме уже был близко знаком с русской культурой. Мотивы пушкинских «Цыган», поэмы, которую Мериме ценил необычайно высоко и которую перевел на французский язык, несомненно, сказались в его произведении. Есть и другая, менее известная параллель — с лермонтовской «Таманью». Так происходит новая «встреча» французского писателя с Пушкиным и Лермонтовым, «встреча», плодотворно повлиявшая на Мериме, так развивается сложный процесс взаимного обогащения литератур.
Если в «экзотических» новеллах автор присутствует в качестве наблюдателя, любознательного путешественника (Мериме по долгу службы — в течение многих лет он занимал пост главного инспектора культурных памятников Франции — совершал многочисленные путешествия, в частности на Корсику, неоднократно бывал в Испании), то в новеллах «светских» его присутствие становится и более личным и более неуловимым. Черты характера и поведения, которые роднят Сен-Клера с автором, присущи и ряду других персонажей («Двойная ошибка», «Аббат Обен»). Эти «герои двойной жизни» принуждены «скрывать ощущения нежной души своей», так как общество, в котором они живут, безжалостно губит искренние и бескорыстные порывы, смеется над подлинным чувством и, не веря ни во что, исповедует ханжескую мораль.
Как рассказчик Мериме нейтрален, почему же тогда читателя трогает судьба героев «Этрусской вазы», почему сострадает он бедной Арсене Гийо? Огюст Сен-Клер, герой «Этрусской вазы», гибнет на дуэли. Светская сплетня, бросающая тень на прошлое возлюбленной, заставляет его искать ссоры с обидчиком. Накануне дуэли он узнает, что напрасно придал значение пустым словам. Однако это не мешает ему исполнить требования «кодекса чести». В конце новеллы секундант, рассказав о гибели Сен-Клера, выражает сожаление о сломанном пистолете. Несколько раньше Матильда, возлюбленная Сен-Клера, желая доказать неосновательность его ревнивых подозрений, разбивает вдребезги ценную вазу. В. кратком эпилоге сухо сообщается о смерти безутешной Матильды. Жизнь человека — и судьба вещи. Это сопоставление, выраженное поступками, открывает нам и силу чувства главных героев, и безжалостную трезвость буржуазного мира. Найденные писателем жесты лаконичны и исчерпывающи. Вот это умение в немногих словах передать ощущение драмы и сообщает новеллам Мериме силу эмоционального воздействия.
Впрочем, современники не очень доверяли «бесстрастию» писателя. Его новелла «Арсена Гийо» вызвала настоящий скандал, «нашли, что она богохульна и безнравственна» (Мериме в одном из писем). Писатель осмелился противопоставить подлинность чувства продажной женщины эгоизму и лицемерию «дамы из общества».
Арсена говорит этой светской благотворительнице: «Вы получили хорошее воспитание, вы никогда не страдали. Когда богат, легко быть честным. Я тоже была бы честной, если бы у меня к тому была возможность». Судьба Арсены ставится в социальный ряд, получает убедительную жизненную мотивировку.
«Светские» новеллы Мериме особенно отчетливо обнаруживают принадлежность писателя к критическому реализму, который в полный голос заявил о себе в произведениях Бальзака и Стендаля.
Одна из «загадок» Мериме состоит в том, что во второй половине жизни он почти отказался от художественного творчества, а немногое, что было создано в это время, уступает более ранним произведениям. Так случается, когда писатель перестает изучать жизнь, утрачивает контакт с эпохой. Действительно, Мериме весьма критически смотрел на современную ему буржуазную Францию, страну умеренных чувств и умеренных идей. Будучи в силу личных связей человеком близким ко двору Наполеона III, Мериме тяготился и своим официальным положением, и тем ничтожным окружением, на которое оно его обрекало.
Находя свою эпоху в высшей степени непоэтичной, Мериме со страстью отдается изучению неведомого континента — России. Еще в 40-е годы он начал изучать русский язык и позднее писал: «Это красивейший из всех европейских языков, не исключая и греческого». Он занимается русской историей и знакомит современников с ее яркими и романтическими страницами («смутное время», эпоха петровских реформ). Но, конечно, главный интерес писателя принадлежит отныне русской литературе. Статьи его о Пушкине, Гоголе, Тургеневе дышат неподдельным энтузиазмом. Мериме переводит сам и редактирует чужие переводы, содействует расширению знакомства с русской культурой. Суждения его о русском языке, о стиле Пушкина и сейчас поражают проницательностью, их верность уже в наше время подтвердилась специальными исследованиями. Тургенев имел все основания сказать о Мериме: «Мы, русские, обязаны почтить в нём человека, который питал искреннюю и сердечную привязанность к нашему народу, к нашему языку, ко всему нашему быту, — человека, который положительно благоговел перед Пушкиным и глубоко и верно понимал и ценил красоты его поэзии».
Мериме умер в годину испытаний для его родины, во время франко-прусской войны, бесславно завершившей позорную эпоху Второй империи. За десять дней до смерти он писал: «Всю жизнь стремился я быть свободным от предрассудков, быть сперва гражданином вселенной, а потом уже французом, но все эти философические покровы оказались тщетными. Ныне я кровоточу ранами этих глупых французов, плачу от их унижения и, как бы не благодарны и нелепы они ни были, я их по-прежнему люблю».
Эта исповедь раненого сердца приоткрывает его, быть может, главную тайну. Мериме никогда не был высокомерным «денди», равнодушным к своей эпохе. Завершенность его творений свидетельствует о глубокой серьезной мысли и душевной сдержанности, о стремлении быть верным жизненной правде. Мериме всегда оставался писателем-гуманистом, убежденным противником нетерпимости, острым и трезвым критиком буржуазного мира.
Л-ра: Литература в школе. – 1978. – № 5. – С. 88-91.
Произведения
Критика