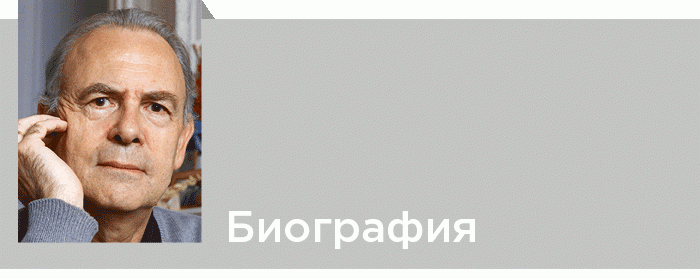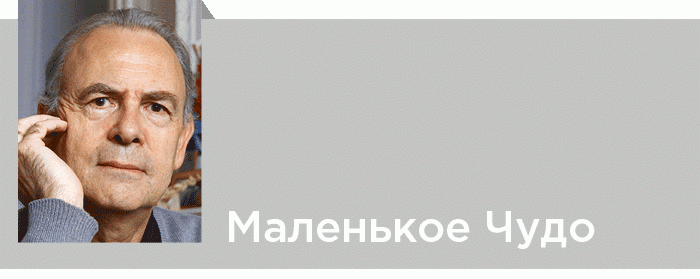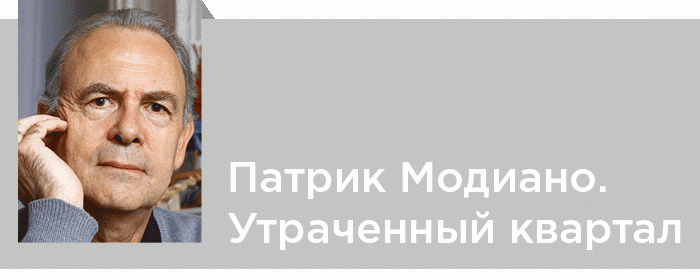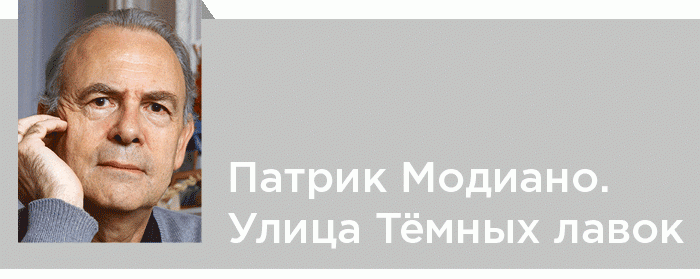Патрик Модиано. Ночная трава

(Отрывок)
Всё было, было взаправду. Порой я замечаю, как говорю это посреди улицы, но голос мой будто звучит со стороны. Звучит тускло, бесцветно. Всплывают имена, лица, отдельные черты. Но нет того, с кем можно говорить об этом. Должно быть, еще живы два-три свидетеля тех событий, но и они, верно, давно все позабыли. Порой начинаешь думать, что их никогда не существовало.
Но все и вправду было. И доказательством тому — черный блокнот для заметок, исписанный моей рукой. Когда идешь сквозь туман, ищешь твердую почву, потому я сверяю со словарем каждое важное слово: «Заметка — короткая запись с целью позднее напомнить о чем-либо». Листы блокнота пестрят именами, телефонами, датами встреч и набросками, из которых часть, возможно, даже литературного толка. Но как назвать их? Дневник? Разрозненные воспоминания? Среди прочего, около сотни объявлений, списанных из газет. Потерянные щенки. Меблированные комнаты. Вакансии и объявления о найме. Гадалки.
Некоторые отдаются в памяти громче других. Особенно когда вокруг — тишина. Телефон уже давно молчит. И никто не стукнет в дверь. Должно быть, все решили, что я мертв. Так сидишь один, напрягая внутренний слух, точно ловишь слабые звуки морзянки, которые шлет издалека неведомый собеседник. Часть их смешалась и смолкла навсегда — как ни старайся, уже не услышишь. Но отдельные имена вдруг проступают в тишине — и на белых листах блокнота.
Данни, Поль Шастанье, Агхамури, Дювельц, Жерар Марсиано, «Жорж», отель «Юник», улица Монпарнас… Помню, в этих кварталах мне всегда было не по себе. Я проходил там на днях, и у меня возникло странное чувство. Не оттого, что прошло много времени, нет, — мне вдруг показалось, что другой я, мой близнец, по-прежнему живет здесь; он все так же молод и день за днем продолжает жить так, как жил то недолгое время я, вплоть до мельчайших подробностей.
Отчего прежде мне было здесь не по себе? Неужели всему виной кладбище и вокзал — от них здешние улочки всегда стояли в тени? Теперь они кажутся безобидными. Фасады зданий перекрасили в светлые тона. Словом, ничего необычного. Нейтральные воды. Возможно ли, чтоб мой двойник до сих пор ходил этими улицами, следуя старому моему расписанию? Чтоб повторял без конца каждый случайный мой жест? Нет, здесь ничего не осталось от нас. Время зачистило доску. Передо мной — новый квартал, свежий и стерильный, будто выстроенный заново на месте прежнего разносчика заразы. И хоть большая часть домов сохранилась, на них глядишь, как на чучело собственного пса, которого любил, когда он был еще жив.
Я очень жалел, что не взял с собой черный блокнот, когда бродил здесь в то воскресенье, поэтому старался припомнить отдельные записи так. Во столько-то встреча с Данни. Телефон отеля «Юник». Имена тех, с кем виделся там. Шастанье, Дювельц, Жерар Марсиано. Телефон Агхамури в марокканском корпусе студенческого городка. Короткие очерки о разных уголках здешних кварталов, которые я планировал позже озаглавить «Замонпарнасье», пока не узнал, что некто Озер Варшавский уже использовал это заглавие.
Был октябрь, воскресенье, почти вечер, и ноги сами завели меня сюда — в любой другой день я обошел бы район стороной. Нет, тут не паломничество. Просто по воскресеньям, особенно под вечер, время часто дает брешь. Нужно только уметь скользнуть в нее. Чучело пса, которого любил прежде. Проходя мимо одиннадцатого дома по улице Одессы и глядя на его грязноватые бело-бежевые бока — а шел я по другой стороне, — я вдруг почувствовал, что брешь раскрылась предо мной: будто щелкнуло что-то. Какое-то время я молча смотрел на дом, с трех сторон обступивший маленький дворик. Здесь парковал машину Поль Шастанье, когда жил в отеле «Юник». Как-то раз я спросил, почему он не ставит ее перед отелем. Он смущенно улыбнулся и ответил: «На всякий случай».
Красная «ланчия». Конечно, она привлекала внимание. Но зачем же покупать такую модель, да еще такого цвета, если хочешь быть незаметным… Позже он объяснил мне, что в том доме живет его приятель, и он часто дает ему машину. Да, потому она там и стоит.
«На всякий случай» — вот его слова. Я довольно быстро понял, что у Поля Шастанье, тщательно следившего за собой сорокалетнего брюнета, которого я видел не иначе как в сером костюме или темно-синем пальто, нет определенной профессии. Иногда по вечерам, в отеле «Юник», я слышал, как он говорит по телефону, но стены там толстые, и уловить нить разговора я не мог. Слышен был только его значительный, а порой резкий голос. И долгие паузы. Я познакомился с Шастанье в отеле «Юник», тогда же, когда и с остальными: с Жераром Марсиано, с Дювельцем — забыл, как его звали… Их образы расплылись в моей памяти, а голоса смешались. Поль Шастанье вспоминается четче других из-за цвета: очень черные волосы, темно-синее пальто, красная машина. Думаю, он тоже сидел в тюрьме, как Марсиано и Дювельц. Он был старше их и наверняка уже давно умер. Вставал он поздно и встречи назначал довольно далеко, где-нибудь за товарной станцией — тот район я тоже знал неплохо: улицы Фалгьер, Альре и даже немного дальше, до улицы Фаворит… Он звал меня туда несколько раз, и мы сидели в каком-нибудь безлюдном кафе, где, как ему казалось, его точно не выследят. Меня часто подмывало спросить: может, ему запрещен въезд? — но я не смел и молчал. Опять же почему тогда он парковал свою красную «ланчию» прямо перед кафе? Ведь безопаснее было пойти пешком. Тогда я часто бывал в тех краях: район начинали сносить, и приходилось шагать вдоль пустырей, мимо низких домов с заделанными кирпичом окнами и гор строительного мусора — точно после бомбежки. И среди всего этого — красная машина, запах кожи в салоне — вот то яркое пятно, вокруг которого память… Память ли? Нет. В то воскресенье я окончательно убедился, что время — недвижно, и если скользнуть в брешь, то найдешь все нетронутым, на прежних местах. Хотя бы даже красную машину. Так я решил дойти до улицы Вандам. Там было кафе, где у нас с Шастанье состоялся самый откровенный разговор. Мне даже казалось, что еще немного, и он раскроется совсем. Намеками он предлагал мне «работать» на него. Я отвечал уклончиво. Он не настаивал. Я был тогда очень молод, но и очень осторожен. Позже я заходил в это кафе с Данни.
Уже стемнело, когда я добрался в то воскресенье до проспекта Мэн. Я пошел по четной стороне, вдоль новых высотных домов, идущих единым фасадом. Ни одного светлого окна. Нет, все ведь и вправду было. И улица Вандам выходила на проспект где-то здесь, но в этот вечер дома стояли плотно, единой стеной, и нигде не было даже зазора. Оставалось только смириться с фактом: улицы Вандам больше нет.
Я подошел к стеклянной двери одного из зданий, примерно там, где мы прежде сворачивали на улицу Вандам. Внутри — неоновый свет. Длинный и широкий коридор, а по бокам, за стеклянными стенами, — офисы. Может, какая-то часть улицы Вандам еще сохранилась там, внутри квартала, и теперь зажата меж новых высоток. Я подавил нервный смешок от этой мысли. Продолжая вглядываться вглубь коридора, я понял, что не вижу конца. От неона хотелось моргать. Вероятно, этот коридор просто повторяет русло улицы Вандам. Решив так, я закрыл глаза. Кафе находилось в самом ее конце, где она переходила в тупик, упираясь в стену вагоноремонтных мастерских. Там Поль Шастанье ставил свою машину — у самой черной стены. Прямо над кафе была гостиница «Персеваль» — так называлась одна улица неподалеку, — но теперь и она погребена под многоэтажными домами. В черном блокноте записано все.
Ближе к концу Данни стало «не по себе» в отеле «Юник», как выразился Поль Шастанье, и она сняла комнату здесь, в гостинице «Персеваль». Она явно избегала кого-то, но не хотела, чтоб я знал, кого именно: Шастанье? Дювельца? Жерара Марсиано? Чем чаще я думал об этом впоследствии, тем больше убеждался, что беспокойство стало в ней заметно после того, как за стойкой регистрации появился незнакомый мужчина, — Шастанье сказал мне тогда, что это управляющий отелем, некто Лахдар. В блокноте после его фамилии в скобках стоит: Давэн.
* * *
Я познакомился с ней в столовой университетского городка, куда часто ходил побыть один. Она жила в американском корпусе, и я не мог понять, с какой стати: ни американкой, ни студенткой она не была. Вскоре после нашей первой встречи она съехала. Дней через десять, наверное. Я боюсь писать здесь полностью ее имя и фамилию, как записал тогда в блокнот: Данни Р., американский корпус, бульвар Журдан, 15. Вдруг она еще жива и, сменив множество имен, вернулась к прежним — в таком случае я бы не хотел привлекать к ней внимание. Впрочем, прочти она в книге фамилию, некогда принадлежавшую ей, она, быть может, вспомнила бы обо мне и послала весточку. Но я не слишком обольщаюсь на этот счет.
При первой нашей встрече я записал ее имя как Дани, но она взяла у меня ручку и исправила на Данни, своей рукой, прямо у меня в блокноте. Позже я обнаружил, что так — Данни — называется стихотворение одного поэта, которого я тогда любил, — я даже видел пару раз, как он выходит из отеля «Таранн» на бульваре Сен-Жермен. Удивительно, какие бывают совпадения.
Она съезжала в воскресенье и попросила меня приехать помочь с вещами. Когда я подошел к американскому павильону, Данни уже ждала внизу с двумя дорожными сумками. Она сказала, что нашла недорогую комнату в отеле, где-то на Монпарнасе. Сумки оказались нетяжелыми, и я предложил дойти пешком.
Мы пошли по проспекту Мэн. Как и в то воскресенье много лет спустя, здесь не было ни души. Она сказала, что с комнатой ей помог друг из марокканского корпуса, тот самый Агхамури — она познакомила меня с ним еще в первую нашу встречу.
На перекрестке возле кладбища мы присели на скамейку. Данни порылась в сумках: проверить, все ли взяла. Потом двинулись дальше. Как она объяснила, у Агхамури была комната в том отеле, потому что хозяин — марокканец. Так почему тогда сам он живет в студенческом городке? Потому что он студент. К тому же у него в Париже есть и другое жилье. А она, что, тоже студентка? Агхамури помог записаться на факультет в Санзье. Последние слова она произнесла нетвердо, едва шевеля губами. Хотя как-то раз я и правда ездил с ней до Санзье на метро, по прямой от Дюрок до Монж. Когда мы поднялись в город, накрапывал дождь, но нас это не испугало. Как и велел Агхамури, мы пошли по улице Монж и через какое-то время прибыли на место: перед нами была обширная площадь или, лучше сказать, пустырь, окруженный низкими полуразрушенными домами. Под ногами хлюпала глина и, так как уже темнело, приходилось особенно осторожно обходить лужи. На той стороне виднелось новое здание, очевидно, только недавно построенное — кое-где еще торчали леса… Агхамури ждал нас у входа, и свет из холла подсвечивал его со спины. Мне показалось, что взгляд его был спокойнее, чем обычно, будто само крыльцо корпуса Санзье придавало ему уверенности, несмотря на дождь и мрачный вид пустыря. Все это вспоминается вразброс, рывками, и то и дело гаснет, мерцая. Совсем другое — четкие записи в блокноте. Они нужны мне, чтоб заново склеить киноленту из разбежавшихся в стороны кадров. Но есть в блокноте и другие записи: они касаются исследования, которым я занимался тогда же, и предмет его уводит вглубь XIX, а то и XVIII столетия, как ни странно, они кажутся мне более понятными и прозрачными, хоть я и не жил во времена упомянутых в них событий. И даже имена тех персонажей — баронесса Бланш, Тристан Корбьер, Жанна Дюваль и еще Мари-Анн Леруа, казненная на гильотине 26 июля 1794 года в возрасте 22 лет, — звучат привычнее имен моих современников.
Уже вечерело, когда мы добрались тем воскресеньем до отеля «Юник». В холле Данни ждал Агхамури, в компании Дювельца и Жерара Марсиано. Тогда я и познакомился с ними. Они настояли, чтоб мы пошли смотреть сад, начинавшийся за отелем, где были расставлены столики с зонтиками от солнца. «Твои окна выходят на эту сторону», — сказал Агхамури, но Данни, казалось, было все равно. Дювельц. Марсиано. Я изо всех сил стараюсь воскресить их образы, нащупать что-то, что заставило бы их после стольких лет проявиться во всей полноте и жизни, чтоб я снова ощутил их присутствие. Даже не знаю… Запах? Дювельц всегда выглядел аккуратно: ровные светлые усы, галстук, серый костюм. Он пользовался одной и той же туалетной водой — много лет спустя я узнал ее название, когда нашел в гостиничном номере забытый кем-то флакон. «Pino Silvestre», «лесная сосна» по-итальянски. На пару секунд запах «Pino Silvestre» позволил мне увидеть со спины блондина, грузно шагавшего вниз по улице Монпарнас: это Дювельц. И — все исчезло. Так, проснувшись, мы часто не помним сна — остается лишь легкий отпечаток, который тает с приходом дня. Жерар Марсиано, напротив, был брюнетом с очень белой кожей, роста невысокого и с характерным взглядом: он смотрел как бы в глаза, но не видел собеседника. Лучше всех из них я знал Агхамури. Мы много раз сидели в кафе на площади Монж по вечерам, после его занятий в Санзье. И каждый раз мне казалось, что он хочет сообщить что-то важное — иначе зачем было звать меня сюда, подальше от остальных. Зимой по вечерам здесь было тихо, и мы засиживались одни в дальнем углу, будто в укрытии. Черный пудель смотрел на нас, положив морду на табурет, и моргал глазами. Бывает, отдельные моменты сопрягаются в моей памяти с какими-то строками, и после я подолгу ищу, кто их автор. Так, думая о вечернем кафе на площади Монж, я всегда вспоминаю строки: «Когтистые пуделя лапы царапали ночи гранит».
После мы шли пешком до Монпарнаса. По пути Агхамури рассказывал кое-что о себе, а это вообще случалось редко. Не так давно его выгнали из марокканского корпуса, но я так и не узнал, по политическим причинам или нет. Друзья устроили его в небольшой квартирке в Шестнадцатом округе, рядом с Домом радио, той круглой махиной. Но ему больше нравилось в отеле «Юник», где распорядитель, «приятель из Марокко», оставил ему комнату. Почему бы тогда не съехать с квартиры в Шестнадцатом округе? — «Там живет моя жена. Да, я женат». — Тут я почувствовал, что больше он не скажет ни слова. Впрочем, на расспросы он никогда не отвечал. То немногое, что он доверил мне — хотя доверием это назвать трудно, — говорилось по пути от площади Монж до Монпарнаса: мы подолгу шли молча, будто ходьба помогала ему собраться с духом, прежде чем что-то сказать.
Одно не давало мне покоя. Был ли он студентом на самом деле? Я как-то спросил, сколько ему лет, и он ответил: тридцать. Потом, кажется, пожалел, что сказал. Разве можно быть студентом в тридцать лет? Я не решился задать ему этот вопрос, боясь задеть. А Данни? Ей-то зачем хотелось в студентки? И неужели можно так вот запросто взять и записаться на этот факультет? Когда я смотрел на них обоих, в отеле «Юник», они совсем не походили на студентов, и мне порой казалось, что та огромная, недостроенная громада факультета у пустыря где-то рядом с Монж на самом деле стоит в другом городе, в другой стране, в другой жизни. Может, причиной тому Поль Шастанье, Дювельц, Марсиано и те люди за стойкой регистрации? Мне вечно было не по себе в здешних переулках. В самом деле, вид у них мрачноватый. Они вспоминаются мне всегда под дождем, хотя другие районы Парижа я представляю скорее залитыми солнцем. Мне кажется, после войны Монпарнас выцвел. «Ля Куполь» и «Ле Селект» еще сверкали редкими огнями на том конце бульвара, но квартал утратил свой дух. Душа и талант покинули здешние места.
Как-то в воскресенье под вечер я шел здесь с Данни — там, где кончается улица Одессы. На улице никого не было, начинался дождь. Прячась от него, мы забежали в кинотеатр «Монпарнас» и уселись в глубине зала. Мы попали в антракт, поэтому не знали, как называется фильм. В огромном полузаброшенном кинотеатре мне было так же неуютно, как и на здешних улицах. Пахло электричеством, как из отдушин метро. Среди зрителей попадались солдаты-отпускники — когда стемнеет, поезда повезут их в Бретань, Брест или, скажем, в Лорьян. По укромным углам ютились парочки, и, когда звук фильма затихал, были слышны их стоны, вздохи и все нарастающий скрип кресел… Я спросил Данни, надолго ли она решила остаться в этом районе. Нет. Ненадолго. Вообще, ей бы лучше снять комнату попросторнее, в Шестнадцатом округе. Там спокойно, и никто тебя не знает. И уж точно никто не найдет. «А тебе что, нужно скрываться?» — «Нет. Вовсе нет. А тебе как, нравится район?»
Ясно было, что она хочет уйти от неудобного вопроса. Что мне было отвечать? Нравится мне район или нет — это не имело значения. Мне теперь кажется, что я проживал тогда две жизни сразу: внутри одной, будничной, текла другая. Точнее, эта вторая, яркая, жизнь каким-то образом соединялась с повседневной, тусклой жизнью, придавая ей особое таинственное свечение, которого на самом деле в ней не было. Так бывает во сне, когда нам являются места, где мы бывали много лет назад: они вдруг принимают необычный вид, как та унылая улица Одессы или пахнущий метро кинотеатр.
В тот вечер я проводил ее до отеля «Юник». Там она встречалась с Агхамури. «Ты знакома с его женой?» — спросил я. Данни была очень удивлена, что я знаю о ее существовании. «Нет, — ответила она. — Они почти не видятся. Разошлись, или вроде того». То, что я так точно воспроизвел здесь ее слова, — не моя заслуга: они есть в блокноте, прямо под именем Агхамури. Ниже на той же странице идут записи, уже не имеющие никакого отношения ни к угрюмым кварталам Монпарнаса, ни к Данни, ни к Полю Шастанье и Агхамури. Они посвящены Тристану Корбьеру и еще Жанне Дюваль, любовнице Бодлера. Похоже, я узнал, где они жили, так как в блокноте написано: «Корбьер, ул. Фрошо, 10; Жанна Дюваль, ул. Соффруа, 17 — ок. 1878». А дальше — целые страницы исписаны заметками о них, из чего можно сделать вывод, что они оба играли в моей жизни гораздо более важную роль, чем те из моих современников, с кем я тогда пересекался.
В тот вечер я оставил Данни у дверей отеля. Я заметил, что Агхамури ждал ее посреди холла в бежевом плаще. И это я тоже записал в блокнот: «Агхамури, бежевый плащ». Наверное, чтобы потом иметь какую-то опору, ориентир для памяти, — в тот короткий, сумрачный период моей жизни я старался записать как можно больше таких случайных, незначительных деталей. «Ты знакома с его женой?» — «Нет, они почти не видятся. Разошлись, или вроде того». Обрывки разговора, какие слышишь мимоходом, посреди улицы. И никогда не узнаешь, о ком шла речь. Так поезд проезжает мимо станции быстрее, чем успеваешь прочесть название, — и тогда, опершись лбом о стекло, глядишь на мост через реку, на деревенскую часовню, на корову, замечтавшуюся под деревом на фоне далекого стада. Надеешься, что на следующей станции прочтешь табличку, и тогда станет ясно, в каких ты краях. Я больше никогда не видел тех, чьи имена остались в черном блокноте. Они, похоже, были чем-то мимолетным в моей жизни, и я едва вспоминаю даже, как их зовут. Обычные встречи, но неизвестно, случайные ли. Есть в жизни такое время, когда ты стоишь на перекрестке и пока еще можешь выбирать, куда идти. Время для встреч, как было написано на обложке одной книжицы, как-то попавшейся мне на набережной, на книжном развале. Вот и тогда, оставив Данни с Агхамури, я побрел, сам не знаю зачем, по набережной Сен-Мишель. Я снова прошел по бульвару, и он был так же мрачен, как Монпарнасский, — наверное, оттого, что в будни здесь почти не было прохожих и не горели окна в домах. Поднявшись до того места, где в него впадает улица Мсье-Ле-Пренс, после ступеней и железных перил, я заметил, что в кафе, террасой выходящем на ограду Люксембургского сада, ярко светится стеклянная задняя дверь. Во всем зале было темно, и только за этой дверью завсегдатаи, как обычно, допоздна засиживались вокруг полукруглой барной стойки. Но на этот раз, проходя мимо, я заметил среди них две знакомые фигуры: Агхамури — он стоял в своем бежевом плаще — и Данни, сидевшую на барном табурете.
Я подошел ближе. Можно было толкнуть дверь и войти, но я не стал, боясь оказаться лишним. Да и в то время я всегда держался в стороне, на положении зрителя, я бы даже сказал «Ночного зрителя», как тот любимый мною писатель XVIII века, о котором в черном блокноте исписано столько страниц. Поль Шастанье заметил однажды, когда мы гуляли близ улицы Фалгьер или, может, улицы Фаворит: «Странно… Вы всегда слушаете очень внимательно… но вы где-то не здесь». В чересчур ярком неоновом свете за стеклом Данни казалась блондинкой, а не светло-русой, ее веснушчатая кожа была еще бледнее, чем обычно, — почти молочного цвета. Во всем баре сидела только она. Трое или четверо стояли с бокалами в руках прямо за ней и Агхамури. Агхамури, склонившись, шептал ей что-то. Потом поцеловал ее в шею. Она рассмеялась и отпила из бокала — судя по цвету, это был куантро, она всегда заказывала его, когда мы заходили с ней в кафе.
Я думал, сказать ли ей завтра: я видел вас с Агхамури вчера ночью, в кафе «Люксембург». Я не знал, в каких они отношениях. По крайней мере, в отеле «Юник» у них были разные комнаты. Я попытался разобраться, что объединяло их всех. Судя по всему, Жерар Марсиано и Агхамури — давние друзья, и последний познакомил друга с Данни, когда оба еще жили в студенческом городке. Поль Шастанье и Марсиано были на «ты», несмотря на разницу в годах. То же самое и Дювельц. Но ни Шастанье, ни Дювельц не были знакомы с Данни до ее переезда в отель «Юник». И, наконец, Агхамури явно был близко знаком с распорядителем отеля, уже упомянутым Лахдаром, — тот появлялся через день и сидел за стойкой регистрации. Часто в компании некоего Давэна. Оба они, казалось, давно знали и Поля Шастанье, и Марсиано, и Дювельца. Все это я расписал в блокноте, пока однажды днем дожидался Данни, — так, бывает, решаешь кроссворд или делаешь набросок.
* * *
Позже меня допрашивали о них. Мне вручили вызов в полицию за подписью некоего Ланглэ. В десять утра я пришел в отделение на набережной Жевр и долго прождал в кабинете. Я глядел в окно, на цветочный рынок и на фасад больницы Отель-Дье по ту сторону Сены. Стояло яркое осеннее утро, набережные были залиты солнцем. В кабинет вошел сам Ланглэ, он оказался шатеном, среднего роста и, несмотря на большие голубые глаза, сперва произвел на меня впечатление человека довольно черствого. Тут же, не здороваясь, он строгим тоном начал задавать мне вопросы. Но оттого, что я отвечал спокойно, он скоро смягчился, догадавшись, что я ни в чем не замешан. Я же думал, что, возможно, сижу сейчас в здании, построенном на том самом месте, где повесился Жерар де Нерваль[3]. И если спуститься в подвалы, в одном из них окажется кусок улицы Старого Фонаря. На многие вопросы Ланглэ я не мог ответить определенно. Он назвал имена Поля Шастанье, Жерара Марсиано, Дювельца и Агхамури и спросил, в каких отношениях с ними я состоял. Именно тогда я и понял: нет, все-таки особой роли в моей жизни они не сыграли. Роль третьего плана. Я думал о Нервале и об улице Старого Фонаря, на которой когда-то построили это здание, где мы сейчас сидим. Знает ли об этом Ланглэ? Я чуть было не спросил его. В ходе допроса он много раз упоминал некую Мирей Сампьерри, которая «часто бывала» в отеле «Юник», но я ее не знал. «Вы уверены, что ни разу не виделись с Мирей Сампьерри?» Это имя ни о чем мне не говорило. Должно быть, он понял, что я не лгу, и больше о ней не спрашивал. Тем же вечером я записал в блокноте: «Мирей Сампьерри», а ниже, на той же странице: «наб. Жевр, 14. Ланглэ. Нерваль. Улица Старого Фонаря». Я удивился, что во время допроса он ни разу не упомянул о Данни. Видимо, каким-то чудом в их деле не оказалось ее следов. Тем лучше для нее. Говорят же, иная рыба и из сети ускользнет — так, наверное, ушла и Данни, растворилась без следа. Той ночью, когда я смотрел на них с Агхамури сквозь стеклянную дверь кафе «Люксембург», я под конец уже не мог различить ее лица из-за резкого неонового света, и вся она слилась для меня в единое светящееся пятно, как на передержанном снимке. Белое пятно. Может, таким же образом она исчезла из поля зрения Ланглэ. Но нет, я ошибался. Как выяснилось на втором допросе, куда меня вызвали через неделю, он знал о ней более чем достаточно.
Как-то ночью, когда Данни еще жила в студенческом городке, я провожал ее до Люксембургского вокзала. Ей не хотелось идти одной от метро до американского корпуса, и она попросила меня проехаться с ней. Но едва мы спустились в метро, как последний поезд отъехал от платформы. Мы могли бы дойти пешком, но стоило мне представить бесконечную улицу Санте в этот час, а потом еще забор тюрьмы и ограду больницы Святой Анны, вдоль которых лежал путь, как по сердцу прошел холодок. Но тут Данни повела меня к устью улицы Мсье-Ле-Прэнс, и скоро мы оказались у той самой барной стойки в форме дуги, где другой ночью она была с Агхамури. Она сидела на табурете, а я стоял рядом, и со всех сторон на нас напирали, прижимая друг к другу, толпы посетителей. Свет был до того ярким, что я постоянно моргал, а от стоящего вокруг гомона мы не могли толком разговаривать. Потом все эти люди ушли, один за другим. Кроме нас, за стойкой остался единственный посетитель — он сидел, тяжело облокотившись на нее, так что нельзя было понять, спит он или настолько пьян. Свет был все таким же резким и белым, но теперь мне казалось, будто освещенное пространство сузилось и мы — в центре выхваченного прожектором круга. Когда мы вышли на воздух, тьма по контрасту показалась полной, как при светомаскировке, и я понял, как чувствует себя мотылек, который избежал манящего и гибельного света лампы.
Было где-то часа два или три. Она сказала, что часто опаздывает на метро, потому и приметила это кафе — она называла его «66» — близ Люксембургского вокзала, только оно и работает всю ночь. Как-то раз, поднимаясь поздним вечером по бульвару Сен-Мишель, уже после допроса у Ланглэ, я издали заметил полицейский фургон, припаркованный прямо перед тем кафе, — он заслонял идущий из стеклянной двери свет. Клиентов заводили внутрь фургона. Да, именно это я и предчувствовал, стоя рядом с Данни за барной стойкой. Мотыльки, прельстившись, слетелись на свет, но не разглядели западни. Мне кажется, когда мы вышли, я даже сказал ей на ухо: «западня» — и она улыбнулась.
В то время в ночном Париже было немало ярких огней, служивших приманкой, и я старался обходить их стороной. Когда же мне это не удавалось, я всегда был начеку и порой, заходя в бар, полный странного вида людей, сразу искал глазами пути к отступлению. «Ты не на Пигаль», — сказала Данни. И я удивился, как привычно прозвучало в ее устах название этого злачного района. Мы шли вдоль ограды Люксембургского сада. «Пигаль», — повторил я и прыснул со смеху. Она тоже. Вокруг было тихо, и мы слышали, как в темноте за оградой шелестят деревья. Вокзал был закрыт, первый поезд отходил только в шесть утра. Сзади, в кафе «66», погасили свет. Можно было пойти пешком — я уже был готов к встрече с длинной и зловещей улицей Санте, рука об руку с Данни.
По дороге мы решили срезать и заблудились в маленьких улочках, где-то около Валь-де-Грас. Тишина здесь была еще гуще, и мы слышали звук собственных шагов. Мне даже подумалось, что, может быть, мы не в Париже, а в одном из тех небольших провинциальных городков — Анже, Вандоме, Сомюре, — о которых я не знаю ничего, кроме названия, но чьи тихие улочки наверняка похожи на улицу Валь-де-Грас, с садовой оградой в конце.
Данни взяла меня под руку. Впереди показался свет, но не такой яркий, как в кафе «66», — он шел из первого этажа многоэтажного дома.
Гостиница. Застекленные двери были отворены наружу, и свет из холла, где прямо посередине спал пес, положив морду на плиточный пол, падал на тротуар. В глубине за стойкой регистрации стоял лысый мужчина — ночной портье — и листал журнал. Стоя перед распахнутыми дверьми, я понял, что уже не в состоянии идти вдоль тюрьмы, а потом больницы, и тем более не готов к улице Санте, у которой ночью не видно конца.
Не знаю, кто из нас двоих потянул другого внутрь. Мы перешагнули через пса в холле, не разбудив его. Пятый номер был свободен. Я запомнил цифру «5», хотя всегда забывал номера гостиничных комнат и какого цвета там стены, мебель или занавески, будто нужно было, чтобы та моя жизнь понемногу растворилась в памяти. Однако стены пятого номера я помню — на них были обои с бледно-голубым узором, а окно закрывали черные шторы из плотной ткани, не пропускавшие ни малейшего света, — как я позже узнал, они остались еще с войны и потому соответствовали всем требованиям «пассивной обороны».
Позже в ту ночь я почувствовал, что Данни хочет сказать мне что-то важное, но не решается. С чего вдруг студенческий городок, американский павильон, когда она не студентка и не американка? Хотя, наверное, настоящие встречи — это когда оба ничего не знают друг о друге, даже проводя ночь в одном гостиничном номере. «Странные посетители были сегодня в этом „66“, — сказал я ей. — Хорошо еще, обошлось без облавы». Правда, что забыли посреди ночи в тихом Латинском квартале все эти люди, шумевшие вокруг нас под ярким неоновым светом? «Слишком много вопросов», — ответила она шепотом. Часы били каждые пятнадцать минут. Где-то залаял пес. Мне снова подумалось, что мы далеко от Парижа, — я даже, казалось, слышал далекий стук копыт перед самым рассветом. Сомюр? Уже много лет спустя, когда я снова оказался в окрестностях улицы Валь-де-Грас, я попытался отыскать эту гостиницу. В тот раз я не записал ни ее адреса, ни названия, как не пишут о самом сокровенном, боясь, что, попав на бумагу, оно перестанет нам принадлежать.
Когда я снова оказался в кабинете Ланглэ на набережной Жевр, он спросил меня: «Вы снимали комнату в отеле „Юник“?» — Он сказал это небрежно, точно уже знал ответ, а от меня требовалось только его подтвердить. «Нет». — «А в кафе „66“ часто бывали?» На этот раз он смотрел мне прямо в глаза. Я удивился, что он сказал именно «66». До сих пор мне казалось, что так называла его только Данни. Мне и самому случалось давать каким-то кафе другие имена, например, брать старинные парижские названия и говорить: «Встречаемся у „Тортони“» или «В девять в „Роше де Канкаль“».
— Говорите, «66»? — Я сделал вид, будто пытаюсь припомнить. «Ты не на Пигаль», — глухо прозвучал в голове голос Данни.
— Это на Пигаль, да? — как бы задумчиво спросил я.
— Вовсе нет. Это кафе в Латинском квартале.
Может, и не стоило хитрить с ним.
— А, ну да… Кажется, заходил туда пару раз…
— Ночью?
Я медлил с ответом. Возможно, безопаснее было сказать: днем, когда работал основной зал и посетители сидели на террасе, глядя на решетку Люксембургского сада. Днем это кафе ничем не отличалось от прочих. Но зачем лгать?
— Да. Ночью.
Я вспомнил зал, погруженный во тьму, и узкое пространство света в глубине — тайное убежище после закрытия. И это название — «66» — из тех, что произносят шепотом, в кругу посвященных…
— Вы были один?
— Да. Один.
Он сверился с лежавшей на столе бумагой — как мне показалось, это был список имен. Я надеялся, что Данни там нет.
— И никого из завсегдатаев кафе «66» вы не знаете?
— Никого.
Он по-прежнему смотрел в список. Мне хотелось, чтоб он зачитал имена этих «завсегдатаев кафе „66“» и объяснил мне, что это за люди. Может, Данни и знала кого-то из них. Или Агхамури. Ни Жерар Марсиано, ни Дювельц, ни Поль Шастанье, по-видимому, не посещали это кафе. Хотя я уже ни в чем не был уверен.
— Думаю, это обычное студенческое кафе, таких в Латинском квартале много, — сказал я.
— Днем — да. Но не ночью.
Голос его теперь звучал строго, почти угрожающе.
— Знаете, — начал я самым мягким и примирительным тоном, на какой был способен, — ведь я никогда не был «завсегдатаем» ночного «66».
Он поднял на меня свои большие голубые глаза, и в них не было угрозы — это был усталый и, в общем, доброжелательный взгляд.
— Во всяком случае, в списке вас нет.
Через двадцать лет, когда благодаря этому самому Ланглэ мне в руки попала папка с делом — оказалось, он не забыл про меня; наверное, на всяком перекрестке в нашей жизни стоит свой часовой, — в ней обнаружился список «завсегдатаев кафе „66“», во главе с неким Вилли с улицы Гобелен. Я потом перепишу его, когда будет время. И перепишу другие материалы дела, потому что они дополняют и подкрепляют записи в моем черном блокноте. Буквально вчера я забрел в тот район, где было кафе «66», чтоб посмотреть, сохранилось ли оно. Я толкнул стеклянную дверь, вошел и сел за полукруглую барную стойку, ту самую, за которой мы сидели с Данни и за которой я видел ее с Агхамури, сквозь дверное стекло, в резком и белом неоновом свете. Был шестой час, и все посетители сидели на террасе, выходящей на Люксембургский сад. Бармен очень удивился, когда я заказал куантро, — я сделал это в память о Данни и чтобы выпить за неизвестного мне Вилли с улицы Гобелен, первого в списке.
— Вы все так же работаете допоздна? — спросил я у бармена.
Он нахмурил брови. Похоже, он не понял вопроса. Молодой парень, лет двадцати пяти.
— Мы закрываемся в девять, мсье. Каждый день.
— Это ведь кафе «66»? — спросил я загробным голосом. Он поглядел на меня с опаской.
— Почему «66»? Кафе называется «Люксембург», мсье.
Я подумал о списке, который еще как-нибудь перепишу. Но некоторые имена в тот вечер вспомнились, итак: Вилли с улицы Гобелен, Симон Ланжеле, Орфанудакис, доктор Лукашек, он же Доктор Жан, Жаклин Жилуп и та самая Мирей Сампьерри, о которой Ланглэ спрашивал на первом допросе.
На террасе и в большом зале за моей спиной сидели туристы и студенты. За соседним столиком что-то отмечала компания ребят из Горной школы, и я рассеянно слушал их разговор. Должно быть, праздновали начало каникул. То и дело фотографировали друг друга на айфоны при тусклом свете сегодняшнего дня. Самый обычный день, начало вечера. И на этом же самом месте мы сидели с Данни, и я моргал от резкого света, и мы едва слышали друг друга из-за гула разговоров, которые вели между собой Вилли с улицы Гобелен и другие обступившие нас тени со страниц списка, и смысл их слов утерян навсегда.
* * *
Если память меня не подводит, кафе «66» мало чем отличалось от отеля «Юник» или от других парижских мест, где я побывал в те годы. Повсюду в воздухе витала опасность, и это придавало жизни особый тон. Так было везде, даже за городом. Как-то раз Данни попросила съездить вместе с ней в загородный дом. В черном блокноте записано: «Загородный дом, с Данни». И больше ничего. А страницей раньше другая запись: «Данни, просп. Виктора Гюго, жилой дом с двумя выходами. В 19 ч. у заднего крыльца, с ул. Леонардо да Винчи».
Я ждал ее там несколько раз, всегда в одно время, всегда у заднего крыльца. Тогда мне виделась какая-то связь между жившей здесь дамой, которой Данни «наносила визит» — странно было слышать от нее этот старинный оборот, — и тем загородным домом. Да, если мне не изменяет память, она говорила, что дом принадлежит даме с проспекта Виктора Гюго.
«Загородный дом, с Данни». Я даже не записал, как называлась деревня. Когда я листаю черный блокнот, во мне встают два противоречивых чувства. Если я вдруг не нахожу каких-то деталей, мне думается, что просто в то время я был готов ко всему и ничто не казалось мне удивительным. Беспечность молодости? Но потом я перечитываю отдельные фразы, имена, заметки, и мне начинает казаться, будто это сигналы морзянки, которые я слал тогда себе в будущее. Да, будто я пытался делать засечки, метки чернилами на бумаге, которые позже выведут меня на нужный путь и помогут распутать и разъяснить все то, что я проживал тогда, не понимая. Точки и тире, посланные вслепую, в минуты глубочайшей растерянности. И пройдут годы, прежде чем я смогу их расшифровать.
На той же странице, где черными чернилами выведено «Загородный дом, с Данни», синей шариковой ручкой приписаны названия деревень, целый список, — уже лет десять как я пытаюсь отыскать тот самый «загородный дом». Где он, в пригородах Парижа или дальше, в сторону Солони? Не знаю, почему из всех названий я выбрал именно эти — должно быть, они звучат похоже на название той деревни, куда мы заезжали заправиться. Сен-Леже-дез-Обе. Вокуртуа. Дормель-на-Орвенне. Ормуа-ля-Ривьер. Лорре-ле-Бокаж. Шеври-ан-Серен. Буаземон. Ашер-ля-Форе. Ля Сель-ан-Эрмуа. Сен-Венсан-де-Буа.
Я даже купил дорожную карту Мишлен, на которой написано: «150 км от Парижа. Север — юг», — она у меня сохранилась. Потом купил подробную карту района Солонь, из Большого атласа Франции. Несколько вечеров я провел, согнувшись над картами, в попытках просчитать, каким маршрутом мы ехали тогда с Данни на машине, которую дал нам Поль Шастанье, — не на той красной «ланчии», а на другой, скромного серого цвета. Из Парижа мы выехали через Порт-де-Сен-Клу, по туннелю и на автомагистраль. И зачем было выезжать в западном направлении, если деревня где-то в Солони, на юге?
Позже я случайно обнаружил на странице с заметками о Тристане Корбьере втиснутую между строк карандашную запись «Фёйёз» и номер телефона. Вот так, название деревеньки чуть не затерялось навсегда среди убористых строк о Корбьере. Фёйёз. 437—41–10. Ну конечно, как-то раз я приезжал к ней, когда она была уже там, — вот откуда у меня телефон. Я сел тогда на междугородний автобус у Порт-де-Сен-Клу. Он привез меня в небольшую деревушку. Из кафе я позвонил по номеру, который дала мне Данни, и она приехала за мной — на той самой серой машине, которую одолжил нам Поль Шастанье. «Загородный дом» находился в двадцати километрах оттуда. Когда я нашел Фёйёз на карте, оказалось, что это вовсе не в Солони, а в Эр-и-Луар.
437—41–10. Гудки тянутся один за другим, и никто не берет трубку — я вообще был удивлен, что номер еще существует, спустя столько лет. Однажды вечером, когда я в очередной раз набрал 437—41–10, вместо гудков я услышал потрескивание и чьи-то далекие голоса. Наверное, эта линия уже давным-давно была заброшена, как и десятки других. И, возможно, какая-нибудь подпольная организация использует ее теперь для тайных разговоров? Наконец, я различил женский голос, с механической монотонностью говоривший что-то, чего нельзя было разобрать. Служба точного времени? Или, быть может, голос Данни дошел до меня сквозь годы из затерянного где-то загородного дома?
Я заглянул в телефонный справочник Эр-и-Луар, который отыскал на блошином рынке в Сент-Уан среди целого развала прочих. В Фёйёзе оказалось всего с десяток абонентов, в том числе и нужный мне номер, отворявший «Врата прошлого». Так назывался детективный роман, который я нашел на книжных полках того загородного дома, и мы с Данни оба прочли его. Фёйёз (Э. и Л.), кантон Сенонш, имение Барбери, мадам Дорм. 437—41–10. Кто такая эта мадам Дорм? Упоминала ли Данни при мне ее имя? Может, она еще жива. Тогда нужно как-то связаться с ней, она должна знать, что сталось с Данни.
Я позвонил в справочную и спросил, какой теперь номер в имении Барбери, коммуна Фёйёз в Эр-и-Луар. И снова голос мой зазвучал, будто из могилы, — как в тот раз, когда я говорил с барменом в кафе «Люксембург». «Фёйёз через „и“ краткое?» — Я повесил трубку. Что толку? За столько лет мадам Дорм наверняка исчезла из телефонных книг, да и дом не раз менял хозяев и перестраивался, так что я даже не узнаю его теперь, если увижу. Я разложил на столе карту пригородов Парижа, с досадой убирая карту Солони, над которой провел весь день. Благозвучное «Солонь» сбило меня с толку. И то, что рядом с домом были пруды, тоже наводило на мысли о том регионе. Но что мне до карты? В моей памяти загородный дом всегда будет стоять в несуществующем краю где-то в Солони.
Вчера вечером я сидел и водил пальцем по карте, следуя нашему тогдашнему маршруту из Парижа в Фёйёз. Я взбирался вверх по течению времени. Настоящее, где в тусклом свете один день сменяет другой, ничем не отличный от первого, так что начинает казаться, что уже пережил сам себя, — это настоящее было мне безразлично. Я верил, что вновь отыщу тот ровный ряд деревьев и белую ограду. И снова пес медленно пойдет мне навстречу по аллее. Я много раз думал о том, что, не считая нас с Данни, этот пес — единственный житель дома; может, даже единственный его хозяин. Перед каждым нашим отъездом в Париж я говорил Данни: «Надо бы взять его с собой». Он приходил и устраивался против машины, провожая нас. И едва мы садились, хлопали дверцами и заводили мотор, как он вставал и шел к сараю, где хранились дрова, — там он обычно спал в наше отсутствие. И всякий раз мне было жаль возвращаться в Париж. Я как-то спросил Данни: можем ли мы с ней пожить в этом доме какое-то время? «В принципе, да, — сказала она, — но только не сейчас». Я неправильно понял, та «дама», которую навещала Данни на улице Виктора Гюго, никак с этим домом не связана. Хозяйка дома — а это действительно женщина — сейчас за границей. Они познакомились в прошлом году, когда Данни искала работу. Правда, она не уточнила, какого рода «работу» искала. Ни Агхамури, ни остальные из «Монпарнасской шайки», как я ее окрестил — Поль Шастанье, Жерар Марсиано, Дювельц, — не знали о доме. «И к лучшему», — сказал я. Она улыбнулась. Она явно думала так же. Однажды вечером, когда мы разожгли камин и уселись перед ним на огромном диване, а пес лег у нас в ногах, Данни вдруг сказала, что напрасно мы взяли машину у Шастанье, и вообще, она больше не хочет иметь ничего общего с этой «кучкой тупиц». Меня удивил ее тон, и что она, обычно молчаливая и сдержанная в суждениях, выбрала именно такое слово. Но и в этот раз мне не хватило духу спросить, что же связывало ее с теми «тупицами» и почему она переехала в отель «Юник» под влиянием Агхамури. Да и, признаться, сидя так, в доме, скрытом от всех плотным рядом деревьев и белой изгородью, мне не хотелось задавать лишних вопросов.
Но вот однажды мы возвращались после прогулки, со стороны Этрельской мельницы — одно из тех названий, которые, казалось бы, давно позабыты или которые мы не произносим вслух, боясь расчувствоваться, но память послушно хранит их, пес бежал перед нами, в небе светило осеннее солнце. Только мы вошли в дом, послышался шум мотора. Звук приближался. Данни схватила меня за руку и повела в спальню, на второй этаж. Жестом она показала, чтоб я сел куда-нибудь, а сама прижалась к стене у окна. Снаружи заглушили мотор. Хлопнула дверца. Было слышно, как кто-то идет к крыльцу по усыпанной гравием аллее. «Кто это?» — спросил я шепотом. Данни не ответила. Тогда я тихо скользнул к другому окну. Снаружи стоял большой черный автомобиль какой-то американской марки, и мне показалось, что кто-то остался за рулем. Раздался звонок. Потом еще два. Еще три. Внизу залаял пес. Данни стояла, вцепившись рукой в занавеску, и не двигалась. «Есть тут кто-нибудь? Кто-нибудь дома? Вы меня слышите?» — Голос громкий, с едва заметным акцентом: бельгийским, швейцарским или общим акцентом тех людей, про которых не знаешь, какой язык считать их родным, — они и сами этого не знают. «Есть тут кто-нибудь?»
Пес лаял все громче. Он остался в прихожей, и, если дверь была закрыта неплотно, он легко откроет ее лапой. «Как думаешь, он может войти внутрь?» — прошептал я. Данни отрицательно покачала головой. Она присела на спинку кровати, скрестив руки на груди. На лице читалась скорее досада, чем страх, и она сидела не шевелясь, опустив голову. А я представлял себе, как тот тип сейчас войдет в дом и сядет ждать нас в гостиной, так что будет непросто выскользнуть незамеченными. Но я сохранял спокойствие. Мне не раз случалось избегать нежелательных встреч со знакомыми, когда я внезапно понимал, что у меня нет сейчас сил разговаривать с ними. Увидев впереди одного из них, я переходил на другую сторону или скрывался в первом попавшемся подъезде. Однажды мне даже пришлось вылезать через окно первого этажа, чтоб разминуться с приятелем, который неожиданно решил заглянуть ко мне. Я знал много домов с черными ходами, их адреса даже записаны в моем блокноте.
В дверь больше не звонили. Пес утих. В окно я увидел, как высокий брюнет в пальто с меховым воротником идет к машине, припаркованной напротив крыльца. Вот он нагибается и говорит что-то в опущенное стекло, но, кто за рулем, мне не видно. Потом садится, и машина отъезжает по аллее.
Вечером Данни сказала, что сегодня свет лучше не зажигать. Она задернула шторы в гостиной и в той комнате, где мы ели. Так что мы сидели при свечах. «Думаешь, они могут вернуться?» — спросил я. Она пожала плечами. Это, наверное, был один из друзей хозяйки. Она старалась держаться от них подальше, иначе «насядут, и не отвяжешься». Порой в ее безупречно чистую и грамотную речь закрадывались выраженьица вроде этого. В полутьме за плотно задернутыми шторами мне казалось, что мы воры, тайно проникшие в дом. Но, как ни странно, это совершенно меня не тревожило — видно, настолько притупилось во мне в то время чувство законности, знакомое каждому, кто вышел из добропорядочной семьи и твердо знает свое место в обществе. Мы сидели при свете единственной свечи, разговаривали шепотом, чтобы не было слышно снаружи, и нам обоим это казалось нормальным. Я почти ничего не знал о Данни, но чувствовал, что между нами есть что-то общее, что мы с ней — из одного мира. Но я едва ли смог бы сказать какого.
Произведения
Критика