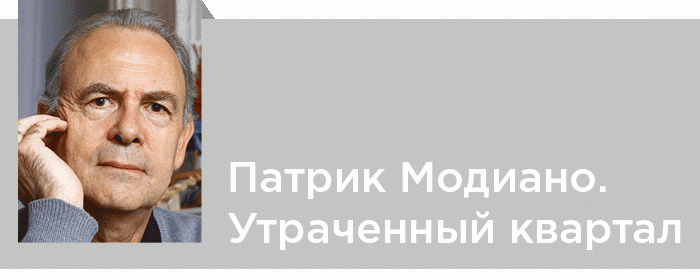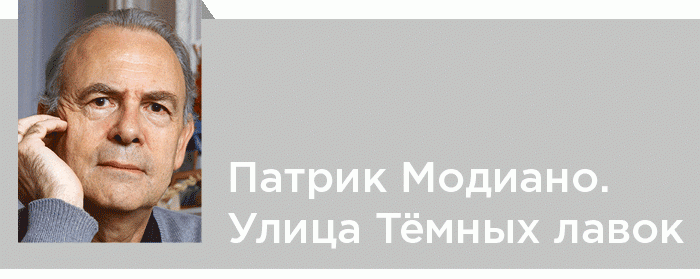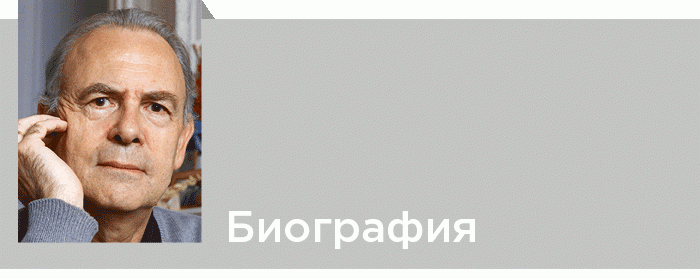Патрик Модиано. Маленькое Чудо
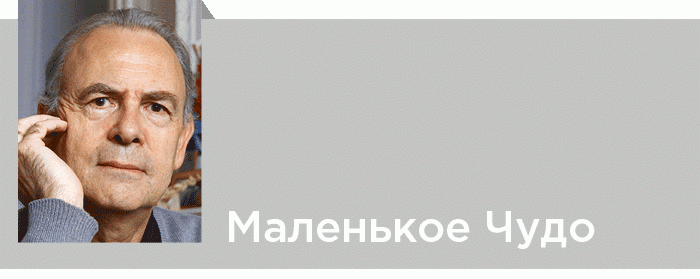
(Отрывок)
Посвящается Зина, посвящается Мари
Однажды, когда меня уже лет двенадцать никто не называл Маленьким Чудом, я оказалась на станции метро «Шатле» в час пик Я ехала в толпе по движущейся дорожке через нескончаемый коридор. На женщине впереди меня было желтое пальто. Цвет привлек мое внимание, она стояла ко мне спиной. Потом она свернула в коридор с указателем «К поездам до станции „Шато-де-Венсен“». Дальше все опять стояли, притиснутые друг к другу на лестнице, дожидаясь, когда откроются дверцы. Она оказалась рядом со мной. И тут я увидела ее лицо. Сходство с моей матерью поразило меня, и я решила, что это она.
Я сразу вспомнила фотографию, одну из немногих фотографий матери, что у меня сохранились. Лицо словно выхвачено из тьмы лучом направленного света. Мне всегда было не по себе, когда я смотрела на этот снимок. В моих снах он неизменно оказывался снимком из полицейской картотеки и кто-то показывал мне его — комиссар или служитель морга — для опознания. Но я молчала. Я ничего не знала о ней.
Она села на скамейку на платформе, в стороне от других пассажиров, теснившихся у края в ожидании поезда. На скамейке рядом с ней места не нашлось, и я встала чуть поодаль, прислонившись к торговому автомату. Пальто ее явно было когда-то элегантным и, благодаря желтому цвету, броским и нестандартным. Но цвет утратил яркость и посерел. Она словно не замечала ничего вокруг, и я даже подумала, не просидит ли она на этой скамейке до последнего поезда. Тот же профиль, что у моей матери, тот же своеобразный нос, с чуть вздернутым кончиком. Те же светлые глаза. Такой же высокий лоб. Волосы были короче. Нет, она мало изменилась. Цвет волос не такой светлый, но, в конце концов, я ведь не знала, натуральная ли моя мать блондинка. Горькая складка у рта. Я не сомневалась, что это она.
Она пропустила один поезд. Перрон опустел на несколько минут. Я села на скамейку рядом с ней. Потом все снова заполнилось плотной толпой. Можно было завязать разговор. Я не находила слов, и вокруг было слишком много народу.
Казалось, она вот-вот заснет сидя, но когда шум приближавшегося поезда был еще лишь далеким дрожанием, она поднялась. Я вошла в вагон вслед за ней. Нас разделяла компания мужчин, которые громко разговаривали между собой. Двери закрылись, и тут я вспомнила, что мне нужно было ехать в другую сторону. На следующей станции поток выходящих пассажиров вынес меня на платформу, я снова вошла в вагон и встала поближе к ней.
В резком освещении она выглядела старше, чем на перроне. Левый висок и часть щеки пересекал шрам. Сколько ей могло быть лет? Около пятидесяти? А сколько на фотографиях? Двадцать пять? Глаза те же, что в двадцать пять, светлые, и такой же взгляд: удивленный или чуть встревоженный и вдруг неожиданно жесткий. Случайно этот взгляд упал на меня, но она меня не увидела. Она вынула из кармана пудреницу, открыла, поднесла зеркальце к лицу и провела мизинцем по краешку века, как будто ей что-то попало в глаз. Поезд набирал скорость, нас качнуло, я ухватилась за металлический поручень, но она равновесия не потеряла. И продолжала как ни в чем не бывало смотреться в зеркальце. На станции «Бастилия» все кое-как втиснулись, двери с трудом закрылись. Она успела убрать пудреницу до того, как люди набились в вагон. На какой станции ей сходить? Ехать ли мне за ней до конца? Надо ли это делать? Предстояло привыкнуть к мысли, что она живет со мной в одном городе. Мне сказали, что она умерла, давно, в Марокко, и я никогда не пыталась ничего больше узнать. «Она умерла в Марокко» — фраза из детства, смысл таких фраз не вполне понимаешь. Только звучание их остается в памяти, как некоторые слова песенок, вызывавшие у меня смутный страх. «Когда-то жил да был кораблик»… «Она умерла в Марокко».
В моей метрике записан год ее рождения — 1917, а во времена фотографий она говорила, что ей двадцать пять. Она, наверно, уже тогда убавляла себе возраст и пускалась на разные махинации с документами, чтобы оставаться молодой. Она подняла воротник пальто, как будто озябла, хотя вагон был переполнен и все стояли вплотную друг к другу. Я заметила, что отделка по краям воротника совершенно вытерта. Сколько лет она уже носит это пальто? Со времен фотографий? Тогда неудивительно, что оно выцвело. Мы доедем до конечной, а там, наверно, пересядем на автобус, который повезет нас на какую-нибудь далекую окраину. Тут я с ней и заговорю. На «Лионском вокзале» много народу вышло. Ее взгляд снова упал на меня, но это был взгляд, каким люди машинально смотрят на соседей по вагону. «Помните, вы меня звали Маленькое Чудо? Вы тоже в те годы жили под чужой фамилией. И даже под чужим именем — Ольга».
Теперь мы сидели напротив друг друга у самых дверей. «Я разыскивала вас по телефонному справочнику и даже звонила нескольким людям, носившим вашу настоящую фамилию, но они никогда о вас не слыхали. Я решила, что надо съездить в Марокко. Это единственный способ проверить, действительно ли вы умерли».
После станции «Насьон» в вагоне стало совсем свободно, но она по-прежнему сидела напротив меня сжав руки, и в рукавах сероватого пальто виднелись ее запястья. Голые руки, без единого кольца, без браслетов, обветренные. На фотографиях она в браслетах и кольцах — массивных, как тогда было модно. А теперь — ничего. Она закрыла глаза. Еще три станции, и конечная, «Шато-де-Венсен». Я встану очень тихо, оставив ее спать в вагоне. И сяду на другой поезд, который идет обратно, в сторону «Пон-де-Нёйи», как и поступила бы, если б не заметила это желтое пальто в переходе.
Состав медленно затормозил на станции «Беро». Она открыла глаза, в которых снова появился жесткий блеск Посмотрела на перрон и поднялась. Я снова шла за ней по длинному коридору, но сейчас мы были одни. Я заметила, что на ней трикотажные гетры, похожие на длинные носки, — они назывались «панчос», — и это подчеркивало ее балетную походку.
Широкий проспект с большими домами на границе Венсена и Сен-Манде. Темнело. Она перешла на другую сторону и вошла в телефонную будку. Я постояла, переждав дважды или трижды красный свет, и тоже перешла. В будке она долго искала в карманах монетку или жетон. Я сделала вид, что рассматриваю витрину аптеки, где висел плакат, так пугавший меня в детстве: дьявол изрыгает из пасти огонь. Я оглянулась. Она набирала номер, медленно, будто впервые. Потом ждала, двумя руками прижав трубку к уху. Но номер не отвечал. Она повесила трубку на рычаг, вытащила из кармана пальто клочок бумаги и принялась снова крутить диск, не отрывая глаз от бумажки. И я вдруг подумала: а есть ли у нее вообще где-нибудь дом?
На сей раз ей кто-то ответил. Сквозь стекло было видно, как она шевелит губами. Она по-прежнему держала трубку обеими руками и время от времени легонько кивала, как бы стараясь сосредоточиться. Судя по движению губ, она говорила все быстрее и быстрее, но потом ее горячность понемногу улеглась. Кому, интересно, она звонила? Среди немногих оставшихся от нее вещей, хранившихся в железной коробке из-под печенья, были ежедневник и записная книжка, они относились к поре фотографий, когда меня звали Маленькое Чудо. Много лет у меня не возникало мысли заглянуть в ежедневник и книжку, но с недавних пор я по вечерам их листала. Фамилии. Номера телефонов. Я знала, что набирать их нет смысла. Да мне и не хотелось.
Она продолжала говорить по телефону. Она была так поглощена разговором, что я могла бы подойти совсем близко и она не заметила бы моего присутствия. Или сделать вид, будто я жду очереди позвонить, и попытаться разобрать сквозь стекло какие-то слова, которые помогли бы мне понять, как живет теперь эта женщина в панчос и желтом пальто. Но ничего не было слышно. Возможно, она звонила кому-то, чей номер записан в той книжке, последнему, кого не потеряла из виду и кто остался жив. Случается, что какой-нибудь человек остается при вас всю жизнь и вам не удается его оттолкнуть. Он знал вас в благополучные времена, но не отстает от вас и в бедности и все так же восхищается вами, единственный, кто вам еще доверяет, или, как говорится, слепо в вас верит. Неудачник, как и вы. Старый верный пес. Вечный козел отпущения. Я пыталась представить себе, как выглядит тот мужчина — или та женщина — на другом конце провода.
Она вышла из будки. Скользнула по мне равнодушным взглядом, таким же, как в метро. Я открыла стеклянную дверь. Не опуская жетона, набрала наугад, просто так, какой-то номер, дожидаясь, пока она немного отойдет. Я держала трубку, там даже не было гудка. Тишина. Я никак не могла решиться нажать на рычаг.
Она вошла в кафе рядом с аптекой. Я колебалась, входить или не входить, но решила, что она все равно меня не заметит. Кто мы такие? Женщина неопределенного возраста и молодая девушка, затерянные в толпе пассажиров метро. Никто не сумел бы выделить нас из этой толпы. А когда мы вышли на улицу, то оказались неотличимы от тысяч и тысяч людей, которые вечерами возвращаются домой в пригороды.
Она сидела за столиком, в глубине. Толстощекий блондин-официант принес ей кир. Надо проверить, может, она приходит сюда каждый вечер, в одно и то же время. Я дала себе слово запомнить название кафе. «Кальсия», авеню де Пари, 96. Название было написано на дверном стекле — полукругом, белыми буквами. В метро на обратном пути я твердила про себя название и адрес, чтобы записать, как только приду домой. Люди не умирают в Марокко. Они продолжают жить тайной жизнью после жизни. Пьют по вечерам кир в кафе «Кальсия». Завсегдатаи в конце концов привыкли к этой женщине в желтом пальто. Никто не задавал ей вопросов.
Я села за другой столик, недалеко от нее. И тоже заказала кир, громко, чтобы она слышала, надеясь, что это послужит знаком к сближению. Но она не прореагировала. Взгляд у нее был жесткий и задумчивый одновременно, она чуть склонила голову набок и сидела скрестив руки на столе, в той же позе, что и на картине. Что сталось с этой картиной? Она следовала за мной повсюду все детство. Висела у меня в комнате в Фоссомброн-ла-Форе. Мне сказали: «Это портрет твоей матери». Человек, которого звали Толя Сунгуров, написал ее в Париже. Подпись и слово «Париж» стояли внизу, с левой стороны. Руки у нее там сложены как сейчас, с той лишь разницей, что на одном из запястий был тяжелый браслет-цепочка с крупными звеньями. Хороший предлог, чтобы завязать разговор. «Вы похожи на одну женщину, я видела на днях ее портрет на блошином рынке, возле Порт-де-Клиньянкур. Художника звали Толя Сунгуров». Но я не находила в себе сил встать и подойти к ней. Предположим даже, что я сумею произнести без запинки: «Художника звали Толя Сунгуров, а вас — Ольга, но это не настоящее ваше имя. Настоящее то, которое записано у меня в метрике, — Сюзанна». Да, предположим, фраза произнесена, что дальше? Она сделает вид, будто не понимает, о чем речь, или слова вдруг хлынут из нее сумбурно и беспорядочно, потому что она давно ни с кем не говорила. Но она станет лгать, запутывать следы, как поступала во времена картины и фотографий, когда скрывала свой возраст и жила под чужим именем. И под чужой фамилией. И даже с чужим дворянским титулом. Она всячески давала понять, что родилась в семье ирландских аристократов. Полагаю, какой-нибудь ирландец встретился ей на жизненном пути, иначе ей бы не пришло такое в голову. Ирландец. Возможно, мой отец, которого наверняка очень трудно отыскать и которого она, скорее всего, забыла. Она, скорее всего, забыла и все остальное и очень удивится, если я про это заговорю. То было с другим человеком, не с ней. Обман с годами рассеялся. Но тогда — я знала наверняка — она в этот обман верила.
Толстощекий блондин принес ей второй кир. У стойки теперь собралось много народу. Все столики были заняты. Мы и не расслышали бы друг друга в таком шуме. Мне казалось, будто я все еще сижу в вагоне метро. Или даже в зале ожидания на вокзале и не знаю, какого поезда жду. Но для нее поезда уже не будет. Она оттягивала момент возвращения домой. Видно, жила где-то неподалеку. Интересно где. Мне не хотелось с ней говорить, она не вызывала во мне никаких особых чувств. Обстоятельства сложились так, что между нами не было, что называется, человеческой близости. Единственное, что меня занимало, — где она осела через двенадцать лет после своей смерти в Марокко.
Это оказалась маленькая улочка вблизи замка или крепости. Я плохо понимаю разницу. По сторонам тянулись низкие домики, гаражи и даже конюшни. Она, впрочем, и называлась улица Кавалерийских казарм. В середине, справа, чернела громада большого кирпичного здания. Было темно, когда мы свернули на эту улицу. Тогда я еще отставала от желтого пальто на несколько метров, но понемногу стала сокращать расстояние. Я знала: если я даже пойду с ней рядом, она меня не заметит. Я потом возвращалась на эту улицу днем. Оказалось, если обойти кирпичное здание, то позади него ничего нет, пустота. Небо было тогда чистое. А в конце улицы лежал пустырь, за которым раскинулся широкий луг. Надпись гласила: «Поле для маневров». Дальше начинался Венсенский лес. Но в темноте эта улица мало чем отличалась от улиц любого другого пригорода: Аньера, Исси-ле-Мулино, Левалуа… Она шла медленно, походкой бывшей балерины. Это, наверно, было нелегко в панчос.
Кирпичное здание своей черной массой придавило к земле все остальные постройки. Хотелось спросить, зачем и почему его здесь построили. На первом этаже — продуктовый магазин, который уже закрывался. Неоновый свет погасили, горела только лампа возле кассы. Я видела через стекло, как она взяла с полки банку консервов, потом еще одну И черный пакетик. Кофе? Цикорий? Она прижимала банки и пакетик к себе, но, подходя к кассе, сделала неловкое движение. Консервы и черный пакетик посыпались на пол. Кассир их поднял. Он ей улыбался. Их губы шевелились, и мне было любопытно, как он ее называет. Настоящей девичьей фамилией? Она вышла, по-прежнему прижимая к пальто консервы и пакет, словно новорожденного ребенка. Я чуть не предложила ей помочь, но мне вдруг показалось, что эта улица Кавалерийских казарм страшно далеко от Парижа, что она затеряна где-то в провинции, в гарнизонном городке. Скоро все закроется, и я опоздаю на метро.
Она вошла в ворота. Когда я еще только увидела издали эту мрачную черную глыбу, у меня возникло предчувствие, что она живет именно там. Она шла через двор, в глубине которого высилось несколько корпусов, точно таких же, как тот, что был виден с улицы. Она шла все медленнее, будто боялась опять уронить продукты. Со спины казалось, что она несет тяжелую ношу, которая ей не по силам, и сама в любую минуту может упасть.
Она вошла в один из корпусов в самой глубине, слева. Над каждой дверью висели таблички: «Подъезд А». «Подъезд В». «Подъезд С». «Подъезд D». На ее двери было написано «Подъезд А». Я некоторое время стояла и ждала, когда засветится какое-нибудь окно. Но я ждала напрасно. Я раздумывала, есть ли там лифт. И представляла себе, как она поднимается по лестнице, прижимая к пальто консервы. Эта картина не оставляла меня даже в метро на обратном пути.
Я проделывала тот же путь в следующие вечера. Ровно в тот же час, когда я встретила ее впервые, я ждала на скамейке в метро «Шатле». Высматривала желтое пальто. Выход к поездам для новых пассажиров открывается лишь после того, как уезжает очередной состав. Толпа выплескивается на перрон. Приходит следующий поезд, и все набиваются в вагоны. Перрон пустеет, потом снова заполняется людьми, внимание притупляется. Все сливается, и уже ничего толком не различить в этом мелькании, даже желтое пальто. Мощная волна подхватывает вас и вносит в вагон. Помню, тогда на всех станциях была одна и та же реклама. Супружеская пара с тремя белокурыми детьми сидят за столом, вечером, в горном шале. Их лица освещены лампой. За окном идет снег. Понятно, что это Рождество. А наверху написано: «ПЮПЬЕ». СЕМЕЙНЫЙ ШОКОЛАД.
В первую неделю я ездила в Венсен всего один раз. Во вторую — два раза. Потом еще два раза. В кафе около семи всегда слишком людно, чтобы меня могли заметить. На второй раз я отважилась спросить у щекастого белобрысого официанта, который подавал напитки, не придет ли сегодня дама в желтом пальто. Он сдвинул брови, явно не понимая, о ком речь. Его позвали с соседнего столика. По-моему, он вообще не расслышал, что я спросила. Но он бы все равно не успел мне ответить. Для него это тоже был час пик. Может, она вовсе и не была здесь постоянной посетительницей. И не жила в этом районе. Человек, которому она звонила из автомата, жил в кирпичном доме, и в тот вечер она приехала его навестить. Купила для него консервы. А потом снова села на метро и поехала назад, как и я, и вернулась туда, где живет, по адресу, которого я никогда не узнаю. Единственная зацепка для меня — это подъезд А Но придется стучать во все двери на каждой площадке и спрашивать у тех, кто пожелает открыть, не знают ли они женщину лет пятидесяти в желтом пальто, со шрамом на лице. Она приходила сюда вечером на прошлой неделе, купив внизу в магазине две банки консервов и пачку кофе. Что они могут сказать? Мне все это приснилось.
Но в конце концов она все-таки появилась, на пятую неделю. Выходя из метро, я увидела ее в автомате. На ней было желтое пальто. Я подумала, что она, наверно, тоже только что вышла из метро. Значит, в ее жизни есть некий распорядок и она куда-то ездит в одни и те же часы… Мне трудно было вообразить ее где-то ежедневно работающей, как все, кто в это время возвращается домой на метро. Станция «Шатле». Это слишком неопределенно, чтобы строить какие-то предположения. Десятки, сотни тысяч людей стекаются около шести вечера на станцию «Шатле». чтобы сделать пересадку и разъехаться в разные стороны. Их следы пересекаются, запутываются и теряются окончательно. В этом потоке есть устойчивые островки. Напрасно я просто сидела и ждала на перронной скамейке. Надо было подолгу бродить возле касс, газетных киосков, в длинном коридоре с движущейся дорожкой и в других переходах. Люди проводят там целые дни, но замечаешь их не сразу, а лишь через какое-то время, когда освоишься. Клошары. Бродячие музыканты. Карманники. Пропащие, которые уже никогда больше не поднимутся на поверхность. Может быть, и она тоже не покидает метро «Шатле» весь день. Она стояла в телефонной будке, а я наблюдала за ней. Как и в прошлый раз, она дозвонилась не сразу. И снова набрала номер. Она что-то говорила, но это длилось не так долго, как в первый вечер. Потом резко повесила трубку. Вышла из кабины. Не завернула в кафе. Она шла по авеню де Пари все той же балетной походкой. Мы приближались к метро «Шато-де-Венсен». Почему же она не ездила сразу до этой станции, до конечной? Из-за телефона-автомата и кафе, где любила выпить кир перед возвращением домой? А в другие вечера, когда я была здесь и не видела ее? Ну конечно же, она выходила в эти вечера на «Шато-де-Венсен». Нужно с ней заговорить, иначе она в конце концов заметит, что за ней кто-то следит. Я подыскивала фразу как можно короче. Я скажу: «Вы называли меня Маленькое Чудо. Вы не можете не помнить…» Мы были уже совсем близко от кирпичного дома, и, как в первый вечер, я не нашла в себе сил к ней подойти. Наоборот, я даже отстала, чувствуя какую-то свинцовую тяжесть в ногах. И одновременно облегчение — по мере того как она удалялась. На этот раз она не пошла в магазин покупать консервы. Она пересекла двор, а я осталась за оградой. Двор был освещен одной-единственной лампочкой над дверью подъезда А. В этом освещении пальто снова становилось желтым. Она слегка сутулилась и шла к подъезду А еле-еле, почти плелась. Мне вспомнилось название книжки, которую я читала, когда меня звали Маленькое Чудо: «Старая цирковая лошадь».
Когда она скрылась в доме, я вошла в ворота. Слева на стеклянной двери висела дощечка. Список жильцов в алфавитном порядке — фамилия и подъезд. За стеклом горел свет. Я постучала. Дверь приоткрылась, и появилось женское лицо — с черными, коротко стриженными волосами, довольно молодое. Я сказала, что ищу даму, которая живет в этом доме. Одинокую, в желтом пальто.
Вместо того чтобы захлопнуть передо мной дверь, консьержка сдвинула брови, словно пытаясь сообразить.
— Это, наверно, мадам Боре. Подъезд А… забыла, какой этаж.
Она провела пальцем по списку. Показала фамилию. Боре. Подъезд А. Этаж 5. Я пошла через двор. Когда я услышала, что у консьержки закрылась дверь, я повернула назад и выскользнула на улицу.
В тот вечер в метро всю дорогу обратно я была уверена, что помню эту фамилию. Боре. Да, похоже на фамилию человека, который, как я понимала когда-то, был братом моей матери, некий Жан Боран. Он брал меня по четвергам к себе в гараж. Совпадение? Однако фамилия матери, указанная у меня в метрике, Шовьер. А О'Дойе — фамилия вымышленная, нечто вроде сценического псевдонима. Он относится к тому времени, когда и меня звали Маленькое Чудо… У себя в комнате я снова стала рассматривать фотографии, открыла ежедневник и записную книжку, лежавшие в старой коробке из-под печенья, и в середине ежедневника наткнулась на листочек бумаги, вырванный из школьной тетрадки, — хорошо мне знакомый. Запись сделана синими чернилами, очень мелко, чужим почерком. Сверху имя: ОЛЬГА ШОВЬЕР. Под ним черта. И дальше строчки, забегающие за поля.
Несостоявшееся свидание. Несчастна в сентябре. Ссора с блондинкой. Опасная склонность к легким решениям. Что потеряешь, не найдешь. Увлечение иностранцем. Перемены в ближайшие месяцы. Берегись конца июля. Визит незнакомца. Опасности нет, но нужна осторожность. Путешествие кончится благополучно.
Она ходила к гадалке, и та предсказала ей судьбу по картам или по руке. Думаю, она была не уверена в своем будущем. Опасная склонность к легким решениям. Ей вдруг стало страшно, как на этом аттракционе, который называется «американские горы» или «русские горки». Выскочить уже нельзя, поздно. Тележка набирает скорость, и невольно думаешь, не слетишь ли. Она предчувствовала, что резко покатится вниз. Несчастна в сентябре. Наверняка после того лета, когда я внезапно оказалась одна в деревне. Поезд был переполнен. У меня на шее висела записка с адресом. Что потеряешь, не найдешь. Немного спустя мне в деревню пришла открытка. Она на самом дне коробки. Касабланка. Площадь Франции. «Крепко тебя целую». Даже подписи нет. Крупный почерк, как в ежедневнике и в записной книжке. Когда-то девочек возраста моей матери учили писать очень крупно. Увлечение иностранцем. Но кем именно? В записной книжке много иностранных фамилий. Берегись конца июля. Как раз в июле меня отправили в деревню, в Фоссомброн-ла-Форе. В моей комнате повесили картину Толи Сунгурова, и каждое утро, просыпаясь, я видела устремленный на меня взгляд матери. После той открытки я больше не получала ничего. Мне остался от нее только этот взгляд по утрам и еще по вечерам, когда я читала в постели или когда лежала больная. Через какое-то время я обнаружила, что взгляд устремлен не на меня, а в пустоту.
Опасности нет, но нужна осторожность. Путешествие кончится благополучно. Слова, которые твердишь себе в темноте, чтобы успокоиться. Она, наверно, уже знала, когда ходила к гадалке, что уедет в Марокко. Так или иначе, но гадалка все равно это узнала по картам или по линиям руки. Путешествие. Она уехала позже, чем я, потому что она провожала меня на Аустерлицкий вокзал. Помню, как мы ехали на машине вдоль Сены. Вокзал был рядом с набережной. Много лет спустя я заметила, что стоит мне оказаться поблизости от Аустерлицкого вокзала, как происходит что-то странное. Вокруг сразу делается холоднее и темнее.
Я не знала, где теперь эта картина. Осталась в моей комнате в Фоссомброн-ла-Форе? Или после стольких лет попала, как мне и представлялось, на блошиный рынок у одного из въездов в Париж? В книжке матери есть адрес художника, который написал ее, Толи Сунгурова. Первая фамилия на букву С. Чернила другого цвета, и почерк мельче, как будто она очень старалась. Вероятно, Толя Сунгуров — один из первых, с кем она познакомилась в Париже. Она приехала однажды вечером, еще девочкой, на Аустерлицкий вокзал, в этом я была почти уверена. Путешествие кончится благополучно. Видимо, гадалка ошиблась, а может, говорила не всю правду, чтобы не огорчать клиентов. Интересно, во что мать была одета в тот день, когда приехала в Париж, на Аустерлицкий вокзал? Уж точно не в желтое пальто. И еще я пожалела, что пропала книжка с картинками, которая называлась «Старая цирковая лошадь». Мне подарили ее в деревне, в Фоссомброн-ла-Форе. Нет, я путаю… По-моему, она уже была у меня в парижской квартире. Да и картина тоже висела там в одной из комнат — огромной, с тремя ступеньками, покрытыми белым плюшем. На обложке выделялась черная лошадь. Она делала круг по арене, судя по всему в последний раз, опустив голову, с изможденным видом, словно вот-вот упадет. Да, когда она шла через двор, эта черная лошадь всплыла у меня в памяти. Лошадь бежала по арене, и казалось, ей тяжела ее сбруя. Сбруя была такого же цвета, как пальто. Желтая.
Еще до того вечера, когда мне показалось, что я узнала в метро свою мать, я познакомилась с человеком, которого звали Моро или Бадмаев. Это произошло в книжном магазине «Маттеи», на бульваре Клиши. Он закрывался очень поздно. Я искала себе детектив. В полночь мы были там единственными покупателями, и он посоветовал мне одну книжку из «Черной серии». Потом мы с ним шли по бульвару и разговаривали. У него иногда появлялись странные интонации, и я подумала, что, наверно, он иностранец. Позднее он объяснил мне, что эта фамилия — Бадмаев — досталась ему от отца, которого он почти не знал. Отец был русский. А мать француженка. На листке бумаги, где он записал мне свой адрес в тот первый день, я прочла: Моро-Бадмаев.
Мы болтали обо всем и ни о чем. В тот вечер он почти не говорил о себе, сказал только, что живет рядом с Порт-д'Орлеан и очутился в наших краях случайно. Но что это счастливая случайность, ведь он познакомился со мной. Он интересовался, читаю ли я что-то еще кроме детективов. Я дошла с ним до метро «Пигаль». Он спросил, можем ли мы еще встретиться. И сказал улыбаясь:
— Тогда и попробуем разобраться.
Эта фраза меня поразила. Как будто он читал мои мысли. Да. Для меня наступил тот период жизни, когда хочется разобраться.
Все казалось мне таким запутанным с самого начала, с самых первых детских воспоминаний… Иногда они осаждали меня около пяти утра, в опасный час, когда уже не можешь больше заснуть. И я дожидалась открытия первых кафе, чтобы выйти из дома. Я отлично знала, что эти воспоминания рассеются, как дурной сон, стоит мне оказаться на улице. В любое время года. Зимним утром, когда еще темно, зябко, зажженные лампы и первые посетители, собравшиеся, как заговорщики, у стойки, создают ощущение, что наступающий день будет новым приключением. И это ощущение живет в вас всю первую половину дня. Летом, когда день обещает быть очень жарким и машин на улице еще мало, я усаживалась на террасе первого же открывшегося кафе и представляла себе, что если спуститься по улице Бланш, то окажешься на пляже. В такие утра все скверные воспоминания мигом улетучивались.
Моро-Бадмаев назначил мне свидание около Порт-д'Орлеан, в кафе под названием «Ле Корантен». Я пришла первая. Уже стемнело. Было семь часов вечера. Он сказал, что не может раньше, потому что ходит на службу. Я увидела в дверях парня лет двадцати пяти, высокого, темноволосого, в кожаной куртке. Он сразу меня заметил, подошел и сел напротив. Я опасалась, что он забыл, как я выгляжу. Он никогда не узнает, что меня звали Маленькое Чудо. Да и кто теперь это знает, кроме меня? И моей матери. На днях, наверно, надо будет ему сказать. Чтобы попробовать разобраться.
Он улыбнулся мне. Сообщил, что боялся опоздать на нашу встречу. Его сегодня задержали на работе дольше обычного. А вообще присутственные часы у него бывают в разное время. Эту неделю днем, на следующей — с десяти вечера до семи утра. Я спросила, что у него за работа. Он слушает радиопередачи на иностранных языках, переводит и пишет краткое изложение. Для какого-то учреждения, про которое я толком не поняла, состоит оно при агентстве новостей или при каком-то министерстве. Его взяли туда, потому что он знает чуть ли не двадцать языков. Я была потрясена, потому что сама знала только французский. Но он мне сказал, что это не так уж трудно. Когда два-три языка выучишь, дальше все уже идет по накатанному. Это может каждый. А я чем занимаюсь? Ну, сейчас я живу случайными заработками, но надеюсь со временем найти что-нибудь более устойчивое. Мне это очень нужно — чтобы войти в колею.
Он наклонился ко мне и спросил очень ТИХО:
— Почему? Вы выбиты из колеи?
Мне не показалось это бестактным. Мы были едва знакомы, но он вызывал у меня полное доверие.
— А что вы вообще ищете в жизни?
Он словно извинялся за столь расплывчатый и высокопарный вопрос. Его светлые глаза пристально смотрели на меня, и я увидела, что они голубые с серым отливом. Руки тоже были очень красивые.
— Что я ищу в жизни…
Я поняла, что надо собраться. И срочно что-то ответить. Такой человек, как он, знающий двадцать языков, не поймет, если я не найду что сказать.
— Я ищу… общения с людьми.
Судя по всему, я не разочаровала его. Взгляд светлых глаз уже снова обволакивал меня, заставляя опустить ресницы. И красивые руки на столе, с длинными, тонкими пальцами, которые я представляла себе бегущими по клавишам рояля… Для меня так важны были всегда глаза и руки… Он сказал:
— Вы только что произнесли одно слово, которое меня поразило… слово «устойчивое»…
Я уже этого не помнила. Но было приятно, что он придает значение каким-то моим словам. Совершенно банальным.
— Проблема действительно в том, чтобы отыскать нечто устойчивое…
В этот момент, несмотря на всю его невозмутимость и тихий голос, мне показалось, что внутренне он также неспокоен, как и я. И действительно, он спросил, бывает ли у меня противное чувство, будто меня подхватило течение и куда-то несет, а уцепиться не за что.
Да, примерно это самое я и ощущала. Дни сменялись, неотличимые друг от друга, их размеренный ход напоминал движущуюся дорожку на станции «Шатле». Меня несло по нескончаемому коридору без всякого моего участия, не нужно было даже самой идти. И вместе с тем мне предстояло увидеть там очень скоро, в один из ближайших вечеров, желтое пальто. В этой толпе незнакомцев, в которой я потихоньку растворялась, вспыхнет яркое цветовое пятно, и мне нельзя будет потерять его из виду, если я хочу узнать о себе чуть побольше.
— Поэтому и нужно найти устойчивый островок, чтобы жизнь перестала быть непрерывным потоком, уносящим нас против нашей воли. — Он улыбался, словно хотел смягчить серьезность своих слов. — И как только мы его отыщем, все сразу пойдет куда лучше. Вы не согласны?
Я поняла, что он не может вспомнить моего имени. Меня подмывало объявить ему: «Меня звали Маленькое Чудо». И выложить все, с самого начала. Но я просто сказала:
— Меня зовут Тереза.
Той ночью, на бульваре, я спросила, как его имя. Он ответил: «Имя ни к чему. Называйте меня просто Бадмаев. Или Моро, если вам больше нравится». Я удивилась, а потом подумала, что это просто желание себя обезопасить, сохранить дистанцию. Он избегал слишком тесного сближения с людьми. А может, что-то скрывал.
Бадмаев предложил зайти к нему. Он даст мне почитать одну книжку. Он жил в большом новом квартале напротив кафе «Ле Корантен», на другой стороне бульвара Журдан. Кирпичные корпуса, наподобие того, в Венсене, где через несколько дней я буду стоять и смотреть, как моя мать пересекает двор. Мы шли вдоль фасадов, совершенно одинаковых. В доме номер 11 по улице Монтичелли поднялись по лестнице на пятый этаж Дверь вела в коридор с темно-красным линолеумом. Его комната была в конце коридора. На полу матрас без ножек, стопки книг вдоль стен. Он предложил мне сесть на единственный стул у окна.
— Пока я не забыл… Надо дать вам книжку…
Он нагнулся и долго рассматривал каждую стопку, одну за другой. Наконец вытащил книгу, которая выделялась среди других красным переплетом. Он протянул мне ее. Я открыла, посмотрела титульный лист: «На окраинах жизни».
У него был извиняющийся вид. Он сказал еще:
— Если скучно, не читайте, это совсем не обязательно.
Он сел на край постели. Комнату освещала лишь голая лампочка, закрепленная на высоком штативе. Лампочка была очень маленькая и слабая. Рядом с матрасом, вместо ночного столика, огромный радиоприемник, обтянутый спереди материей. Я помню такой в Фоссомбронла-Форе. Он перехватил мой взгляд.
— Я очень люблю этот приемник, — сказал он. — Иногда пользуюсь им для работы. Когда работаю дома.
Он наклонился и повернул ручку. Зажегся зеленый огонек.
Раздался глуховатый голос, говоривший на каком-то иностранном языке.
— Хотите посмотреть, как я работаю?
Он взял большой блокнот с отрывными листами и шариковую ручку, лежавшие на приемнике, и начал записывать, слушая голос.
— Ничего сложного… я все стенографирую.
Он подошел ко мне и протянул листок С того вечера я всегда храню этот листок при себе.
После стенографических знаков, чуть пониже, было написано:
«Niet lang geleden slaagden matrozen
er in de sirenen, enkele mijlen zuidelijd
van de Azoren, te vangen».
И перевод: «Недавно матросам удалось поймать сирен в нескольких милях к югу от Азорских островов».
— Это по-голландски. Но он читал с легким фламандским акцентом жителя Антверпена.
Бадмаев повернул ручку, чтобы голоса было не слышно. Но оставил зеленый огонек Вот, такая у него работа. Ему дают список передач, которые надо прослушать, днем или ночью, и он должен назавтра сделать перевод.
— Иногда эти передачи приходят с другого конца земли… дикторы говорят на удивительных языках.
Он слушает их ночью у себя в комнате, для тренировки. Я представила себе, как он лежит в темноте, пробитой этим зеленым огоньком.
Он снова сел на край матраса. Сказал мне, что с тех пор, как поселился в этой квартире, почти не пользуется кухней. Тут есть еще одна комната, но она пустая и он никогда туда не заходит. К тому же, слушая без конца иностранные передачи, он уже и сам толком не понимает, в какой стране живет.
Окно выходило в большой двор и на соседние здания, где тоже на каждом этаже светились окна. Позднее, когда я в первый раз дошла вслед за матерью до ее дома, я была уверена, что из ее комнаты вид точно такой же, как от Моро-Бадмаева. Я посмотрела адресный справочник в надежде отыскать ее фамилию, и меня поразило, сколько же людей живет с ней в одном доме. Человек пятьдесят, и среди них около десятка одиноких женщин. Но ее девичьей фамилии я там не нашла, как не нашла и другой, вымышленной, которую она когда-то себе взяла. Это было до того, как консьержка показала мне ее фамилию в списке — Боре. А потом мне опять пришлось смотреть справочник — по названиям улиц. Я потеряла номер телефона Моро-Бадмаева. По его адресу я обнаружила не меньше фамилий, чем в доме моей матери. Да, жилые корпуса в Венсене и возле Порт-д'Орлеан мало чем отличались друг от друга. Его фамилия — Моро-Бадмаев — фигурировала в справочнике. Значит, мне все это не приснилось.
В тот вечер он сказал мне, когда я смотрела в окно, что вид здесь мрачноватый. В первое время у него было ощущение, что он в этой квартире задыхается. Слышен каждый звук — и от соседей по этажу, и сверху, и снизу. Какое-то непрерывное гудение, как в тюрьмах. Ему казалось, что отныне он навсегда заперт в камере, а вокруг сотни других таких же камер, занятых семьями или одинокими людьми, как он. Он тогда вернулся из долгого путешествия в Иран, где успел отвыкнуть от Парижа и вообще от больших городов. Он туда ездил, чтобы попробовать освоить новый язык, степной фарси.
Учителей по этому языку нет, даже в Школе восточных языков. Пришлось изучать его самому, на месте.
Это было в прошлом году. Возвращение в Париж, на Порт-д'Орлеан, далось ему нелегко, но теперь шум от соседей его больше не беспокоит. Достаточно включить радио и медленно поворачивать ручку. И он снова оказывается очень далеко. Ему даже не нужно для этого путешествовать. Достаточно, чтобы зажегся зеленый огонек.
— Хотите, научу вас степному фарси?
Он пошутил, но его фраза запала мне в душу из-за слова «степной». Я подумала, что скоро уеду из этого города, что у меня нет серьезных причин считать себя узницей чего бы то ни было. Передо мной открыты все горизонты, степи без конца и без края, за которыми лежит море. Я только хотела собрать напоследок кое-какие скудные воспоминания, отыскать следы своего детства, как путешественник, до конца таскающий в кармане просроченное удостоверение личности. Да мне и нечего почти собирать.
Было девять часов. Я сказала, что мне пора домой. В следующий раз он пригласит меня поужинать, если я не против. И мы будем изучать степной фарси. Он проводил меня до метро. Я не узнавала Порт-д'Орлеан, хотя до шестнадцати лет проезжала здесь всякий раз по пути в Париж. Тогда автобус из Фоссомброн-ла-Форе шел до кафе «Ротонда».
Он продолжал рассказывать мне про степной фарси. Этот язык, говорил он, похож на финский. Такой же приятный на слух. В нем слышится ласковый шелест ветра в высоких травах и плеск водопадов.
В первое время я чувствовала странный запах на лестнице. Он шел от красной ковровой дорожки. Видимо, она потихоньку гнила. Кое-где уже просвечивали деревянные ступеньки. Столько людей поднималось по этим ступенькам, спускалось по ним в те годы, когда дом служил гостиницей… Лестница была крутая и начиналась прямо от входа. Я знала, что моя мать какое-то время жила в этой гостинице. Адрес был записан у меня в метрике. Однажды в поисках комнаты я читала объявления насчет аренды жилья и вдруг с изумлением обнаружила этот адрес в разделе «Однокомнатные квартиры и студии».
Я пришла в назначенный час. Краснолицый человек лет пятидесяти ждал меня на тротуаре. Он показал мне комнату на втором этаже, с крохотной ванной. Потребовал плату за три месяца вперед наличными. К счастью, у меня как раз оставалась примерно эта сумма. Он повел меня в кафе на углу бульвара Клиши, чтобы заполнить и подписать бумаги. Он объяснил, что гостиница закрылась и номера превращены в студии.
— В этой гостинице жила моя мать…
Я услышала, как произношу эту фразу, очень медленно, и сама поразилась. Какая муха меня укусила? Он сказал рассеянно: «Да? Ваша мать?» По возрасту он мог ее помнить. Я спросила, не ему ли принадлежала гостиница. Нет. Они с партнерами купили ее в прошлом году и отремонтировали.
— Знаете, — сказал он, — гостиница была довольно захудалая.
Весь первый вечер я думала, что моя мать, возможно, жила как раз в этой самой комнате. Выходит, именно вечером того дня, когда я в поисках жилья увидела в газете адрес — улица Кусту, 11, — и произошел щелчок. Правда, к тому времени я уже начала заглядывать иногда в старую… коробку из-под печенья, листать ежедневник и записную книжку, рассматривать фотографии… Прежде, должна признаться, я почти никогда не открывала эту коробку, а если и открывала, у меня не возникало желания читать какие-то старые бумажки. Я с детства привыкла к ней, она сопровождала меня всюду, как картина Толи Сунгурова, всегда была под рукой. Я даже хранила там какие-то дешевые побрякушки. На вещи, которые давно при вас, внимания не обращаешь. И если они вдруг пропадают, то выясняется, что некоторых мелочей вы не замечали. Так, я уже не помнила, как выглядела рама у картины Толи Сунгурова. И если бы я потеряла коробку из-под печенья, то не помнила бы, что на крышке была полуоторванная этикетка, где еще сохранилась надпись: LEFÈVRE-UTILE. Поэтому не стоит полностью Доверять так называемым свидетелям.
Получалось, что я вернулась к исходной точке, поскольку этот адрес значился в моей метрике как адрес матери. И наверняка я тоже жила здесь в раннем детстве. Однажды вечером, когда Моро-Бадмаев провожал меня домой, я рассказала ему все это, и он заключил:
— Итак, вы вернулись в старое родовое гнездо.
Мы оба расхохотались. Портал увит жимолостью, он так давно закрыт, что за ним выросла трава и уже невозможно его открыть, чтобы проскользнуть между створками. В глубине степей, под луной — замок нашего детства. А вон там, слева, по-прежнему растет старый кедр. И вот мы входим в замок. С канделябром пересекаем голубую гостиную, идем через галерею, где висят портреты предков. Ничего не изменилось, все вещи на своих местах, под толстым слоем пыли. Мы поднимаемся по парадной лестнице. Проходим коридор, и вот наконец-то детская. Так развлекался Моро-Бадмаев, описывая мое возвращение в родовой замок, как оно происходило бы в другой жизни. Но за моим окном лежала маленькая улочка Пюже, еще уже, чем улица Кусту, с которой она составляла почти правильный треугольник. Вершиной треугольника была моя комната. И ни ставен, ни занавесок. Ночью мерцающая вывеска гаража, чуть ниже, на улице Кусту, отбрасывала на стену возле моей кровати красные и зеленые отсветы. Меня это не раздражало. Наоборот, скорее успокаивало. Кто-то не забывал меня. Может быть, красные и зеленые сигналы приходили издалека, из той поры, когда моя мать жила здесь и, как я, лежа на этой же кровати, пыталась уснуть. Они зажигались, гасли, зажигались, убаюкивали меня, и я соскальзывала в сон. Зачем я сняла эту комнату, когда могла бы найти себе что-то в другом районе? Но там не было бы этих красно-зеленых сигналов, ритмичных, как биение сердца, и которые, как я постепенно поняла, остались для меня единственными следами прошлого.
Произведения
Критика