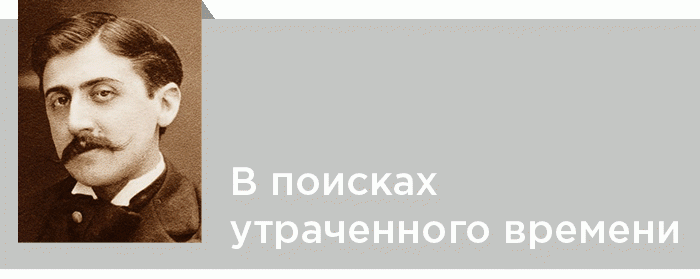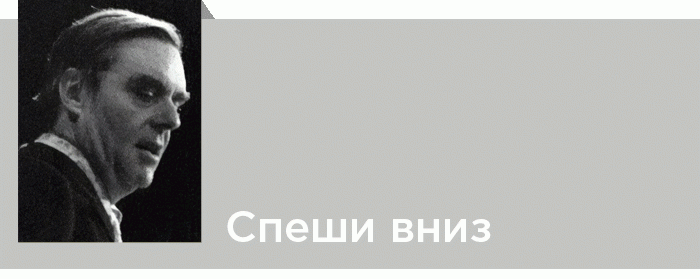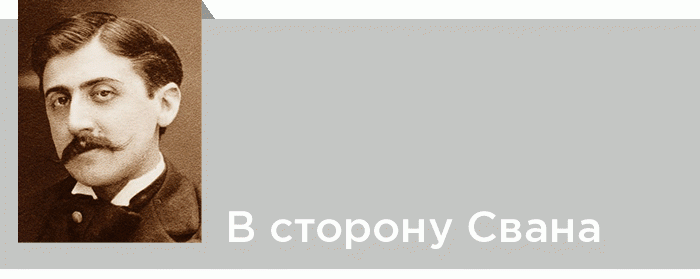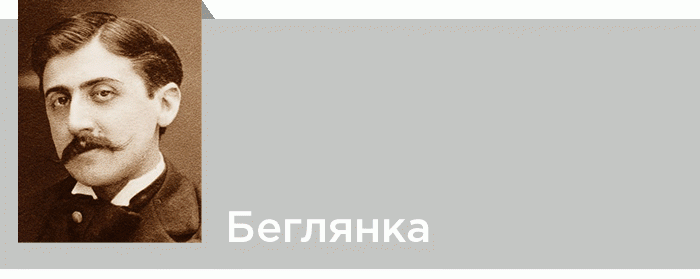Марсель Пруст, секреты стиля
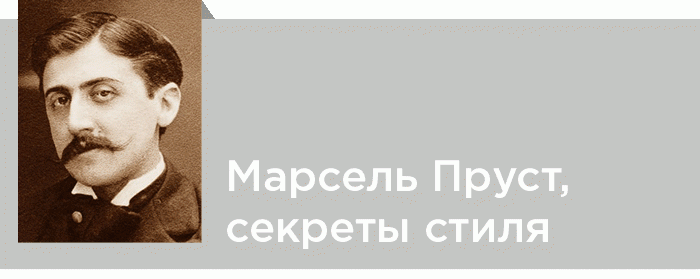
В. Днепров
[…]
Пруст по праву вошел в мировую классическую литературу. Этому не смогли помешать ни субъективизм Пруста, ни узость его жизненного кругозора. Мы оказались бы слепцами, если бы не заметили потерь Пруста, но было бы возмутительной расточительностью упустить из-за этого плодотворные открытия, живую правду и красоту его искусства. С такого рода диалектикой вынужден столкнуться и справиться каждый читатель. Он привык в романе к четырехмерному миру содержания, вмещающему целое общество, к объективно причинной динамике сюжетного действия, к событиям одновременно существующим в пространстве и совместно вступающим в поток времени. Здесь совсем не то. Вертикали убраны, жизненный процесс не знает подъемов и кульминаций, понижений и спадов, он движется как бы на плоскости, и мельчайшие переживания рассматриваются, пожалуй, с еще большей мерой детализации, чем крупные события и сдвиги. Сфера борьбы, труда, деятельности, производства жизни исключена из произведения Пруста. Осталась только сфера жизнепотребления, созерцания, впечатления. Вечный праздник, но и вечные будни. Будничный праздник, горький праздник. Явления выплывают не по закону их собственного объективного хода, но по ассоциациям субъективного воспоминания, и течение времени совпадает с движением одной-единственной точки — созерцающего и переживающего сознания. Роман движется необычайно медленно из-за того, что каждое восприятие расчленяется на множество составных частей и орнаментируется множеством сопоставлений. Огромное количество малых образов, инкрустированных почти в каждую фразу, делает слово книги слишком густым и насыщенным. Утомительность чтения увеличивается также из-за растянувшегося на тысячи страниц одноголосия, неизменного пребывания внутри одного и того же субъекта.
Но как только читатель отрешится от запроса, на который роман не может ответить, как только освоится с его оригинально-поэтической атмосферой, как только согласует ритм своего восприятия с ритмом его движения, сразу облик романа неузнаваемо изменится, и в нем проступит замечательное богатство красок и смыслов. Конечно, созерцание и впечатлительность — только частица человека. И если художник стремится убедить нас, что именно здесь решаются величайшие вопросы бытия, то мы откажемся согласиться с ним. Мир восприятия и впечатления неисчерпаем, бесконечен. Впечатление вступает в связь с другими впечатлениями, ассоциируется со сходными явлениями, смыкается с настроением или даже глубоким чувством, ставит вопросы уму, колеблется во времени, надолго сохраняет свежесть, цвет и запах в воспоминании. Оно вовсе не является чем-то слитным и простым, нет, оно подлежит аналитическому истолкованию и разработке, подобно тому, как подлежит разработке музыкальная тема. В художественной разработке впечатлений Пруст — мастер несравненный. Он неустанно гранит и шлифует впечатление, пока оно не засверкает, подобно драгоценному камню. Он показывает, какой фонд духовного богатства, какой источник разнообразной красоты составляют живые впечатления. И этим он оказывает каждому из нас важную услугу. Умение подняться над равнодушной беглостью, служебностыо и попутностью впечатлений, умение вжиться в них, вработаться, обнаружить в них нечто самоцельно прекрасное — один из признаков той всесторонне развитой личности, которую все мы стремимся построить. И в этом отношении чтение произведений Пруста — большая эстетическая психологическая школа, школа одухотворенно чувственного. Пруст говорит о «наслаждении видеть», и в его устах слова эти полны глубокого значения. Он завершил своим романом целую культурную эпоху, которую следует назвать эпохой повышенной впечатлительности. Она сказалась и в живописи импрессионистов, и в музыке Дебюсси и Равеля, и в прозе Бунина. Пруст подвел ей энциклопедический итог в своем грандиозном лирическом эпосе.
И особенную личность своего героя Пруст собирает вокруг впечатлительности. Его герой своей отзывчивой чувствительностью глубоко отличается от суетных людей, не познавших «ни одного подлинно испытанного впечатления». Само впечатление не вялый след, меркнущий в памяти, а точка пересечения мечты и реальности, точка соединения многих ассоциаций, яркая вспышка, узел в жизни субъекта. Оно представляется герою маленьким чудом, повергающим его в состояние «непрерывного и плодотворного изумления». Конечно, такая сила и интенсивность впечатлений — удел личности в данном отношении исключительной, но нечто смутно похожее рождается в душе каждого из нас, когда удается живо почувствовать гармонию, непреложность и тайну окружающей нас природы. Настоящее искусство умеет своими предельными, якобы преувеличенными образами доводить до ясности, зрелости и силы то, что глухо, невнятно и слабо звучало в нашей душе.
Отдельные впечатления переходят в «сочетания впечатлений». Посмотрите, как из комбинации восприятий и ассоциаций возникает страсть Свана к Одетте. Лестное ощущение — быть любимым, духи Одетты, отпечаток женственности в ее манере одеваться, идущий из глубины ее существа голос и интонации, ассоциация между лицом Одетты и очаровательно скуластым женским лицом на фреске Боттичелли, перенесенное на Одетту волнение от музыкальной фразы из сонаты Вентейля, оживотворившее все это, сплавившее в ревнивое беспокойство — так шаг за шагом растет из субъективных впечатлений любовь Свана.
Но «сочетание впечатлений» дает основу не только для жизни чувства, но и для работы ума. Пруст пишет: «Сван приближался к тому возрасту, когда его философия, соответствовавшая философии эпохи, а также философии той среды, которая окружала Свана на протяжении многих лет, философии кружка принцессы де Лом, где считалось, что умный человек должен сомневаться во всем и где объективной истиной признавались только субъективные пристрастия, — когда его философия уже перестала быть философией его юности...»
Итак, на фундаменте впечатлительности Пруст воздвиг цельный образ своего героя; руководствуясь началом впечатлительности, он прошел «по всем пластам» его личности. Образ героя несомненен и реален, но вместе с тем он в высшей степени специализирован, односторонен. Это одна из многих внутренних систем полной личности, отъединившаяся и закруглившаяся до изолированного существования. В ней атрофирована воля к действию, она не стремится что-то осуществить или изменить («философия человека, уже не ищущего цель жизни вовне»), но в ней предельно развита способность к потреблению и созерцанию жизни. Автор хочет, чтобы человек в своем непосредственном общении с окружающим был немного художником. Конечно, не в смысле создания произведений искусства, а в умении претворять, очищать, формировать впечатления, разжигать их красоту, приближать их к глубоким процессам души, сообщать и концентрировать их своеобразие. И в этом отношении Пруст — превосходный учитель. Он не просто рисует картины, он изображает и развертывает самый акт видения, слышания, акт объединения субъективного с предметным и вводит его в духовную биографию личности. Так, в книге «По направлению к Свану» впечатление от колоколен, возвышающихся над низкими домами Комбре, становится моментом, когда в душе героя рождается писатель. «На одном из поворотов я неожиданно испытал особое, ни с чем не сравнимое наслаждение при виде озаренных лучами заходящего солнца двух колоколен мартенвильской церкви... Отмечая, подмечая форму их шпилей, передвижение их очертаний, блистание их поверхности, я чувствовал, что мое впечатление не полное, что за этим движением, за этим освещением что-то есть, и это «что-то» они заключают в себе, но таят». И стремление угадать эту тайну, обнаружить полноту поэтического сюжета, скрывающегося во впечатлении, ведет героя к откровению художественного слова.
Пруст не занимается отношениями и движениями больших классов, определяющих жизнь и исторические судьбы общества, но с ювелирной точностью чеканит формы мелких социальных групп, которые сам называет «кланчиками». В сфере микросоциологии он осуществляет множество тончайших художественных исследований и открытий. Его сфера — отношения различных прослоек и кругов внутри господствующего класса. И, несмотря на то, что людей этих прослоек и кружков он рисует не в процессе деятельности, а в процессе праздности, несмотря на то, что его эпос — эпос времяпрепровождения и развлекательного ничегонеделания, портрет господствующего класса оказывается правдивым и беспощадным. Пруст не рассказывает о великих страстях, но зато с энциклопедической полнотой повествует о страстях мелких. Две из них он представляет с богатством оттенков, не имеющим себе равного в мировой литературе. Это мелкое тщеславие и мелкая зависть. Это, если можно так сказать, бытовые страсти. Вчитавшись в роман Пруста, мы узнаем все ужимки, все приемы, все виды лицемерия и жестокости, отвратительные черты, с которыми непременно связаны каждодневное тщеславие, мелочность, зависть. Мы научимся узнавать в себе даже слабые их признаки, презирать их в себе, вытравлять их. В этом моральная сила прустовского романа. История вообще, история переходного общества в частности, показывает, какой цепкостью, какой неуловимостью обладают мелкие страстишки, прячущиеся в складках быта, и как мешают они выпрямлению и обновлению человека. Не только крупное, но и мелкое имеет нередко глубокие корни, и это составляет одну из важных истин прустовского искусства.
В мире Пруста люди — за редчайшими исключениями — совершенно разъединены. Все не понимают всех. Любовники держат в своих объятиях незнакомое существо. Общение — взаимный обман или взаимное недоразумение. Действительное общение, действительная откровенность, действительное соприкосновение двух душ — несбыточная мечта. Любовь как реальная гармония и реальное отношение, как «явление внешнего мира» не существует. Всякая любовь безответна, ибо она есть томление субъективного духа, она чисто субъективна и наглухо заперта в субъекте. Пруст считает одиночество роком, определенным законом человеческой природы. В этом глубокое заблуждение писателя. Но, как часто бывает в искусстве, заблуждение смешано с истиной. Пруст хочет представить одиночество вытекающим из устройства мира, а на самом деле представляет одиночество, вытекающее из социального устройства. У Толстого и Достоевского люди не одиноки, в их произведениях мы находим картины изумительно полного человеческого общения. Но у Пруста есть своя историческая правда: истина позднего буржуазного общества, которое довело до крайности отчуждение человека от человека. В этом отношении, несмотря на громадные различия в художественной форме, Пруст ближе к Кафке, чем к Достоевскому.
Находя вечное основание для человеческого одиночества, Пруст не скрывает, что его герой рвется к людям, жаждет выйти из своего внутреннего мира в мир внешний и осуществить свою мечту. Но он не достигает этого, и закон одиночества превращается в закон страдания. Красота мира приносит ему блаженство, но люди низвергают его в пучину отчаяния. И люди решают: в течение всей жизни герой может перечислить не много дней, когда он не чувствовал бы себя глубоко несчастным. Истина действительности мстит за себя, и Пруст нигде не уклоняется от встречи с этой горькой истиной.
[…]
Л-ра: Литературное обозрение. – 1974. – № 7. – С. 92-94.
Произведения
Критика