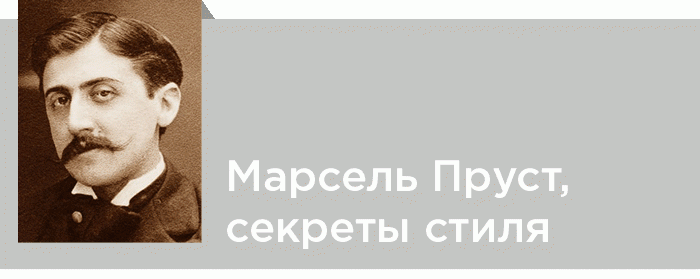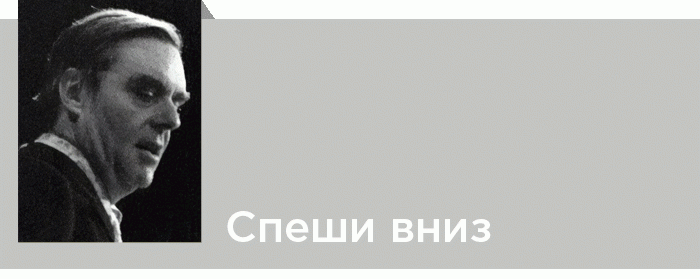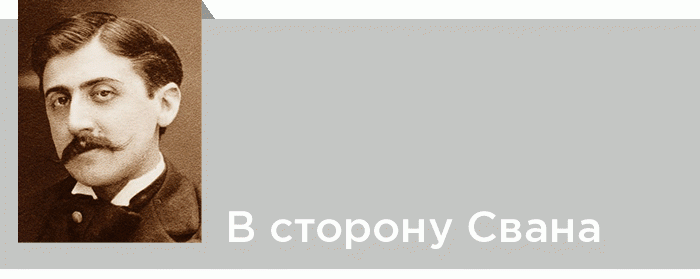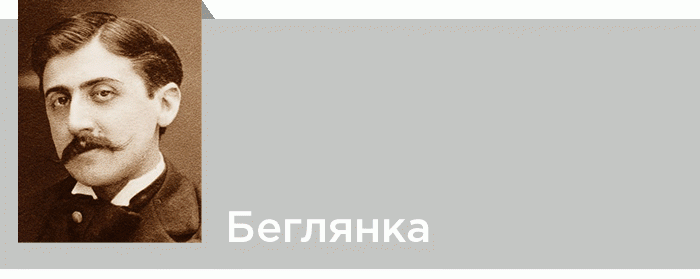«В поисках утраченного времени»
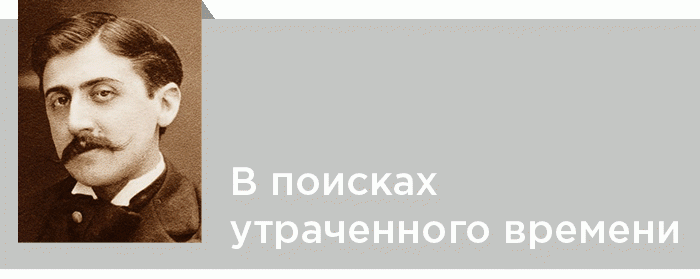
А. И. Владимирова
Огромное влияние Марселя Пруста на дальнейшее развитие литературы не было угадано его современниками не только после появления его раннего сборника «Утехи и дни» (1896), но даже после опубликования первого тома его серии «В поисках утраченного времени».
Пруста воспринимали вначале как любителя, не относящегося серьезно к своим литературным занятиям. Может быть, «Утехи и дни» давали некоторое основание для подобного мнения. Это были не то рассказы, не то эскизы, рисующие то или иное состояние психики, тот или иной момент чьей-то внутренней жизни. Необычное построение, расплывчатый сюжет, не имеющий порой ни завязки, ни конца, несколько манерный язык свидетельствовали, казалось, о недостаточном литературном мастерстве. Сборник не был замечен читателями, обошли его вниманием и критики, хотя в нем уже появились почти все основные темы Пруста-романиста. Уже здесь можно увидеть особую, «прустовскую» психологию. Появляется и характерный метод повествования, скрывающий истинный сюжет за незначительными, на первый взгляд, событиями.
Мнение об этом сборнике предопределило и первоначальную судьбу первого романа серии — «В сторону Свана» (1913). Автор предлагал роман нескольким журналам и издательствам, но всюду получал отказ. А. Жид прямо говорил о том, что считает Пруста светским человеком, написавшим для собственного развлечения несколько пустячков. Издателей отталкивала рыхлость композиции, монотонность повествования, затрудняющая чтение, длина фраз и абзацев. Издательство Грассе соглашается выпустить роман в свет, только издав его на средства автора.
Критика хранит молчание. Несколько друзей Пруста публикуют восторженные статьи, но их не принимают всерьез. Однако в 1914 году сотрудник «Nouvelle Revue Française» А. Геон в короткой заметке говорит о романе как о произведении, характерном для молодой литературы. Это было началом признания Пруста группой «Nouvelle Revue Française». Ж. Ривьер называет роман великим произведением, А. Жид восхищается стилем Пруста, А. Бордо называет его «оригинальным романистом, независимым от всех привычных форм романа, доводящим анализ и самоанализ до самых последних границ».
В 1919 году второй роман серии — «Под сенью девушек в цвету» получает Гонкуровскую премию. За три года до смерти к Прусту приходит слава, которая вскоре перешагнет пределы Франции.
Пруст оставил значительное количество статей, писем, теоретических рассуждений, где речь идет о его эстетике и творческом методе. Вся серия «В поисках утраченного времени» представляет собой огромный трактат, призванный ответить на важнейшие эстетические вопросы не только самого Пруста, но и всей эпохи.
Уже в начале романа «B сторону Свана» рассказчик, описывая свои детские годы, вспоминает, что ему всегда хотелось стать писателем. Но когда он начинал искать какую-нибудь абстрактную идею, вокруг которой можно построить произведение, он не испытывал ничего, кроме утомления и скуки. Когда же он пытался описать свои чувственные впечатления, его охватывала ни с чем не сравнимая радость, такая сильная, что моменты этой радости, казалось, и были настоящей жизнью, а то, что происходило в промежутке, — только бледная ее копия. «...Я прилагал все усилия к тому, чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня, казавшиеся мне, я не мог понять почему, преизбыточными, готовыми приоткрыться, явить моему взору таинственное сокровище, лишь оболочкой которого они были. Разумеется, не эти впечатления могли снова наполнить меня утраченной надеждой стать со временем писателем и поэтом, потому что они всегда были связаны с каким-либо конкретным предметом, лишенным всякой интеллектуальной ценности и не содержащим в себе никакой отвлеченной истины. Но по крайней мере они доставляли мне иррациональное наслаждение, иллюзию некоего оплодотворения души, чем прогоняли мою скуку, чувство моей немощности, испытываемое каждый раз, когда я искал философской темы для большого литературного произведения».
Этот творческий подъем охватывает Марселя, когда ему кажется, что ему удалось постигнуть глубокий смысл какого-то чувственного впечатления, проникнуть за его внешнюю оболочку и закрепить это откровение в словах и образах. «И я не занимался больше таинственной сущностью, скрытой под определенной формой или определенным запахом, вполне спокойный на ее счет, потому что я приносил ее домой огражденной видимыми и осязаемыми своими покровами, под которыми я найду ее еще живой...».
Перед Марселем, как и перед многими писателями и поэтами постсимволистского периода, вставал вопрос: что же представляет собой эта сущность вещей, эта реальность «как она есть»? Глядя на «танец» колоколен, к которым он подъезжает, Марсель замечает: «Наблюдая и запечатлевая в сознании их остроконечную форму, изменение их очертаний, освещенную солнцем их поверхность, я чувствовал, что этим впечатление мое не исчерпывается, что за движением линий и освещенностью поверхностей есть еще что-то, что-то такое, что они одновременно как бы содержат и прячут в себе».
По мнению Пруста, восприятию подлинной сущности мира мешает прежде всего условность привычного видения, которое связано с социальной ролью человека и его практическими нуждами. Это своего рода кора, в которую спрессовались готовые образы, застывшие словесные конструкции, модели поведения, целесообразность которых проверена многими поколениями людей в процессе работы и общественного существования. Преодолеть эту оболочку с помощью разума невозможно. «С каждым днем я все ниже и ниже оцениваю интеллект, — пишет Пруст. — С каждым днем я все лучше понимаю, что, только отказавшись от него, писатель может обнаружить какие-то наши прежние впечатления, то есть достичь того пласта в самом себе, который представляет собой единственный материал, достойный искусства. То, что разум возвращает нам, называя прошлым, не является им на самом деле».
Единственную гарантию подлинности нашего восприятия Пруст видит в чувстве, в ощущении. Когда Сван вспоминает свою любовь к Одетте, он может обозначить прошлое абстрактными фразами типа «время, когда я был счастлив», «время, когда меня любили». Но, услышав вновь музыкальную фразу из сонаты Вентейля, которая прежде всегда была связана для него с любовью к Одетте, он вдруг ощущает все то особенное, ни на что другое не похожее, что характеризовало это чувство. Музыка вызывает в его душе живое и острое страдание, тогда как отвлеченные воспоминания были для него уже почти безразличны. «Рядом с этим прошлым, глубокой сущностью нас самих, истины, открытые разумом, кажутся гораздо менее реальными».
Но Пруст различает два типа ощущений. Только что воспринятое, непосредственное, чаще всего поверхностно, так как исходит от реального бытия предмета и ничего не говорит о его сущности. Чтобы ее уловить, надо проникнуть глубже спонтанного впечатления. Возникновение другого, «глубокого» ощущения связано с проблемой памяти. По собственному мнению Пруста, его концепция отличается от теории, выдвинутой Бергсоном, четким различением двух видов памяти. Рациональная память, «память глаз», «возвращает нам из прошлого только приблизительные отпечатки, похожие на него так же, как картины плохих художников похожи на весну». Другая память — непроизвольная. «Когда какой-нибудь запах или вкус, который мы ощутили в совсем иных обстоятельствах, пробуждает в нас прошлое даже помимо нашей воли, мы видим, насколько оно отличается от того, что нам казалось прошлым, нарисованным нашей „умышленной" памятью».
Стал уже классическим пример из первого тома серии: вкус печенья «Мадлен» с чаем содержит развернутый эпизод прошлого, который внезапно, с почти пугающей подлинностью, является перед рассказчиком. Но этот пример — не единственный. Вкус поджаренного хлеба вызывает в его памяти целый сад с его глухими аллеями, с запахом герани и апельсиновых деревьев, потому что дедушка угощал его в детстве сухариками с чаем. Наступив однажды на неровные плиты мостовой, Пруст вспоминает площадь Святого Марка в Венеции. Звяканье ложки о тарелку почти автоматически приводит за собой летний день, полосы тени и света на стволах деревьев, путешествие в поезде, когда на станциях стрелочник постукивал молоточком по колесам вагона.
Эти воспоминания возникают под влиянием какого-то впечатления, которое покажется случайным постороннему наблюдателю. Человек сам может не подозревать о том, что они сохранились в его памяти. Но они откладываются в тайниках его души, образуя самый важный слой личности — подсознание. Одним из первых среди писателей Пруст обратил такое внимание на подсознательные слои психики: «Моя книга будет попыткой создать серию романов о подсознании». В этом следует видеть не столько ориентацию на З. Фрейда, сколько влияние А. Бергсона. Говоря о подсознании, Пруст не имеет в виду фрейдовское либидо, подавленные вожделения и инстинкты. Подобно Бергсону (а Пруст сам подчеркивал «бергсоновский» характер своих произведений) Пруст считает, что под тонким слоем практического видения находится обширная область того бессознательного опыта, который приобретается человеком в течение всей жизни.
Задача художника — обнаружить эту тайную жизнь, сделать ее видимой и понятной для себя самого и для других. «...Пробуждая в нас эмоции, соответствующие найденным ими темам, художники... помогают нам обнаружить, какое неподозреваемое нами богатство, какое разнообразие таит в себе черная, непроницаемая и обескураживающая ночь нашей души, которую мы принимаем обыкновенно за пустоту и небытие».
Глубокие ощущения представляют собой впечатления вторичные, потому что человек получает их не от прямого воздействия внешнего мира, но преображенными, прошедшими сквозь фильтр подсознания. Чтобы их воспринять, органы чувств уже не нужны. В новелле «Смерть Бальдасара Сильванда» Пруст пишет, что колокола всегда вызывали у героя картину его детства: дорогу в полях и принесенный ветром издалека серебристый звон. У умирающего героя возникают те же воспоминания. В момент, когда врач констатирует смерть, в гаснущем сознании не остается места для случайных мыслей, оно заполняется одним подлинным воспоминанием. Сознание освобождается от всего чуждого, наносного, становясь идентичным самому себе. «Бальдасар лежал с закрытыми глазами, и его сердце вслушивалось в звон колоколов, которого его слух, парализованный близкой смертью, уже не мог уловить».
Ж. Ривьер назвал однажды роман Пруста «пирожным из ощущений». Однако это не совсем точно. Пруст — не бесстрастный регистратор мельчайших деталей внешнего мира и их влияния на органы чувств человека. «Я опускаю... все детали, все частные факты, я занимаюсь только тем, что, по моему мнению, способно вскрыть общую закономерность».
Сущность мира, которую ищет Пруст, не может быть выражена какой-либо точной формулировкой, потому что ее нельзя понять с помощью интеллекта. Реальная действительность на самом деле ложна, потому что «грубые» ощущения, действующие только на органы чувств, подавляют истинное восприятие своей пестротой и обилием. Человеку удается познать жизнь, только «сохраненную памятью и вновь воссозданную, потому что в момент, когда мы живем, она предстает не перед нашей памятью, а наяву — подавленная множеством ощущений».
Когда прошлые ощущения возникают, возрожденные памятью, они очищены от всего случайного. «Какими бы ни были истинные ощущения, — запах, луч света, — они слишком близки ко мне, чтобы принести мне счастье. И только если они напоминают мне какое-нибудь другое ощущение, если я их воспринимаю где-то между прошлым и настоящим..., они способны сделать меня счастливым». Тогда и возникает синтез внутреннего мира человека и самой сущности мироздания.
«Если писатель и может проникнуть в реальность так же глубоко, как философ, — пишет Пруст, — он пользуется для этого другой дорогой. Помощь рассудка не только не поддерживает, но, напротив, парализует эмоциональный порыв, который один только и способен достичь сердца мира». Вместе с тем, для того чтобы обнаружить и воплотить глубокие ощущения, нужно сознательное усилие художника. Отвергая интеллект как инструмент познания, Пруст вновь обращается к нему как к необходимому методу при отображении. «Стиль Пруста обнаруживает его поразительный замысел: достичь путем интуиции и выразить посредством интеллекта самые мимолетные чувства нашей внутренней жизни». Интеллект здесь не равен произвольной памяти и тем более способности к логическим операциям, без которых была бы невозможна практическая деятельность. Это качество как бы параллельно самому ощущению бытия. «Интеллект, как понимает его Пруст, — это не четко обозначенная область сознания, не одна из многих способностей человека, развивающаяся благодаря опыту. Это первичный импульс, который позволяет нам охватить всю реальность и в нее проникнуть». Таким образом, Пруст своеобразно развивает идею «естественного» мышления, где одинаковую роль играет и рациональное, и чувственное познание.
Воссозданная таким образом сущность мира лежит как будто вне природы и вне человека, хотя проявляется только в момент их слияния; она вне прошлого и вне настоящего, хотя связана и с тем, и с другим. Следовательно, жизнь как таковая может служить только материалом для создания настоящей, высшей формы жизни. «Лучше вообразить жизнь, чем ее прожить», — утверждает Пруст. В одном из ранних рассказов речь идет о маленьком больном, который влюблен в девочку, проходящую мимо его окна. Пока он ждет ее появления, его фантазия создает образ, который настолько не совпадает с ней самой, что каждый раз после встречи мальчик чувствует разочарование и пустоту. «Жизнь похожа на эту девочку. Мы мечтаем о ней и любим ее себе воображать. Но не нужно пытаться ее прожить: как мальчик выбросился из окна, так мы бросаемся в глупость»; «Честолюбие опьяняет больше, чем слава; желание все расцвечивает, а обладание все губит...».
В другом рассказе женщина чувствует непреодолимое влечение к человеку, которого она видела всего один раз. Но за время, последовавшее за этой встречей, она успела «придумать» его образ, и он мучает ее, как болезнь. Из-за этого придуманный образ представляет собой, кажется, большую реальность, чем живой и довольно незначительный молодой человек: «Как только она произносила его имя, возникали невольные и не поддающиеся анализу ассоциации, и она видела его перед собой и испытывала столько счастья и боли, что начинала понимать: то, что он есть на самом деле, значит так мало, поскольку он внушает ей такие страдания и радости, перед которыми все остальное — ничто».
Герой «Поисков», заранее вообразив городок Бальбек, герцогиню Германтскую или что-либо другое, смотрит сквозь призму своих представлений и находит действительность банальной и лишенной смысла. «Мы пытаемся найти в вещах, ставших от этого драгоценными, отблеск, который душа наша бросила на них, и бываем разочарованы, когда констатируем, что в действительности они оказываются лишенными обаяния, которым были обязаны в наших умах сходству с известными мыслями». Так, Сван, глядя на фотографию Одетты или встречаясь с ней, с трудом может объединить в своем сознании живую женщину и то болезненное, непрерывное волнение, которое ни на минуту его не оставляет.
Понятно, почему Пруст придает искусству такую большую роль. Дело не только в том, что гиперчувствительность художника позволяет ему извлечь из подсознания подлинную реальность и открыть ее другим. Искусство и только искусство способно придать форму и ценность «необработанному» жизненному материалу. Оно и оказывается той самой воображаемой жизнью, которая более подлинна, чем подлинная реальность. Так, Марсель не видит никакого очарования в Елисейских полях. Но если бы Бергот описал их в книге, они стали бы для Марселя гораздо привлекательнее: в своем сознании он носил бы их двойной образ; воображение оживило бы их и наделило индивидуальностью. Одетта сама по себе совсем не нравится Свану, но он влюбляется в нее, потому что она похожа на женщину с картины Ботичелли — это как бы ожившее художественное произведение. «Чтобы достичь полноты, впечатление должно быть выражено в художественной форме; мир искусства, внедряясь в нашу жизнь, сам становится еще более живым и плодотворным».
«Едва, только приближающийся час становится настоящим, он теряет для нас свое очарование. Правда, он снова его обретает, если наша душа имеет достаточную перспективу, то есть когда мы оставляем этот час далеко позади на дорогах памяти».
Говоря об импрессионизме Пруста, охотно приводят фразу, написанную им о мадам де Севинье: «...Она показывает нам вещи... в порядке наших восприятий, не объясняя нам их предварительно путем причинной связи».
Но чаще говорят о субъективности искусства Пруста. Сознание «охватило, обволокло реальности внешнего мира и самого сознающего, вспоминающего героя с его биографической жизнью, событиями, сюжетом... Всегда сознание было «внутренним миром», теперь у Пруста мир оказался внутри сознания».
И та, и другая точка зрения находит как будто свое подтверждение в высказываниях самого писателя, в эпизодах его произведений. Как и многие художники, близкие к кругам «молодого символизма», Пруст тоже решал проблему соотношения субъективного и объективного фактора в искусстве. Чтобы преодолеть повседневное видение, Пруст призывал обращаться непосредственно к природе, воспринимая ее с возможно большей полнотой и адекватностью. Художник отличается от обычного человека остротой взгляда, свежестью восприятия и умением уловить самое главное в каждом впечатлении.
Однако такое непосредственное постижение служит лишь фундаментом для подсознания, тем источником, откуда непроизвольная память черпает свой материал. Глубокое ощущение настолько слито с подсознанием, что в нем уже невозможно отделить объективную реальность от субъективной ее окраски. Это качественно новая реальность, сочетающая в себе и то, и другое. «Вот почему лучшее, что есть в нашей памяти, находится вне нас, в дуновении влажного ветра, в затхлом запахе комнаты или в запахе впервые затопленного камина — всюду, где мы обретаем часть самих себя... Вне нас? В нас самих, правильнее будет сказать, но скрытое от наших взоров, погруженное в забвение более или менее долгое». Подлинная сущность мира познается как раз в моменты «озарений», т. е. слияния субъекта с объектом. «Вся философия Пруста опирается на идею таинственной работы высшего существа, которое в конце концов обретает в скрытых в самой его глубине эмоциях сущность жизни и себя самого».
В последнем томе «Поисков» Пруст писал, что единственная реальность для человека — это область его собственного восприятия. Это нельзя понимать как неограниченный произвол в отношении действительности, но субъективный фактор у Пруста играет значительную роль в постижении мира. Каждое воспринимающее сознание отображает вполне реальные и объективно существующие вещи. Читая роман Пруста, мы можем получить целый ряд интересных исторических и бытовых подробностей из жизни высших кругов французского общества в конце XIX века, но форма, которую сознание придает реальности, строится по субъективным законам индивидуального восприятия. Для художника «не имеет никакого значения абсолютная шкала ценностей. Он может ее найти только в самом себе».
Это не значит, что писатель становится «рабом своего сюжета» или «рабом своего сознания». Особенности произведения Пруста определены его теорией, его творческим методом, который он применяет вполне сознательно. «Это целая теория памяти и познания, хотя и не выраженная прямо в терминах логики».
Поэты-постсимволисты искали слияние личности и природы в тончайших эмоциональных нюансах, окрашивающих картины природы настроением художника. Ален-Фурнье стремился к такому же слиянию, чтобы придать настоящему объемность и окрасить его всеми оттенками прошлых чувств и состояний. Пруст тоже «описывает не оптические или метеорологические явления природы, а движения души, не физические, а психические процессы, или, точнее говоря, он сливает материальное и духовное». Но, согласно его теории, прошлое активно вмешивается в настоящее, отрывая его от момента, когда происходит действие, и перенося в субъективное время, не зависящее от внешних факторов.
С «постсимволистскими» тенденциями Пруста связаны и особенности его стиля. «...Именно в эту осень, во время одной из... прогулок... меня впервые поразило это несоответствие между нашими впечатлениями и привычным их выражением». Слово должно передавать глубокое ощущение, т. е. нести в себе весь мир подсознания. По мнению Пруста, символисты первыми открыли, что «слово, которое хранит в своих очертаниях и гармониях отпечаток своего происхождения и судьбы, имеет над нашим восприятием и воображением власть какого-то озарения, не менее важного, чем его точный смысл».
Чтобы преодолеть разрыв между словом и сущностью предмета, который оно называет, Пруст строит свою фразу особым образом. «В каждый период Пруст хочет включить не просто один момент жизни нашего сознания, но еще и среду, пейзаж, находящихся рядом с нами людей, то, чем мы в эту минуту заняты, наше „я“, увиденное одновременно и изнутри, и снаружи». Отсюда длинные фразы, обилие придаточных, скобки, тире, вводящие дополнительные замечания и уточнения. «В поисках утраченного времени» — одно из тех произведений, которые можно понять, только зная его теоретические предпосылки.
Пруст искал язык, способный нести ту значительную идейную нагрузку, которой требовал его метод. «Стиль Пруста, — пишет Курциус, — являет нам особое сплетение интеллектуальности и импрессионизма, смесь в высшей степени точного логического анализа и воспроизведения самых тонких оттенков материальной и духовной реальности. Сплетение произведено таким образом, что обе стороны дополняют друг друга в едином движении и оказываются проявлением единой созидающей силы». Однако такое объяснение стиля Пруста неприемлемо. Чтобы говорить об ощущении и тем более о подсознании, нужно осознать то и другое, следовательно, оперировать разумом, без которого никакое впечатление не может быть высказано словом и понято читателем и самим автором. Поэтому нет здесь никакого «сплетения» или «смеси логического анализа и... тонких оттенков реальности». Пруст должен был познать процессы, происходившие в подсознании, он ставил перед собою те же задачи, которые разрешали импрессионисты, символисты и все, кто пытался создать и реализовать в своем творчестве новую эстетику, никому до конца не ясную. Но эстетическую теорию Пруста так же, как его художественную практику, нельзя объяснять механическим сочетанием двух «школ» и тем самым лишать его понимания стоявшей перед ним философской и художественной проблемы.
Одним из новшеств Пруста, которое больше всего привлекало внимание критиков, было изображение человека в литературном произведении. Неоднократно говорилось о том, что персонажи «Поисков» настолько не похожи на самих себя, что кажется, будто под одним именем объединены разные люди. Сам Пруст писал: «...характер, который обнаруживается в нас во второй половине нашей жизни, если и часто, то все же не всегда является соответствием нашему прежнему характеру, развивая или заглушая его особенности, подчеркивая или затушевывая их, порою это характер совершенно противоположный, совсем как костюм, вывернутый наизнанку». Потому-то «во второй части книги мои персонажи поступают совершенно иначе, чем в первой, и не так, как можно было бы от них ожидать».
Причины этой постоянной изменчивости характера Пруст находил в том же, в чем и многие его современники. Он также считает, что личность развивается не по строгим законам логики. «Мы строим в уме характер, основываясь только на нескольких штрихах, которые нам удалось подметить и которые должны, как нам кажется, обусловить появление других. Однако такая конструкция весьма условна». Основой, определяющей характер, Пруст считает подсознание, понимая его почти так же, как и Ален-Фурнье. Впечатления бытия все время откладываются в подсознании, смешиваются с другими, видоизменяются. Подсознание и, следовательно, зависящее от него сознание находятся в постоянном движении. Пруст хотел показать, «каким бесконечным взаимопроникновением разнообразнейших восприятий и построений является человеческая личность».
Разнообразны не только воздействия внешнего мира. Каждое чувство тоже нельзя рассматривать как единый поток, оно неуловимо меняется каждый миг. «Ибо мы ошибочно считаем нашу любовь и нашу ревность едиными, непрерывными, неделимыми чувствами. Они состоят из бесчисленных, сменяющих друг друга и разнородных чувств, каждое из которых мимолетно, но общая совокупность которых, благодаря непрерывному их чередованию, создает впечатление сплошности, иллюзию единства».
Рисуя изменения личности в каждый следующий момент ее существования, Пруст хочет изобразить «психологию во времени», которую он противопоставляет «плоскостной психологии». Он называет человека «гигантом во временной протяженности». Это значит, что бесконечность и многообразие сменяющих друг друга аспектов характера должны дать ощущение текущего времени, которое не имеет ни начала, ни конца и никогда не останавливается. Пруст не находит твердой основы личности и поэтому разлагает ее так, что она предстает как чередование мгновенных индивидуальностей. «Лицо человеческое поистине подобно лику божества восточной теогонии, это целая гроздь лиц, расположенных в разных плоскостях и невидимых зараз».
Так, Марсель, вспоминая разные встречи с еще незнакомой ему Альбертиной, замечает, что образы, живущие в его представлении, должны принадлежать и по всей видимости принадлежат одной и той же девушке. Но его сознание противится этому логическому умозаключению. Каждый образ настолько связан с ситуацией, условиями и местом встречи, что каждый раз он видит новое, неизвестное существо. В промежутке между встречами он столько думает об Альбертине, что в его сознании возникает целая вереница придуманных Альбертин, для которых «настоящая» оказывается только первоначальным наброском. «Пруст строит свое произведение, делая из Марселя главного героя, в сознании которого происходит изощренная игра параллельных зеркал. В них до бесконечности и в самых разнообразных поворотах отражаются персонажи «Потерянного времени». Так же обстоит дело и со Сваном: Сван — старый друг родителей Марселя — это не Сван из Жокей-клуба; влюбленный в Одетту Сван не похож на самого себя, ставшего ее мужем, и не имеет ничего общего со Сваном — отцом Жильберты, в которую влюблен Марсель.
Если у неодушевленной природы есть некая сущность, которую в особые моменты человек может постичь, то у людей ее, по-видимому, нет. «Прустом противопоставлена „неподвижность предметов" и подвижность сознания, отношения к предметам и фактам». Душа человека скрыта завесой тьмы, за которую нельзя проникнуть. Кроме того, что человек несет с собой весь свой сложный текучий внутренний мир, в его душе заключен и весь внешний мир — все то, что он видел, слышал, чувствовал на протяжении своей жизни. О глазах Альбертины рассказчик говорит: «Но мы чувствуем, что мерцание этого отражающего диска зависит не только от его физических свойств, что в нем заключены неведомые нам темные тени представлений, которые сложились о людях и о местностях, знакомых этому существу..., а также и тени того дома, куда ей предстояло вернуться, планов, которые она строит или которые другие построили для нее, но главное — сама она с ее желаниями, ее симпатиями, ее предубеждениями, ее смутной и неослабной волей. Я знал, что я не буду обладать этой юной велосипедисткой, если не овладею тем, что заключено в ее глазах. И вот вся ее жизнь внушала мне теперь желание, желание мучительное, ибо я чувствовал его неосуществимость». Страдания любви и ревности в романе связаны именно с невозможной попыткой овладеть ускользающей вселенной, которой оказывается внутренний мир человека. Эта идея очень близка Алену-Фурнье с его путешествием в «страну души», которую другой человек никогда не сможет увидеть всю целиком.
Таким образом, неоднозначность персонажей зависит от собственной противоречивости каждого человека, от обстановки и ситуации и, наконец, от взгляда наблюдателя. Но, несмотря на бесчисленное количество обликов одного персонажа, а может быть, как раз из-за этой множественности, роман Пруста кажется огромным исследованием анонимной человеческой психики, потому что ее законы одинаковы и обязательны для всех.
Композицию «Поисков» сравнивают иногда с симфонией, исполняемой большим оркестром: читатель «слышит» не одну мелодию, а множество, причем каждый инструмент может менять свою партию до неузнаваемости. Только общее музыкальное полотно способно передать всю сложность жизни.
Пруст отказывается от сюжета в привычном понимании этого слова. Его интересует не результат событий, а то, каким образом они протекают. Какой-нибудь второстепенный для сюжетного развития эпизод может занять не один десяток страниц, а о других событиях читатель узнает порой только косвенным путем. Судьба героев — это не канва их внешней жизни, а история их внутреннего мира. «Как и всякий роман, произведение Пруста представляет собой историю нескольких персонажей. Но это не столько изложение их приключений..., сколько история их характеров».
Пропорции реальной жизни искажены, потому что в сознании человека мера событий субъективна. «У эмоциональной жизни свои законы, которые очень отличаются от законов интеллекта. Есть ассоциации, есть память чувств, не похожая на память идей». Мир, о котором пишет рассказчик, — это не объективная реальность с ее законами и ее логикой событий. Автор произвольно выбирает в жизни то, что для него важно. Читатель видит мир не прямо, а в искажающем зеркале авторского восприятия, хотя оно отражает часто вполне вероятные и правдоподобные события.
Поэтому искажен и ход времени. Время в романе не состоит из обычных часов, содержащих шестьдесят минут. «Прустовское время эластично, относительно и не поддается никакому внешнему измерению... Мы делим время в романе не на месяцы и годы, а на смены времен года в душе. А они не поддаются никакому хронологическому анализу».
Роман не поддается и социальному анализу. Пруст видит в своих героях не социально обусловленную личность, а отдельную человеческую особь. Персонажи романа в большинстве своем относятся к обеспеченным классам общества, но это вызвано не интересом автора к интеллектуальной элите, как, например, в «психологическом» романе Бурже. С точки зрения писателя, механизм подсознания одинаков у всех людей, независимо от социальной принадлежности. «Все социальные слои по-своему интересны, — писал он. — Для художника в одинаковой мере заманчиво показать как повадки королевы, так и привычки прачки». «Жизнь постоянно ткет таинственные нити, связывающие людей и события..., она их перекрещивает, ...она их наращивает, чтобы сделать ткань более плотной...». А деление на социальные группы прерывает эти связи. Пруст полагает, что «нация механически складывается из индивидуальностей».
Эстетика Пруста чрезвычайно типична для его эпохи. Понятие непрерывно эволюционирующей личности, понятие времени, интеллекта и его роли в познании искусства как единственного средства постижения мира в его непостижимых глубинах — все это можно найти в толпе философов, эстетиков, художников, композиторов и писателей. Но, вступив на этот путь, он пошел дальше многих своих современников.
Когда вышел в свет первый том романа «В поисках утраченного времени», то новое, что в нем было, показалось слишком неожиданным и непривычным и не было принято всерьез. С началом Первой мировой войны перед французской литературой возникли совсем другие проблемы. Поэтому, когда в 20-е годы имя Пруста получило широкую известность, появилась тенденция видеть в нем единственного основателя литературы нового типа, определившего развитие искусства едва ли не на полстолетия вперед. Но нельзя забывать, что эстетика писателя складывалась на рубеже двух веков. Если поместить его в эту среду, его роль во французской литературе хотя и не становится менее важной, но должна, быть рассмотрена под другим углом зрения.
Многие исследователи говорят о влиянии Пруста на литературу последних десятилетий. Может быть, нельзя проводить прямую линию от нового романа непосредственно к Прусту. Но многие положения современного модернизма действительно берут начало в эстетике, которая формировалась на рубеже XIX и XX веков.
Л-ра: Владимирова А. И. Проблема художественного познания на рубеже двух веков. – Ленинград, 1976. – С. 80-94.
Произведения
Критика