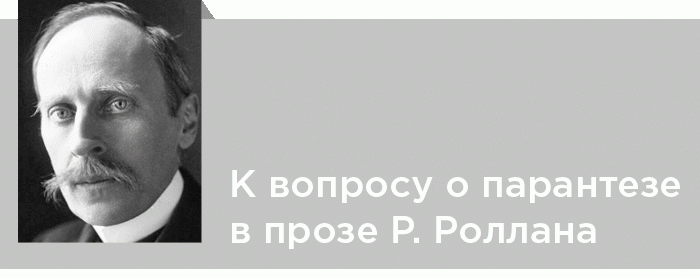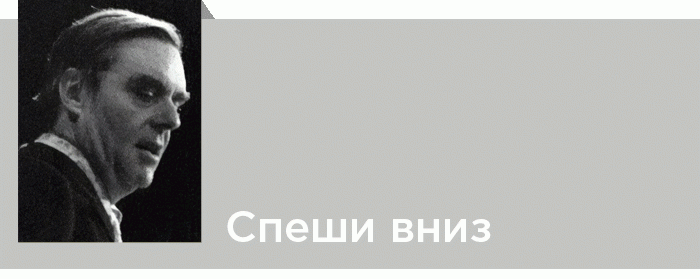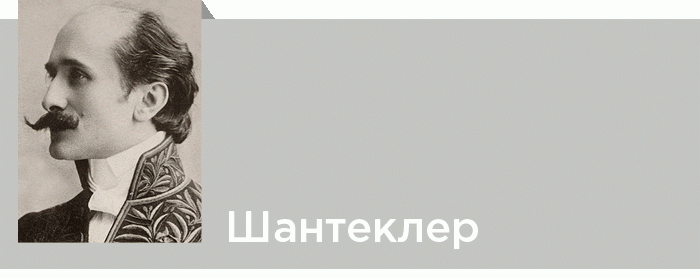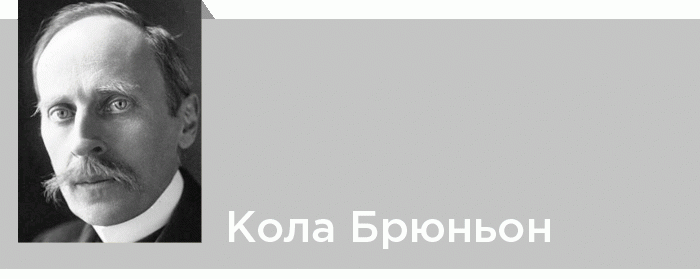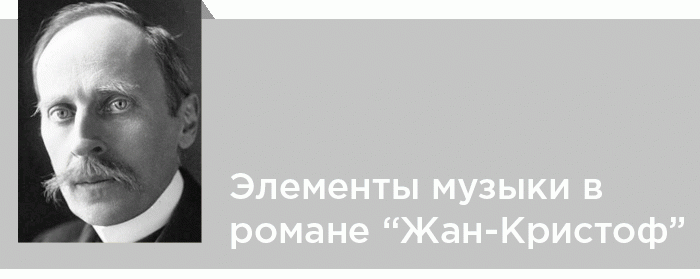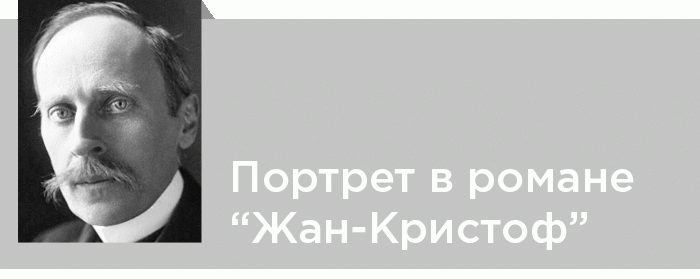Ромен Роллан. Очарованная душа

(Отрывок)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Она сидела у окна, спиной к свету, и лучи заходящего солнца падали на ее плечи, на сильную шею. Она только что пришла. Впервые за много месяцев Аннета весь день пробыла на воздухе, бродила, упивалась вешним солнцем. Солнце, не разбавленное тенью безлистых деревьев, пьянило, как вино, и согревало воздух, еще прохладный, хоть зима и была на исходе. В голове шумело, сердце колотилось, и свет потоком заливал глаза. Багрец и золото под сомкнутыми веками. Золото и багрец во всем теле. Она притихла, замерла в кресле – на миг впала в забытье.
В чаще леса – пруд; на нем блик солнца, будто глаз. Кольцом стоят деревья, в мох укутаны стволы. Захотелось окунуться. Она разделась. Ледяная рука воды тронула ее ноги, колени. Приятное оцепенение. Вот она в багряно-золотом пруду разглядывает свое тело... Смутное, неуловимое чувство стыда, словно кто-то увидел ее, подстерег. Скорее спрятаться, – и она заходит в воду все глубже, до самого подбородка. Вода змеится вокруг; это словно живые тиски; мясистые лианы обвивают ноги. Аннета пробует выпутаться и вязнет в тине. На поверхности дремлет солнечный блик.
Она раздраженно отталкивается пятками от дна и выплывает. Вода побурела, потускнела, помутнела. А на ее блестящей чешуе по-прежнему солнце... Аннета цепляется за лапу ивы, склонившейся над прудом, – только бы выбраться из вязкой грязи. Мохнатая ветвь крылом прикрывает нагие плечи, бедра. Смеркается, и ветерок холодит шею...
Она приходит в себя. Всего лишь несколько секунд назад она впала в забытье. Солнце прячется за холмы Сен-Клу. Прохладно по-вечернему.
Аннета совсем очнулась, вскочила, ее чуточку знобит, и она досадливо хмурит брови: рассержена, что позволила себе забыться; и вот она усаживается перед горящим камином у себя в комнате. Уютно горит огонь, который развели, чтобы полюбоваться им, рассеять тоску, а не ради тепла; стояла ранняя весна, и в комнату вливался мягкий воздух, а вместе с ним – певучая и сонная болтовня птиц, вернувшихся из далеких стран. Аннета размышляет. Но сейчас ее глаза открыты. Она вступила в свой привычный мир. Она в своем собственном доме. Она – Аннета Ривьер. Она склонилась к огню, бросающему алые отсветы на ее молодое лицо, поглаживает ногой черную кошку, греющую грудку у золотистых головней, и снова оживает ее печаль, от которой она ненадолго отрешилась; она вспоминает черты (исчезнувшие было из ее сердца) того, кого она потеряла. Она в глубоком трауре; скорбные морщинки еще видны на лбу, в уголках губ, и веки чуть припухли от недавних слез, но когда эта сильная, свежая девушка, налитая соками жизни, как сама обновленная природа, не красавица, зато хорошо сложенная, с густой копной белокурых волос и золотистым загаром на шее, девушка, в каждом взгляде, в лице которой – прелесть юности, пытается накинуть на глаза, посмевшие отвлечься, и на округлые плечи развеявшееся покрывало скорби, она напоминает молоденькую вдовушку, увидевшую, что от нее убегает тень любимого.
Аннета и правда в сердце своем была вдовой, но тот, чью тень пытались удержать ее руки, был ее отцом.
Она потеряла его полгода назад. Поздней осенью Рауля Ривьера, человека нестарого (ему не было и пятидесяти), в два дня унес приступ уремии.
Он уже несколько лет возился со здоровьем, которое прежде не берег, однако не ждал, что так внезапно сойдет со сцены. Ривьер, парижский архитектор, бывший питомец Римской академии художеств, красавец мужчина, хитрый и обуреваемый страстями, на редкость могучими, пользовавшийся успехом в салонах, захваленный в деловых кругах, всю жизнь загребал заказы, почести и всяческие блага, не подавая вида, что их домогается. Лицо типичного парижанина, примелькавшееся на фотографиях, прейскурантах и карикатурах, широкий выпуклый лоб, голова, чуть наклоненная вперед, как у быка, готового забодать, глаза круглые, навыкате, дерзкий взгляд, пышные светлые волосы, подстриженные бобриком, усы над смеющимся чувственным ртом; во всем облике – ум, дерзость, обаяние и бесстыдство. Его знал весь Париж-Париж искусства и наслаждений. И не знал никто. Он был человеком двуликим, прекрасно применялся к обществу, извлекал из него выгоду, но свою личную жизнь от всех утаивал. Он был человеком ненасытных страстей, всесильных пороков, которые сам в себе взращивал, стараясь, однако, не обнаруживать ничего такого, что отпугнуло бы заказчиков, – пускал в храм своей души (fas ас nefas) лишь избранных, не считался ее светскими вкусами и моралью, сообразуя, однако, с ними образ своей жизни и официальное положение. Никто его не знал – ни друзья, ни враги... Враги? Да их у него и не было. Завистники – пожалуй, но он сметал их с пути; впрочем, они не таили зла на него: он опрокидывал их, а потом с таким искусством льстил им, что они улыбались ему и чуть что не извинялись, как те робкие людишки, которые улыбаются вам, когда вы наступаете им на ногу. Его ловкость и хитрость одерживали верх – они помогали ему сохранить хорошие отношения и с конкурентами, которых он вытеснял, и с женщинами, которых бросал.
Не так удачлив был он в семейной жизни. Жена оказалась до того бестактна, что страдала от его неверности, – он считал, что за четверть века супружеской жизни пора было бы ей привыкнуть, а она все не смирялась.
Г-жа Ривьер, замкнутая, правдивая, держалась чуть надменно, и это было в стиле ее красоты – красоты лионки; чувства ее были сильны, но не бурны, и не ей было удержать его; к тому же ей недоставало счастливого таланта – такого удобного – закрывать глаза на то, чему ты не в силах помешать.
Чувство собственного достоинства не позволяло ей жаловаться, однако она не скрывала, что все знает, что мучается. Он был мягкосердечен (во всяком случае, таким он себя считал), и ему не хотелось думать обо всем этом, но его раздражало, что она не преодолевает своего эгоизма. Годами жили они, как чужие, но по молчаливому согласию скрывали это от окружающих, и даже их дочь, Аннета, никогда не отдавала себе отчета в отношениях родителей. Она и не старалась вникать в их разногласия, это было ей неприятно. В юности у людей много своих забот. Им не до чужих дел...
Рауль Ривьер привлек дочь на свою сторону – в этом проявилась вся его изворотливость. Разумеется, он ничего для этого не предпринимал – победило искусство. Ни слова упрека, ни намека на не правоту г-жи Ривьер. Он вел себя по-рыцарски: пусть дочь сама разбирается. Она так и сделала: ведь на нее тоже действовало обаяние отца. И как не обвинять ту, которая, став его женой, по неразумию сама испортила себе жизнь! В неравной борьбе бедная г-жа Ривьер была обречена заранее. Она сама себе нанесла поражение: умерла первая. Рауль стал единственным владетелем поместья и сердца дочери. Пять последних лет Аннета жила под нравственным влиянием обожаемого отца, который баловал ее и, не помышляя о том, что творит, расточал ей все свое обаяние. Он был так щедр оттого, что ему не на кого было тратиться: два года он почти не выходил из дому – удерживали предвестники болезни, которой суждено было его унести.
Итак, ничто не нарушало той душевной близости, которая соединяла отца и дочь и заполняла сердце Аннеты, ее дремлющее сердце. Ей шел двадцать четвертый год, но сердце ее, казалось, было моложе: оно не спешило. А может быть, как все те, перед кем раскинулось долгое будущее, она, чувствуя, что в ней бурлят еще скрытые силы жизни, копила их и пока не придавала им значения.
Она была похожа и на отца и на мать: от него унаследовала черты лица и обольстительную улыбку, которая у него обещала больше, чем он думал дать, а у нее, такой чистой, обещала гораздо больше, чем она хотела; от матери – внешнее спокойствие, уравновешенность, строгую нравственность, несмотря на вольнодумие. Особую прелесть придавали ей обаяние отца и сдержанность матери. Нельзя было понять, какой же характер в ней преобладает. Ее истинная натура еще была загадкой и для других и для нее самой. Никто не догадывался о ее сокровенном внутреннем мире. То была Ева, дремлющая в саду. В ее душе теснились какие-то желания, неясные ей самой. Ничто их не пробуждало, потому что не было толчка. Казалось, стоит ей протянуть руку, и она сорвет их. Но она и не пыталась, усыпленная их ласковым рокотом. Пожалуй, и не хотела пытаться... Кто знает, до каких пределов доходит самообман? Стараешься не обнаруживать в себе то, что тревожит... Она предпочитала не ведать о море своей души. У Аннеты, которую все знали, Аннеты, которая знала себя, премилой девушки, очень уравновешенной, рассудительной, аккуратной, сдержанной, с сильной волей, со своим собственным суждением обо всем, не было случая проявить свой характер, пойти наперекор правилам, установленным светом или семьей.
Аннета не пренебрегала светскими обязанностями, развлечения, до которых она была большая охотница, ей не надоедали, но она ощущала потребность в занятиях более серьезных. Она прилежно училась, посещала лекции, изучала естественные науки, сдавала экзамены, добиваясь ученой степени.
Ее живой ум жаждал знаний, она любила точные исследования, особенно в естествознании, к которому имела большие способности, – может быть, потому, что ее здоровая натура, инстинктивно стремясь к равновесию, испытывала потребность противопоставить строгую, научную методичность и логическое мышление беспокойной прелести той внутренней жизни, которую она боялась всколыхнуть и которая, помимо ее воли, стучалась у дверей, когда бездействовал ум. В ее жизни все было ясно, точно, систематично, и пока это ее вполне удовлетворяло. Не хотелось размышлять о том, что ждет впереди. Замужество совсем не привлекало ее. И она не желала о нем думать.
Отец посмеивался над ее предубеждениями, но оспаривать их не собирался: так ему было удобнее.
Уход из жизни Рауля Ривьера потряс до основания все стройное сооружение, в котором он был главной опорой, хотя Аннета этого и не понимала.
Она знала смерть в лицо. Узнала пять лет тому назад, когда ее покинула мать. Но черты лица смерти не всегда одинаковы. Г-жа Ривьер, несколько месяцев пролежавшая в больнице, ушла молча, как и жила, сохранив тайну предсмертного страха, как хранила она тайну своих горестей, и в юной душе Аннеты, правдивой и эгоистичной, вместе с тихой печалью, похожей на первый весенний дождик, осталось чувство облегчения, в котором не признаешься себе, и мимолетные угрызения совести, которые очень скоро были по молодости лет беспечно забыты.
Иначе умирал Рауль Ривьер. Он был застигнут врасплох, когда упивался счастьем, когда воображал, что наслаждаться им будет еще долго, и отнюдь не философски ушел из жизни. Он принял смерть и муки с криками возмущения. В ужасе боролся он до последнего вздоха, задыхаясь, как измыленная лошадь, во весь опор берущая подъем. Страшные эти картины отпечатались, словно на воске, в разгоряченном воображении Аннеты. По ночам ее преследовали видения. Она лежала в темноте у себя в комнате и, задремав или вдруг проснувшись, с такой яркостью снова видела предсмертные муки и лицо умирающего, что сама воплощалась в него: ее глаза становились его глазами; ее дыхание – его дыханием; она уже не могла различить их; глаза ее отвечали призыву тускнеющего взгляда. Она сама чуть было не погибла.
Но молодость так сильна и гибка! Пусть до предела натянута тетива – тем дальше отлетит стрела жизни. Ослепительно яркие, безумные образы померкли оттого, что слишком были ярки, и мрак заволок память. Черты лица, голос, светлый облик того, кто исчез, – все исчезло; Аннета до изнеможения пыталась удержать в душе его тень, но уже не видела ее. Ничего не видела, кроме себя самой. Одной себя... Одинокой. Ева в раю пробуждалась без спутника, без того, к кому так привыкла, чей образ не старалась определить, но о ком думала, сама того не ведая, с какой-то влюбленностью. И вдруг рай утратил безопасность. В него прокрались беспокойные дуновения извне: и дыхание смерти, и дыхание жизни. Аннета открыла глаза и, как первобытные люди в ночи, с тревогой почувствовала, что ее со всех сторон подстерегают неведомые опасности, что с ними предстоит борьба. Все дремавшие в ней силы вдруг собрались воедино, построились, насторожились.
Одинокая ее душа полнилась какими-то страстными порывами.
Равновесие нарушилось. Ученье и занятия стали ей совсем не нужны. Казалось нелепым, что прежде она отводила им такое большое место. Другая же область жизни – та, которую опустошило горе, – представала перед ней во всей своей неизмеримой шири. Удар всколыхнул все чувства: вокруг раны, нанесенной смертью любимого спутника жизни, – тайные, неведомые силы любви; их притягивала образовавшаяся пустота, и они устремлялись туда из глубин ее существа. Она же, удивленная этим вторжением, пыталась дать ему иное объяснение; упрямо старалась она сосредоточить все эти силы вокруг того, кого оплакивала, – все эти силы, все эти жгучие, ненасытные вожделения Природы, вешние влажные дуновения которой омывали ее, и смутное, властное сожаление о счастии – утраченном, а не желанном ли? – и руки, простертые в небытие, и замирающее сердце, которое тянулось к прошедшему – а не к будущему ли? Кончилось тем, что скорбь ее стала таять в непостижимом смятении чувств: в печали, в желаниях, в безотчетном томлении – все это и снедало ее и возмущало...
В тот вечер, на исходе апреля, возмущение вдруг овладело ею. Ее светлый ум восстал против неясных грез, которые он оставлял без контроля несколько слишком долгих месяцев и опасность которых предвидел. Он хотел отогнать их, но это было не так-то просто: его не слушались, он отвык управлять... Аннета бежала от взгляда огня, пылавшего в камине, от коварного нападения ночи, уже спустившейся на землю; она встала, зябко повела плечами и, накинув отцовский халат, зажгла свет.
Тут был кабинет Рауля Ривьера. Из отворенного окна сквозь молодую реденькую листву деревьев, во мраке виднелась Сена, а в ее темных и будто неподвижных водах отражались дома, окна которых светились на том берегу, да блики зари, угасавшей над холмами Сен-Клу. Рауль Ривьер, который обладал изысканным вкусом, хотя и остерегался растрачивать его ради пошлого шаблона или смехотворных причуд своих богатых заказчиков, купил в предместье Парижа на Булонской набережной приглянувшийся ему старинный особняк в стиле Людовика XVI – и не перестроил. Ограничился тем, что сделал его комфортабельным. Деловой кабинет должен был служить и для дел любовных. И, судя по всему, это свое назначение он выполнял. Не одну милую просительницу принимал здесь Ривьер, но об этом никто и не подозревал, ибо в комнате был отдельный выход – прямо в сад. Однако уже два года он им не пользовался; единственной его посетительницей была Аннета.
Здесь и вели они самые задушевные разговоры. Аннета прохаживалась по комнате, наводила порядок, наполняла водой вазы с цветами, двигалась неугомонно, а потом вдруг застывала с книгой в руках, примостившись в любимом уголке, на диване, и молча смотрела на муаровую ленту реки или, не прерывая рассеянного чтения, рассеянно болтала с отцом. А он, ее беспечный и утомленный отец, сидел тут же и, не поворачивая головы, украдкой следил насмешливыми своими глазами за каждым движением Аннеты; этот старый балованный ребенок привык к общему поклонению, а потому поддразнивал дочь, острил, засыпал ласковыми, шутливыми, требовательными, тревожными вопросами, только ради того, чтобы сосредоточить помыслы Аннеты на себе и увериться, что она действительно слушает его. И в конце концов она, покоренная и обрадованная тем, что отец не может обойтись без нее, бросала все и занималась только им. Тогда он успокаивался и, завоевав внимание дочери, делился с ней своими тайнами, перебирал воспоминания, приносил ей в дар все богатства своего блестящего ума во всем его разнообразии. Понятно, он старался выбирать самые лестные для себя случаи и преподносил их ad usum Delphini <Здесь: в смягченном виде (лат.).> своей дофине, до тонкости понимая и ее затаенное любопытство и непреодолимую брезгливость: он ей рассказывал лишь то, о чем она хотела бы послушать. Аннета не пропускала ни слова и гордилась его доверием. Ей приятно было думать, что отец рассказывает ей гораздо больше, чем рассказывал матери. Воображала, что она единственная хранительница тайн его личной жизни.
Но после смерти отца у нее на хранении оказалось еще кое-что – все его бумаги. Аннета и не пыталась разобраться в них. Они не принадлежали ей – так внушала ей почтительная любовь. Другое чувство подсказывало: надо поступить иначе. Во всяком случае, надо было решить их участь: Аннета, единственная наследница, тоже могла исчезнуть – нельзя, чтобы семейные бумаги попали в чужие руки. Значит, надо поскорее их просмотреть, тогда и будет ясно, уничтожать их или хранить. Так решила Аннета уже несколько дней тому назад. Но, когда по вечерам она входила в комнату, где все говорило о присутствии дорогого отца, у нее доставало мужества лишь на одно: часами сидеть, там, не шелохнувшись. Она боялась, что, читая письма из прошлого, вплотную соприкоснется с действительностью...
И все же это было необходимо. В тот вечер она решилась. Она с тревогой чувствовала, как нынешней, такою теплой ночью, в неге, разлитой вокруг, тает ее печаль, и ей захотелось утвердить свое право на умершего.
Она подошла к шкафчику из розового дерева, скорее предназначенному для кокетки, чем для дельца, – в этом шкафчике времен Людовика XV, в ящиках, которые возвышались этажами в семь-восемь рядов и превращали его в очаровательный миниатюрный домик, предвосхитивший форму американских небоскребов, и хранил Ривьер груды писем и свои бумаги. Аннета опустилась на колени, выдвинула нижний ящик; она совсем вынула его из шкафа, чтобы получше разглядеть все, что в нем было, и, снова усевшись у камина, поставила ящик на колени и наклонилась над ним. В доме ни звука. Она жила вместе со старой теткой, которая вела хозяйство и в счет не шла: тетя Викторина, личность неприметная, сестра отца, всю жизнь прожила в заботах о нем и находила это вполне естественным, теперь же она заботилась об Аннете, по-прежнему играла роль домоправительницы и, как старые кошки, прижившиеся к дому, стала в конце концов частью обстановки, к которой была привязана, конечно, не меньше, чем к своей родне. Спозаранку она удалялась к себе в комнату; ее пребывание где-то наверху и мерное шарканье ее войлочных туфель не нарушали раздумий Аннеты – так в доме не замечаешь кошки.
Аннета стала читать с любопытством и некоторой тревогой. Но любовь к порядку и стремление к покою, требовавшие, чтобы и в ней и вокруг нее все было ясно, четко, заставляли ее брать и разворачивать письма не спеша, спокойно и хладнокровно, и это, хотя бы некоторое время, поддерживало в ней самообман.
Сначала она прочитала письма от матери. Грустный их тон сразу же воскресил в ее памяти давнишнее чувство, не всегда доброжелательное, иногда чуть раздраженное, с примесью жалости, вызванное тем, что она считала, с присущей ей рассудительностью, привычным нытьем безусловно больного человека: «Бедная мама!..» Но мало-помалу, вчитываясь, она впервые заметила, что для такого душевного состояния у матери были причины. Аннету встревожили некоторые намеки на неверность Рауля. Она слишком пристрастно относилась к отцу и пропустила их, прикидываясь, будто ничего не поняла. Благоговейная любовь к отцу вооружила ее превосходными доказательствами для отвода глаз. Однако она видела, какая глубокая душа была у г-жи Ривьер, как оскорблена была ее любовь, и укоряла себя, что совсем не знала свою мать, что сделала еще тягостнее ее жизнь, полную самопожертвования.
В том же ящике, рядышком, лежали еще пачки писем (иные развязались и перемешались с письмами матери) – Рауль по своему легкомыслию хранил их вместе – так он сочетал свою сложную семейную жизнь и переписку с женщинами.
И тут спокойствие, которое Аннета внушала себе, подверглось тяжкому испытанию. Со всех этих листков раздавались голоса, совсем по-иному говорившие о близости, уверенные в своей власти, – не то что голос бедной г-жи Ривьер; они утверждали, что имеют права владеть Раулем. Аннета была возмущена. Она поддалась первому побуждению, скомкала письма и швырнула в горящий камин. Но тотчас же выхватила.
Растерянно смотрела она на листки, уже изгрызенные пламенем, из которого она вовремя их вытащила. Да, были у нее основания не вмешиваться в прошлые нелады между родителями, а еще больше было у нее оснований не узнавать о любовных связях отца. Но сейчас эти основания уже не играли роли. Она почувствовала личное оскорбление. Она сама не знала, по какому праву, отчего, почему. Она сидела неподвижно, поникнув, морща нос, нагнув голову, сжав губы от досады, и, напоминая разъяренную кошку, дрожала от желания швырнуть в огонь гнусные бумажонки, которые комкала в кулаке.
Но вот рука разжалась, и Аннета, поддавшись искушению, посмотрела на них. И вдруг решилась – раскрыла ладонь, расправила письма, тщательно разгладила пальцем смятые листки... И прочла – прочла все.
С омерзением (но в то же время словно завороженная) следила она, как мелькают перед ней любовные связи отца, о которых она и понятия не имела. Пестрые, причудливые вереницы. Свои вкусы и в любви и в искусстве Рауль «менял, как перчатки». Аннета узнавала имена дам из своего круга и с неприязнью вспоминала, как ей когда-то улыбалась, как ласкала ее какая-нибудь избранница отца. Другие стояли не на такой высокой ступени общественной лестницы, их орфография была не менее вольна, чем чувства, которые они изливали. Аннета еще крепче сжала губы, но ее умственный взор, острый и насмешливый, как умственный взор отца, видел всех этих потешных особ с кудряшками на лбу; видел, как, высунув кончик языка, склонившись над бумагой, впопыхах строчили они послание. Все эти романы – одни подлиннее, другие покороче, а в общем – все недолгие – тянулись чередой, сменяя и вытесняя друг друга. Аннета была благодарна им за это, но оскорблена и полна презрения.
Открытия не кончились. Еще одна связка писем – они были сложены отдельно, в другом ящике, и перевязаны тщательнее, чем другие (тщательнее, чем письма матери) – говорила о более продолжительной связи. Даты были помечены небрежно, но сразу было видно, что переписка велась долгие годы. Письма были написаны двумя почерками: те письма, что пестрели ошибками, со строчками, бежавшими вкривь и вкось, прерывались на половине связки; другие же сначала выводила детская рука с помощью взрослого, потом почерк укрепился; переписка шла все последние годы, больше того (и это было особенно тяжко Аннете), – последние месяцы жизни ее отца. И эта корреспондентка, кравшая у нее часы священной для нее поры, право на которую, как она воображала, имела только она одна, – эта самозванка вдвойне самозванка, называла в письмах ее отца – «отцом»!..
Аннете стало нестерпимо больно. Гневным жестом она сбросила с плеч халат отца. Письма выпали из рук; она откинулась на спинку кресла и сидела без слез, с пылающими щеками. Она не анализировала своих чувств.
Она была в таком смятении, что не могла рассуждать. И все же в этом смятении она думала об одном: "Он обманул меня!..".
Она снова взяла эти проклятые письма и уже не выпускала до тех пор, пока не впитала в себя все, до последней строчки. Она читала, и ноздри ее раздувались, а рот был сомкнут: ее сжигал скрытый огонь ревности, и еще какое-то темное чувство зарождалось в ней. Ни разу не подумала она, что, проникая в святая святых этой переписки, овладевая тайнами отца, она поступает против совести. Ни разу не усомнилась в своем праве... (В своем праве! Голос рассудка умолк. Говорила совсем другая сила – деспотическая!) Наоборот, она считала, что затронуты ее права – да, ее права затронуты отцом!
И все же она овладела собой. На миг она словно мельком увидела, как несообразна ее требовательность. Пожала плечами. Какие права были у нее на отца? Разве он был ей что-то должен? Властно говорили чувства: «Да».
Бесполезно спорить! Аннета поддалась нелепо досаде, мучилась от уколов ревности и в то же время испытывала горькую радость от натиска жестоких сил, которые, впервые в жизни, острыми иглами вонзались в ее тело.
Часть ночи прошла за чтением. И когда, наконец, она решила лечь, под ее смежившимися веками еще долго мелькали строчки и слова, от которых она вздрагивала, пока крепкий сон молодости не одолел ее; она лежала теперь неподвижно, глубоко дыша, успокоенная, облегченная той растратой сил, которая свершилась в ней.
На другое утро Аннета все перечитала, она и в следующие дни не раз перечитывала письма, – только они и занимали ее мысли. Теперь мало-помалу она могла представить себе эту жизнь-вторую жизнь, которая шла параллельно ее жизни: мать-цветочница, Рауль снабдил ее деньгами, чтобы она открыла магазин; дочь-модистка или портниха (точных сведений не было).
Одна звалась Дельфиной, а другая (молодая) Сильвией. Судя по фантастически небрежному стилю, в непосредственности которого была своя прелесть, они походили друг на друга. Дельфина, вероятно, была премилая женщина, и хоть она прибегала к некоторым уловкам, которые то тут, то там проскальзывали в письмах, но не очень донимала Ривьера своими требованиями. Ни мать, ни дочь не воспринимали жизнь трагически. Впрочем, они были уверены, что Рауль любит их. Вероятно, это и было лучшим средством сохранить его любовь. Дерзкая их уверенность оскорбляла Аннету не меньше, чем то, с какой удивительной бесцеремонностью они обращались к ее отцу.
Сильвия особенно занимала ее ревнивое внимание. Другой не было в живых, и Аннета из гордости притворялась, будто ее ничуть не трогает близость Дельфины и ее отца; она уже забыла, как была оскорблена еще несколько дней назад, когда узнала о всех его привязанностях. Теперь, когда она вступила в борьбу с привязанностью более глубокой, всякие другие соперники ее не пугали. Напрягая мысль, Аннета старалась представить себе образ незнакомки: ведь она, хоть Аннета и презирала ее, была ей лишь наполовину чужой. Веселая бесцеремонность, спокойное «ты» в письмах, – чувствовалось, что Сильвия распоряжается ее отцом, будто он ее безраздельная собственность, – все это возмущало Аннету, она старалась пристально рассмотреть несносную незнакомку, чтобы ее уничтожить. Но самозванка избегала ее взгляда. Она будто говорила:
«Он – мой, во мне течет его кровь».
И чем сильнее негодовала Аннета, тем крепче утверждалась в ней эта близость. Она слишком долго противодействовала и мало-помалу привыкла к борьбе и даже к своей противнице. Кончилось тем, что она больше не могла обходиться без нее. Утром, просыпаясь, она тотчас же начинала думать о Сильвии, и теперь лукавый голосок соперницы твердил:
«Во мне течет твоя кровь».
И она так отчетливо слышала ее, так живо привиделась ей как-то ночью незнакомая сестра, что Аннета в полусне протянула руки, чтобы обнять ее.
На другой день Аннету, рассерженную и сопротивлявшуюся, но побежденную, охватило неотступное желание увидеть сестру. И она отправилась на поиски Сильвии.
Адрес был в письмах. Аннета пошла на бульвар Мэн. Миновал полдень.
Оказалось, что Сильвия в мастерской. Аннета не решилась пойти туда. Она выждала еще несколько дней и снова отправилась к Сильвии после обеда, под вечер. Сильвия еще не вернулась домой, а может быть, снова вышла, никто точно не знал. Каждый раз нервное нетерпение целый день держало Аннету в напряжении, в ожидании; она возвращалась разочарованная, и малодушие втайне подсказывало ей, что лучше отказаться. Но она была из тех людей, которые никогда не отказываются от принятого решения, не отказываются, как бы упорно ни было сопротивление и как бы ни страшились они того, что может случиться.
И она снова пошла как-то на исходе мая, около девяти вечера. На этот раз сказали, что Сильвия дома. Шестой этаж. Она поднялась одним духом – не хотела, чтобы осталось время на раздумье, чтобы можно было чем-то оправдать свое отступление. У нее захватило дыхание. Она остановилась на площадке. Она не знала, что ждет ее.
Длинный общий коридор, без ковра, вымощен плитами. Справа и слева две полуотворенные двери: жильцы громко переговаривались. На красных плитах рдели лучи заходящего солнца – они падали из двери налево. За нею и жила Сильвия.
Аннета постучалась. Не прерывая болтовни, ей крикнули: «Войдите!» Она толкнула дверь: отблеск" золотистого заката ударили ей в лицо. Она увидела – полураздетая девушка, в юбке, с голыми пухлыми плечами и босыми ногами в розовых стоптанных шлепанцах ходит по комнате, повернувшись к ней гибкой спиной. Она что-то искала на туалетном столике и болтала сама с собой, припудривая пуховкой нос.
– Ну! В чем дело? – спросила она сюсюкая, потому что рот у нее был полон шпилек.
И тут же ее отвлекла ветка сирени в кувшине с водой: она уткнулась носом в цветы и замурлыкала от удовольствия. Подняла голову, взглянула смеющимися глазами в зеркало и увидела Аннету, – озаренная солнечными лучами, та нерешительно остановилась позади нее на пороге. Сильвия ахнула, повернулась к ней, и, закинув голые руки, проворно заколола шпильками растрепанные волосы, потом подошла, протягивая объятия, но вдруг отдернула руки и любезным, гостеприимным жестом, но сдержанно, пригласила Аннету войти. Аннета вошла; она пыталась что-то сказать, но не могла выговорить ни слова. Сильвия тоже молчала. Предложила стул, накинула поношенный халат в голубую полоску и села напротив, на кровать. Обе смотрели друг на друга и выжидали – кто начнет...
Как они были различны! Они изучали друг друга проницательным, оценивающим взглядом, без снисхождения, стараясь узнать, выпытать: «Какая же ты?»
Перед Сильвией стояла Аннета – высокая, свежая, широколицая, чуточку вздернутый нос, крутой лоб телки под копной вьющихся каштановых волос с золотистым отливом, густые брови; широко раскрытые голубые глаза были чуть навыкате и иногда как-то странно темнели от сердечного волнения; рот большой, губы выразительные, со светлым пушком в уголках, обычно сомкнуты, и в их выражении – что-то готовое к отпору, сдержанное, решительное, но какая же всепобеждающая, застенчивая и светлая улыбка преображает все лицо, когда они раскрываются; подбородок и щеки полные, но не толстые, словно литые, шея, плечи, руки – цвета густого меда; прекрасная упругая кожа, омываемая здоровой кровью. Немного тяжеловата талия, чуть грузен торс, а груди – широкие, пышные; опытный взгляд Сильвии, ощупывая их под тканью, задержался на гармоничной линии прекрасных плеч и шеи, на этой золотистой, округлой колонне, на самой совершенной линии тела Аннеты. Она умела одеваться, костюм был тщательно продуман, – по мнению Сильвии, чересчур уж тщательно; волосы аккуратно заложены, ни одного завитка не выбивается, ни одной лишней прядки. И Сильвия спрашивала себя:
«А нутро у нее такое же?»
Перед Аннетой стояла Сильвия – почти одного роста с ней (да, пожалуй, не ниже), но тоненькая, с узкой талией, с маленькой, не по фигуре, головкой, в халате, накинутом на полуголое тело, с небольшой грудью, но все-таки пухлая и плечи у нее полные, а бедра узкие, и сидит она, чуть покачиваясь, сложив руки на округлых коленях. Подбородок и лоб у нее тоже округлые, носик вздернутый, волосы светло-каштановые, очень тонкие и растут низко на висках, на щеках кудряшки, а на затылке и на белой, очень белой и изящной шее непослушные завитки. Комнатное растение. Профили у нее были асимметричные: правый томный, сентиментальный – кошечка спит; левый хитрый, настороженный – кошечка кусается. Разговаривая, она вздергивала верхнюю губку, так что обнажались острые клычки. И Аннета подумала: «Худо будет, если она вцепится!»
Как они были различны! И все же обе с первого взгляда узнали друг в друге отца – его взгляд, светлые глаза, его лоб, складка в уголках рта...
Аннета, оробевшая, напряженная, овладела собой и произнесла свою фамилию холодным от волнения тоном, Сильвия, не прерывая ее, не сводила с нее глаз, а потом преспокойно сказала, вздергивая губку в недоброй улыбке:
– Я и так это знала.
Аннета вздрогнула.
– Каким образом?
– Видела вас – и часто-с отцом...
Она запнулась перед последним словом. Может быть, из злорадного чувства ей и хотелось сказать: «С моим отцом». Но она этого не сказала из насмешливого сострадания к Аннете, читавшей по ее губам. Аннета все поняла, отвела глаза, вспыхнула от унижения.
Сильвия ничего не упустила из виду: она смаковала ее смущение. Она продолжала говорить с важностью, не спеша. Рассказала, что на похоронах была в церкви, забилась в уголок и все видела. Она вела рассказ певучим голоском, произнося слова чуть в нос и не обнаруживая никакого волнения.
Но если она умела видеть, то Аннета умела слышать. И когда Сильвия кончила, Аннета подняла глаза и спросила:
– Вы очень любили его? Ласково посмотрели друг на друга сестры, но это был лишь миг. Тень ревности скользнула в глазах Аннеты, и она продолжала:
– Он очень любил вас.
Ей искренне хотелось доставить Сильвии удовольствие, но в голосе, помимо воли, прозвучала досада. А Сильвии показалось, что она уловила покровительственную интонацию. Ее лапки выпустили коготки, и она сказала с живостью.
– О да: он меня очень любил! Помолчала, а затем со снисходительным видом выпалила:
– Вас он тоже очень любил! Он часто говорил мне об этом.
Руки Аннеты сильные, большие и нервные руки, дрогнули, пальцы сжались. Сильвия смотрела на них. Чувствуя, как подступает к горлу комок, Аннета спросила:
– Он часто говорил с вами обо мне?
– Да, часто, – подтвердила Сильвия с невинным видом.
Вероятно, это была не правда. Но Аннета не знала, что такое лицемерие, и верила людям; вот почему слова Сильвии ранили ее в самое сердце...
Итак, отец говорил с Сильвией о ней, они говорили о ней вместе! Она же до самого последнего дня ничего не знала, была так уверена, что он доверяет ей, а он обманул, он все утаивал от нее; она даже не знала о существовании сестры! Непостоянство, несправедливость подавили ее. Она почувствовала, что побеждена. Но показывать это ей не хотелось; она поискала оружие, нашла его и сказала:
– Вы очень редко видели его за последние годы.
– За последние годы – да, – поневоле уступила Сильвия. – Разумеется.
Он же болел. Его взаперти держали.
Наступило враждебное молчание. Обе улыбались, обе сдерживали досаду.
Аннета – суровая и надменная, Сильвия – двуличная, ласковая, жеманная.
Они считали очки, прежде чем продолжать игру. Аннету утешало, что она все же получила преимущество – хоть и незначительное, но в глубине души ей было стыдно за свои дурные мысли, и она постаралась повести разговор более сердечным тоном. Она сказала, что ей хотелось бы сблизиться с той, в ком возродилась «частица» отца. Но, помимо своей воли, она установила различие между ними, подчеркнула, что она – в привилегированном положении. Рассказала Сильвии о последних годах Рауля и не могла удержаться – дала ей понять, что была ближе отцу. Сильвия воспользовалась паузой и удружила Аннете – вспомнила, как был к ней привязан отец. И одна невольно завидовала роли другой и старалась похвастаться своей ролью. Говоря или слушая (не желая слушать и все же слыша), они осматривали друг друга с головы до ног. Сильвия снисходительно сравнивала свои длинные голени, тонкие щиколотки, босые ножки, болтавшие шлепанцами, с грузными ногами и широкими щиколотками Аннеты. Аннета, рассматривая руки Сильвии, отмечала, как заросли лунки ее слишком розовых ногтей. Встретились не просто две девушки; то были две семьи-соперницы. И хотя казалось, что они непринужденно ведут беседу, взгляд их и язык разили мечом, они с неприязнью следили друг за другом. Звериным чутьем ревности каждая сразу, с первого же взгляда, вызнала всю подноготную другой, обнаружила тайные изъяны ее души, пороки, о которых та, быть может, и не подозревала. Сильвия видела в душе Аннеты сатанинскую гордость, упрямство, взбалмошность, которые, вероятно, еще не проявили себя. Аннета видела в душе Сильвии черствость и улыбающуюся двуличность. Позже, полюбив друг друга, сестры старались забыть то, что тогда увидели. А сейчас неприязнь заставляла их все рассматривать через увеличительное стекло. Временами они ненавидели друг друга. Аннета, чуть не плача, думала: «Как все это дурно, как дурно! Я должна показать пример».
Она оглядела скромную каморку, посмотрела на окно, на тюлевую занавеску, на крышу и трубы соседнего дома, залитого лунным светом, на ветку сирени в кувшине с отбитым краем.
Холодно, хотя душа ее пылала, Аннета предложила Сильвии дружбу и помощь... Сильвия выслушала с рассеянным видом, усмехнулась недоброй усмешкой, промолчала... Аннета была смертельно оскорблена, и, с трудом скрывая, как уязвлена ее гордость и какая нежность зарождается в ее душе, она внезапно поднялась. На прощание они обменялись пустыми любезностями. И Аннета вышла, опечаленная, разгневанная.
Она уже миновала коридор, выложенный плитками, уже спустилась с первой ступени лестницы, когда Сильвия, потеряв по дороге одну туфельку, подбежала к ней сзади и обхватила руками ее шею. Аннета обернулась, вскрикнула от душевного волнения. В порыве чувства сжала Сильвию в объятиях. Сильвия тоже вскрикнула и засмеялась оттого, что Аннета с такой силой обняла ее. Они горячо поцеловались. Слова любви. Нежный шепот.
Благодарность, обещание скоро увидеться...
Наконец они расстались. Аннета, смеясь от счастья, очутилась внизу – она не помнила, как спустилась. Услышала наверху мальчишеский свист, будто кто-то звал собаку, и голосок Сильвии:
– Аннета! Она подняла голову и на самом верху в круге света увидела рожицу Сильвии, крикнувшей со смехом:
– Лови! И в лицо Аннете полетели брызги воды и мокрая ветка сирени – ее бросила Сильвия вместе с воздушными поцелуями...
Сильвия убежала. Аннета, закинув голову, все искала сестру глазами, но ее и след простыл. Она сжала в руках мокрую ветку сирени и поцеловала ее.
До дома было далеко, да и не совсем безопасно ходить по иным улицам в такой поздний час, но Аннета все же вернулась пешком. Ей хотелось танцевать. А дома она не легла, пока не поставила сирень в вазу у своей кровати, – так была она счастлива, так возбуждена. Вскочила и переставила ветку в кувшин с водой, совсем как было у Сильвии. Затем опять улеглась, но лампу не загасила, потому что ей не хотелось расставаться с нынешним днем. А часа через три она вдруг проснулась среди ночи. Цветы были на месте. Ей не приснилось, в самом деле она виделась с Сильвией... И она снова заснула с милым образом в душе.
Дни покатились в жужжании пчел, строящих новый улей. Так вьется рой вокруг молодой царицы. Вокруг милой своей Сильвии Аннета создавала новое будущее. Старый улей был заброшен. Его царица мертва. Восторженная душа, стараясь скрыть дворцовый переворот, прикидывалась, будто любовь к отцу она перенесла на сестру, что обретет ее в Сильвии. Но Аннета знала, что с прежней любовью она простилась навеки.
Повелительно звала ее новая любовь, созидающая и разрушающая... Воспоминания об отце были безжалостно отброшены. Его вещи были почтительно удалены в благоговейный полумрак комнат, – там уж некому было их трогать. Халат спрятан в старый шкаф. Аннета запрятала его, потом снова вытащила, постояла в нерешительности, прижалась к нему щекой и вдруг, вспомнив все, отшвырнула. Нет логики в любви! Кто же из них изменил?
Она была поглощена только что обретенной сестрой. Она совсем не знала ее! Но когда полюбишь, не известные тебе черты привлекают особенно. Прелесть тайны примешивается к тому, что уже знаешь. Видела она Сильвию мельком, и ей хотелось удержать в памяти лишь то, что ей понравилось.
Потихоньку от самой себя она допускала, что и это нечто весьма неопределенное. Но стоило ей попытаться беспристрастно воспроизвести то, что было для нее сомнительным в облике Сильвии, как она тотчас же слышала топот маленьких шлепанцев в коридоре и голые руки Сильвии будто обвивались вокруг ее шеи.
Сильвия должна была прийти. Она обещала... Аннета готовилась к приему. Куда она проведет ее? В свою милую комнату. Сильвия сядет вот тут, на ее любимом месте, у растворенного окна. Аннета смотрела на все ее глазами, радовалась, что покажет ей свой дом, безделушки, деревья, одетые в нежную листву, и холмы, усыпанные цветами. При мысли, что Сильвия теперь разделит с ней уют и комфорт, она наслаждалась ими, испытывая свежее чувство новизны. Но вот она подумала, что Сильвия станет сравнивать свое жилье с булонским домом. Радость омрачилась. Неравенство в их положении тяготило Аннету, будто в этом была и ее вина. Но ведь она в силах все исправить, она заставит Сильвию воспользоваться благами, которые судьба предоставила ей, Аннете... Да, но, значит, за ней будет еще одно преимущество. Аннета предчувствовала, что предстоит борьба. Она помнила насмешливое молчание Сильвии в ответ на ее первое приглашение.
Надо было посчитаться с ее щепетильностью. Как же быть? Мысленно Аннета перебрала несколько планов. Но ни один не годился. Раз десять она передвигала мебель в комнате; с детским удовольствием выставила напоказ самые ценные вещи, потом унесла и оставила лишь самые простые. Обдумала все до мелочей: где поставить на этажерке цветы, где – портрет... Только бы Сильвия не пришла, пока все не будет готово! Но Сильвия и не думала торопиться, у Аннеты времени было вдоволь, и она ставила и переставляла, передвигая все снова и снова. Она находила, что Сильвия очень медлит, и пользовалась этим, кое-что исправляя в своих планах. Бессознательная комедия! Она обманывала себя, придавая значение пустякам. Все это волнение, расстановка и перестановка вещей были просто предлогом, чтобы отвлечься от иного волнения, от горячечных мыслей, нарушавших обычный порядок ее рассудочной жизни.
Предлог изжил себя. На этот раз все было готово. А Сильвия не шла. – Аннета не раз уже принимала ее в своем воображения. Она устала от ожидания... Однако нельзя же было снова идти к Сильвии! Ну вот, она придет и вдруг прочтет в скучающих глазах Сильвии, что без нее прекрасно обходятся! Уже самая эта мысль терзала гордую душу Аннеты. Нет, лучше никогда не видеть ее, чем так унижаться! Однако... Она принимает решение, спешит, одевается, – она пойдет за своей забывчивой Сильвией. Но не успела она застегнуть перчатки, как решимость уже оставила ее, ноги у нее подкосились, она села на стул в прихожей, сама не зная, что же делать...
И в тот миг, когда Аннета, не снимая шляпы, уныло уселась у двери, не зная, идти ли, нет ли, в этот самый миг позвонила Сильвия!..
Не прошло и десяти секунд, как отзвучал звонок, а дверь уже распахнулась. Такая быстрота и восторженное выражение глаз Аннеты ясно показали Сильвии, как ее ждали. И еще на пороге, не успели сестры обменяться словом, две рожицы прижались друг к другу. Аннета в порыве радости потащила Сильвию через весь дом; она не выпускала ее руки, не сводила с нее глаз, смеялась громко, без причины, как счастливый ребенок...
И все вышло не так, как она себе представляла. Ни одна заготовленная фраза не пригодилась. Она не усадила Сильвию в свой излюбленный уголок.
Обе уселись спиной к окошку на диван, рядышком, глядя друг другу в глаза, болтали наперебой, а взгляды их говорили:
(Аннета): «Наконец-то! Да ты ли это?»
(Сильвия): «Вот видишь, я и пришла...»
Сильвия, разглядывая Аннету, спросила:
– Вы собрались уходить? Аннета мотнула головой: объяснять не хотелось.
Сильвия все поняла, наклонилась и шепнула:
– Не ко мне ли ты собралась? Аннета привскочила и, прижавшись щекой к плечу сестры, сказала:
– Злючка!
– Почему? – спросила Сильвия, целуя уголком губ золотистые брови Аннеты.
Аннета не ответила. Сильвии был известен ответ.
Она улыбнулась, лукаво следя за Аннетой, а та избегала ее взгляда.
Непокорная душа! Настроение у Аннеты упало. Вдруг путами ее связала робость. Они притихли, и старшая сестра прильнула к плечу младшей, очень довольной, что так быстро удалось взять в свои руки власть...
Потом Аннета подняла голову, и обе, поборов волнение, стали болтать, как закадычные подруги.
На этот раз враждебных намерений не было. Напротив, они жаждали излить свои души... Впрочем, не до конца! Они знали, что у каждой есть свое, сокровенное, – то, что нельзя показать. Даже когда любишь? Вот именно, когда любишь! Да что же это, поточнее? Они чувствовали взаимное доверие, но затаились, они прощупывали границы того, что любовь другой могла бы вытерпеть. И не одно признание, сначала откровенное, посреди фразы меняло русло и премило оборачивалось ложью. Друг друга они не знали, были друг для друга по многим чертам неразгаданной загадкой; два характера, два мира, несмотря ни на что, чуждые. У сестры Сильвия (она думала об этом больше, чем хотела) пустила в ход все свое обаяние. А пленять она умела. Аннета была ею очарована, и в то же время ее коробили некоторые ужимки и манеры Сильвии, – ей было от них не по себе. Сильвия это замечала, но и не думала вести себя иначе; старшая сестра, независимая и наивная, бурная и сдержанная, привлекала ее и отпугивала (хотя, слушая ее болтовню, никто не догадался бы об этом). Прехитрыми и пренаблюдательными были и та и другая, они не пропускали ни взгляда, ни мысли.
Они еще не были уверены друг в друге. В них была и недоверчивость и готовность излить и отдать друг другу душу. Однако отдать, не получая ничего взамен, не хотелось! В сестрах сидел бесенок гордыни. В Аннете он был посильнее. Но и любовь двигала ею сильнее. И скрыть этого она не могла. Она терпела поражение, отдавая больше, чем ей хотелось бы, и Сильвии это нравилось. Так представители двух договаривающихся сторон, горя желанием столковаться, действуют с мудрой осмотрительностью и, следя за поведением друг друга, осторожно идут к цели.
Произведения
Критика