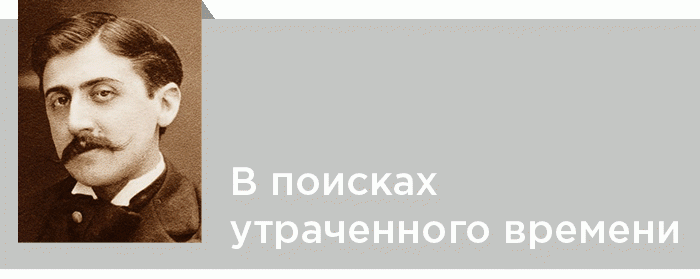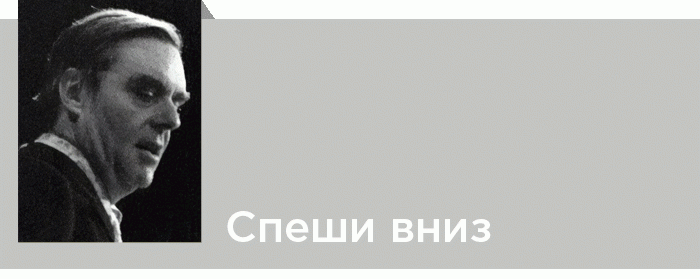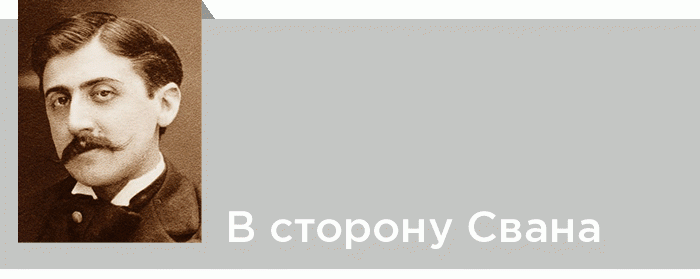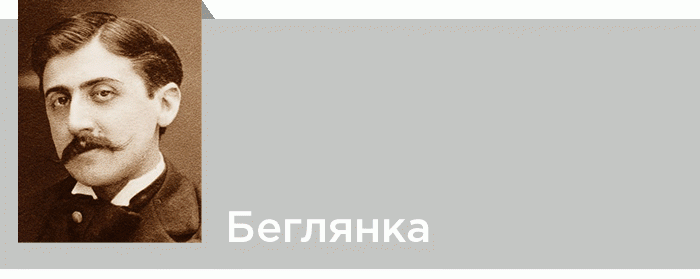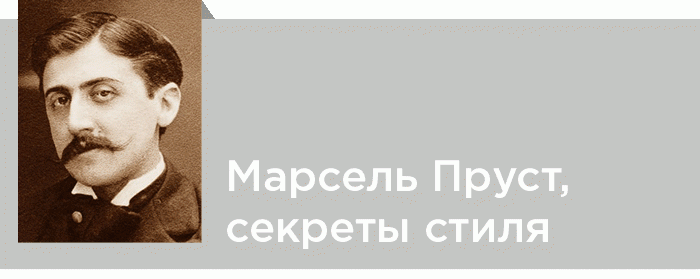«Модернизация» художественного психологизма в творчестве Марселя Пруста

Э. П. Гончаренко
Автография - термин, предложенный В. Подорогой для определения жанра прустовского семитомного цикла романов «В поисках утраченного времени». (1913-1927 pp.). Об уместности этого термина лучше сделать заключение в результате предлагаемого нами очерка основных черт поэтики Пруста, а не предваряя его; пока же отметим, что буквальное его значение - «писание себя» - действительно определяет основной модус прустовского письма: роман-портрет самосознания, роман-память, роман-воссоздание индивидуальности героя, который, как давно замечено, не случайно носит имя «Марсель», как не случайно и повествование от первого лица: «Я» здесь далеко не повествовательная условность.
В прошедшие десятилетия исследователи связывали значение и влияние Пруста с реализмом; с большими или меньшими оговорками именно так пишут о Прусте такие известные ученые, как Л. Андреев, Б. Сучков и др. В наши дни заметно стремление показать Пруста именно как модерниста, видя при этом в модернизме продолжение, а не разрушение художественных ценностей прошлого. Украинских ученых, адресующихся к учительской аудитории, уже не удовлетворяет обличительный тон по отношению к якобы характерной для модернизма герметичности прозы Пруста, ее «отгороженности от жизни»: в его «субъективной эпопее» по праву видится творческий подвиг. Д. Наливайко убедительно полемизирует с теми интерпретаторами, которые утверждали, что этому произведению свойственна «субъективистская замкнутость, изолированность от реальности»; ученый видит связь Пруста с классическими традициями - «в скрупулезном отражении жизни и быта, морали и психологии высших слоев французского общества конца XIX - начала XX в», в «присутствии Бальзака» в семантике и форме прустовской эпопеи. Вместе с тем Пруст - классик модернизма, или, как подчеркивает Т. Н. Денисова, «отец модернизма».
Последнее все же хотелось бы уточнить. Был ли у модернизма один-единственный отец? И если да, то кто может претендовать на это звание? Ведь и об Андре Жиде писали, что он - «последний классик и первый модернист», и, вероятно, с большим правом: в качестве модерниста он выступает уже в конце 1890-х годов. И о Джойсе, который закончил «Дублинцев» к
«В поисках утраченного времени» - цикл, которому автор придал кругообразную «лабиринтную» форму: в последнем томе («Обретенное время», 1927) герой Марсель приходит к открытию своего художественного призвания, что ведет его к написанию книги, которую читатель только что закончил.
Многообразна эмоциональная тональность цикла - чувство потери, отчаяние из-за недостижимости прошлого, ложь и тщета человеческих отношений, в том числе и любви, сочетаются, особенно в первом романе цикла, с радостью детского и художнического открытия мира, с чувством «воскрешения» ушедшего времени, с радостью творчества. Внутренний опыт Марселя включает как переживание разрушительной силы времени, так и открытие, что прошлое вечно живет в подсознании и может быть возрождено - его можно заново пережить, а не просто вспомнить; это прошлое может быть пробуждено случайными чувственными впечатлениями - запах, вкус, звук, «невольная» работа памяти - или воздействием произведений искусства, самой деятельностью художника, свободно предающегося игре ассоциаций. Таким образом, эпопея Пруста в целом может быть прочитана как «роман о художнике», роман о становлении писателя; новизна его особенно в том, что это не «отчет» художника о собственном прошлом, о годах формирования, а «роман-жизнь», в котором процесс жизни, переживание, существующее «в настоящем времени» (даже если это эпизоды раннего детства), становится тут же процессом писания, литературой.
Этот процесс, при углубленности художника в собственную интимно-психологическую среду, захватывает и широкий круг исторических, общественных, социальных проблем - семья и политика, падение аристократии, вульгарность буржуа, свет и «полусвет», дело Дрейфуса и отношение полов; целое предстает как сложная диалектика «внутреннего» и «внешнего», повествования и «метаповествования»: жизнь, схваченная словом (жизнь, переданная не условно-всезнающим повествователем классического романа, а пережитая в данном, «этом» личностном опыте), и рефлексия над ее превращением в литературу, в художественное призвание, - вот сюжет и «метасюжет» Пруста. Сочетаются характерным для модернизма образом классический романный код (Пруст считает себя учеником Бальзака) - и новый металитературный и металингвистический код, благодаря которому и развертывается тема художества художника и параллельно иронически переосмысливаются бальзаковские каноны.
Не эта ли в
Так, кардинальная новизна романа Пруста, согласно известной работе Д. Фрэнка, в том, что он заменил классическую линейную структуру романа, при которой события развертываются во временной и логической причинно-следственной последовательности (и при всех возможных ретроспекциях, перебивах и отступлениях они не выходят из этой плоскости) - иной структурой и формой, которую критик назвал «пространственной формой» («spatial form»). Это значит, что единство произведения создается не этой временной и логической последовательностью сюжета, а синхронично, по внутренней, а не внешней логике, по законам ассоциативного сцепления образов, интеллектуальной рефлексии; вместо линейного повествования «от начала к концу» произведение создается как некий «пространственный объект», оно «объемно», настоящее, прошедшее и прочувствованно-продуманное составляют его одновременно существующие временные и психологические измерения; место этого пространственного объекта - сознание. Классическими образцами этой новой формы исследователь считает романы Пруста и Джойса.
В отличие от реалистического и натуралистического повествования в «пространственной форме» на привычное «прямое» изображение события накладываются языковые и смысловые переклички и соотнесения, которые с первого взгляда могут быть не замечены неискушенным читателем; но они-то и создают форму, несущую главный смысл.
Краткий обзор научной литературы о Прусте приводит Д. Фоккему и Э. Ибш к выводу, что при убедительном анализе и согласии относительно таких аспектов, как время и пространство, позиция рассказчика, проблемы «фокализации» и другие элементы сложной внутренней структуры «Поисков ...», место Пруста в европейском модернизме остается почти не изученным. Другими словами, необходимо не просто изолированное описание своеобразия искусства Пруста, как и других классиков модернизма, и прежде всего Джойса, но соотнесение этого своеобразия с поэтологической и семантической системой модернизма в со- и противопоставлении реализму, натурализму и символизму, как и выяснение общего и индивидуального у этих художников в контексте данного этапа литературного процесса.
Необходимость такого изучения связана с тем, что прочтение Пруста в русле реалистического или символистского кода не объясняет очень важных аспектов романа.
Один из них - отказ от уверенности в правоте причинно-следственных объяснений и от введения в роман хронологического, панорамного обзора исторического времени, как в классическом романе XIX в. Это для Пруста - повод для критики любимой им классики, не только Бальзака, но даже Флобера, хотя последний, по его мнению, уже начал освобождаться от «паразитизма исторических анекдотов».
Можно говорить и в целом об отказе от предшествующих художественных конвенций: сюжета, характера в их «связной», «логической» обрисовке, от формы, основанной на унаследованных канонах. «Форма рождалась непосредственно в процессе внутренней организации произведения по мере его создания» как форма «пространственная» (сопоставимая в этом отношении со стихами Элиота, Паунда, прозой Джойса), т. е. «рассчитанная на то, что читатель воспримет их произведения не в хронологическом, а в пространственном измерении», т. е. в момент времени, изъятый из общего потока, «остановленный», «продленный».
Исследователь творчества Пруста Ж. Женетт видит в этом проявление «неустранимого не-реализма». Действительно, изъятие объекта из хронологических рамок связано с размыванием не только объяснений, но и твердых контуров предмета, его статического «объективного» описания.
Хрестоматийный пример - описание колокольни святого Илария в Комбрэ. На фоне пейзажа с виноградниками она кажется герою огромной виноградной лозой; в момент возвышенного настроения, под звуки колоколов - самыми высокими нотами поющего голоса; она напоминает и молитвенно сложенные руки, и перст Божий, поднимающийся над толпой в небо; в час завтрака Марсель видит ее как огромный хлеб с корочкой, облитой глазурью; на закате - как коричневую бархатную подушку. В другом романе она появляется в ином метафорическом контексте: воплощение величия, она «тянется к неистощимой синеве неба» и в то же время - напоминает о бабушке, любившей все величавое (контекст «непроизвольных воспоминаний», связывающих самые различные предметы и переживания).
Метафорический ряд лишен традиционных функций, он - не риторическое украшение речи или средство убеждения читателя, не выражение отношения художника к предмету, нужное опять-таки для того, чтобы направить читательское восприятие; читатель вообще здесь как бы не присутствует - все происходящее абсолютно интимно, это - видение Марселя, его настроение, его постоянно меняющийся внутренний жизненный поток, свидетелями которого каким-то образом мы стали. Образ предмета, метафора, мотивируются не объяснением и не знанием того, каков этот предмет в реальности, а лишь субъективностью сознания, опыта Марселя, и метафора - часть его.
Вместе с тем интеллектуальные усилия, рациональное начало, анализ постоянно присутствуют в романе, это неотъемлемое свойство героев, Марселя и Свана. Любовь Свана к Одетте постоянно анализируется и Марселем, и Сваном; любовь Марселя к Альбертине - загадка и предмет мучительных разгадываний и объяснений, даваемых самому себе Марселем. Ему удается что-то понять в себе и в ней - например, так сказать, закон ревности: как только Альбертина начинает возбуждать его ревность, возбуждается любовь и вместе с ней - жажда эмоционального успокоения, жажда веры в возлюбленную; но как только достигается это успокоение, любовь умирает, вытесненная такими противоположными вещами, как привычка и чувство полного, отчуждающего непонимания. Но даже само это понимание неполно, временно, неокончательно (иначе и не возник бы трехтомный «цикл Альбертины», заполненный этими отношениями). Человек - и, конкретно, не «человек вообще», а этот герой, «я» романа, интеллектуал и художник - не может не стремиться к пониманию и объяснению; такой герой, даже испытывая страсть, не может не анализировать ее; вместе с тем его объяснения множественны, взаимоисключающи, полны колебаний, зависят от душевного и духовного состояния героя - это отнюдь не чисто рациональный анализ и не достижение твердой истины.
Марсель, наблюдающий спящую Альбертину, полон чувства покоя, наслаждается созерцанием красоты и полноты любви. И вместе с тем описание ее сна и изъяснение его чувства насыщены модальными словами, выражающими неокончательность объяснения: «вводили меня в заблуждение», «у меня создавалось впечатление», «мне казалось, будто ...», «необъяснимая дрожь»... И вывод: есть «несколько Альбертин в ней одной», существует «много других Альбертин», в ней «неисчислимое множество девушек». «Словно», «будто бы», «как будто», «кажется» - спутники и впечатлений, и объяснений, и излияния чувств. «Быть может, мы должны много страдать из-за человека, чтобы в часы передышки он вознаграждал вас тем умиротворяющим покоем, каким дышит природа».
Тональность эпопеи - тональность «познавательной неуверенности», но вместе с тем жизненный процесс человека для Пруста - это процесс необходимых познавательных усилий; но изобразить так понятое познание в рамках условностей реализма, по мнению Пруста, совершенно невозможно.
Известный исследователь стиля Лео Шпитцер находит, что самый стиль Пруста выражает невозможность объяснить даже простейшие человеческие действия. Он приводит в доказательство объяснения, которыми служанка Франсуаза оправдывает свой выбор продуктов для завтрака: камбалу, потому что продавщица рыбы гарантировала ее свежесть; индейку, потому что она увидела такую красивую на рынке; абрикосы, потому что их еще трудно достать; крыжовник, потому что через две недели его не будет; вишни, потому что это первые - и так далее на полутора страницах. Д. Фоккема и Э. Ибш полемизируют со Шпитцером, усматривая здесь не столько серьезное воплощение абсурдности человеческих резонов, сколько ироническую игру с причинными отношениями вообще, полемически направленную против реалистической модели объяснений: эти объяснения доводятся до крайности и таким образом пародируются. Действительно, Пруст играет алогизмами мышления - как при описании выбора десерта, где приводятся противоположные основания (абрикосы, потому что их нет; крыжовник, потому что поздний; вишни, потому что ранние): именно здесь чувствуется словесная игра и комизм. И в целом, в ткани его эпопеи есть юмористическая улыбка, случается мягкая пародия; чаще всего она возникает на тех же основаниях, что и серьезная презентация потока сознания героя: все «потому что» приблизительны, «истинность» любых объяснений относительна, поведение не исчисляется с помощью указаний на материальные причины и обстоятельства; о внутренних побуждениях не только другого, но и самого себя можно лишь догадываться. Но объяснения и Шпитцера, и Фоккемы, и Ибш также «по-прустовски» неполны: здесь не только и, может быть, не столько ирония над реализмом, сколько его углубление, погружение в те тонкости и «мелочи» сознания, которые «пропускались» при обобщенном рисунке характера у реалистов.
Характерно, что Д. Фоккема и Э. Ибш назвали свою книгу о «главном течении в европейской литературе 1910-1940 гг. «Модернистские догадки». Нам это кажется удачной формулой, не только потому, что «догадки», «гипотетичность», отсутствие утвердительности - основной модус психологизма и философствования у модернистов, но и потому, что в модернизме действительно представлены догадки (в положительном смысле слова) о тех нюансах внутренней жизни, о которых наблюдатель «непрозрачного» другого человека не может судить с математической точностью. (Непрозрачный - слово Пруста).
Ж. Женетт говорит о парадоксальном сосуществовании миметического и анти-миметического принципов у Пруста. Это особенно верно, когда речь идет об обрисовке людей: все в них дано через восприятие Марселя, значит - извне, как бы объективированно; вместе с тем все - догадки, предположения, тут же сменяющиеся другими впечатления. Так формируются два принципа: личность множественна, существует много Альбертин или Одетт внутри одной и той же девушки; и другое: личность создается другими, которые ее воспринимают.
Казалось бы, при таком подходе эпопея Пруста превращается в монороман, в гигантский поток сознания одного героя. Это и так, и не так. Взгляд Марселя, которым мы видим Альбертину и других, так изменчив, впечатления так художнически богаты, что возникает - например, по отношению к той же Альбертине - эффект разностороннего восприятия ее разными наблюдателями, эффект «объективного» или, как писал Э. М. Форстер, «круглого» (в отличие от «плоского», одностороннего) изображения человека.
Все это складывается в картину сложного отношения художника к реальности. Думается, что счесть его воинствующим «нереалистом» все же нельзя. Главный творческий импульс Пруста - выразить в слове эту живую реальность, так как она дана человеку в его восприятии и переживании; и его критика реализма - «того рода литературы, который удовлетворяется описанием вещей» (выраженное Бальзаком намерение художника-реалиста в его предисловии к «Человеческой комедии») - связана с тем, что такая литература лишь «удаляется от реальности», поскольку совершенно не принимает во внимание контакт человека с вещами, контакт со временем, единственной зримой формой которого и является материя - «вещи» и люди в их изменчивости. Подобно Джойсу, Пруст отнюдь не отвергает существования реальности, как это сделают позже постмодернисты. Но он ищет «истинную реальность», которой нельзя достичь простым «описанием вещей».
«Вернуть» время, т. е. прочувствовать его ход во время мгновенных сопоставлений моментов «тогда» и «теперь», или заставить въяве пережить прошлое, можно в состояниях, которые Пруст называет «озарениями» или «откровениями» и которые исследователи уже назвали джойсовским словом «эпифании». Здесь точка схождения между Джойсом и Прустом, хотя, разумеется, разница велика.
В «озарениях» Пруста большую роль играют физические свойства вещей, прежде всего вкус и запах. Если они остались теми же, что когда-то, но воспринимаются сейчас, то они в силах мгновенно вернуть прошлое - целый мир чувств, ощущений, мыслей; тогда прошлое, настоящее и будущее сливаются в «эпифаническом опыте».
В восприятии Мераба Мамардашвили особенно видно, чем «эпифании» отличаются от символа. Он обращается к эпизоду, когда Марселю является умершая бабушка. По мнению грузинского философа, это «сцена явления, откровенного явления или просто откровения (...в библейском смысле)». Это откровения жизни и смерти для Марселя, потому что миг живого «присутствия» умершей бабушки дает ему познать, что такое ее отсутствие; чем является для него и для его матери переживание ее жизни и ее смерти. Эта сцена ведет героя и вместе с ним читателя-интерпретатора романа - «не к мысли о смерти, не к знанию и не к сознательной памяти черт любимого лица, а к откровению, явлению собственной персоной, где, с одной стороны, есть чувственное воображение, а с другой - само себе говорящее. Мы имеем здесь дело с особыми явлениями, и кстати, в литературе они получили терминологическое обозначение. Например, Джойс называл такого рода явления эпифаниями. Не всякое явление, а такое, которое, во-первых, сохраняет собственную оболочку, и она целиком нам видна». И далее: «...это явление, не выходя за свою чувственную оболочку, говорит или содержит знание о самом себе. И это есть истина». И Мамардашвили закономерно вспоминает в этой связи Джойса: «Джойс не случайно использовал по этому поводу герменевтический, библейский термин. Очевидно, вы помните эпифаническую сцену в Евангелии - явление истины в теле и в облике младенца восточным магам. Они непосредственно видели истину. Видели не младенца - а истину. По традиции это называлось эпифаническим видением, и Джойс, будучи весьма натасканным в томистской терминологии, использовал этот термин в своих очень разумных целях. Он называл эпифаниями явления, которые сами по себе являются говорящими. И считал, что задача художника искать эпифании. Не просто искать явления - наблюдать, собирать, помечать их, а быть настроенным на то, чтобы увидеть такое редкое, такое привилигированное явление, которое эпифанично».
Таким образом, в наблюдении философа над текстами Пруста и Джойса подчеркивается, как важна в эпифаниях чувственная реальность явления, его бытие «во плоти», само собою раскрывающее его внутреннее значение. Не так - в символе: в нем непосредственная реальность предмета как бы отменяется, преодолевается его внутренними значениями для воспринимающего, становится лишь знаком этих значений. Так крест из римского орудия казни становится знаком целой системы христианских значений или, как пишет С. С. Аверинцев, перспективы смыслов: символ «указывает на выход образа за собственные пределы, на присутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного».
Здесь заложено и объяснение того, почему романы Пруста нельзя читать как символистские произведения и почему, как мы покажем позже, проза Джойса все же не сеть «знаков и символов». Все то, чем насыщена проза Пруста уже в первом романе - лето, утро, цветущий боярышник, церковь в Комбрэ, сказочная игра красок ее витражей (впечатления Марселя), или красота Одетты, ее розовое лицо, ее «тяжелые» глаза, из-за которых нежная кожа кажется увядшей (впечатления Свана, о сознании и внутренней жизни которого Марсель знает все, т. к. он «поделился ими со мною»), - лишено той иносказательности, которая присуща символу: это - непосредственно ощутимая жизнь, не имеющая «инобытийного» второго плана, каким она чревата у символистов, хотя вместе с тем это «говорит» герою, являет собою образы молодости, счастья или, наоборот, страдания, напряжения, непонятности: они являются всем этим, а не «означают», не остаются лишь знаком какого-то содержания.
Казалось бы, это противоречит тому, что сам Пруст нередко пишет о «знаке», о некоей зарубке, «борозде», оставленной в его душе вещами: «маленькая борозда, которую вид колокольни или боярышника вырыли во мне». Однако прустовский «знак» или борозда не чужеродны вложенному в них содержанию. Чашка чая - не символ детства героя, дней и вечеров Комбрэ, хотя их «образ ... был мне не так давно возвращен вкусом, - в Комбрэ сказали бы «ароматом - чая». Это не символы Комбрэ, хотя вся первая часть романа «В сторону Свана» являет собою «появление мира Комбрэ из вкусового ощущения, созданного чашкой чая и кусочком бисквита Мадлен». Она и построена так: в начале - чашка чая, затем - постепенное «выплывание» мира Комбрэ из рожденных ею ощущений, и в финале - снова «чашка чая» и признание, что через много лет мир Комбрэ «всплыл» из нее.
Слово, которое Пруста относит к этому явлению (и реально-психологическому, и его художественному воплощению) - не «эпифания», а «впечатление». Это - не изолированное зрительное или слуховое впечатление, а весь комплекс живых восприятий. Вот почему у Пруста так часты синэстетические образы, и зримая колокольня звучит как высокая нота, а звучащая фраза музыки Вентейля сливается с Одеттой, с любовью или воспринимается как живое существо, вызывающее ощущение ласки: «фразы Шопена с их бесконечно длинной изогнутой шеей».
«Впечатления» Пруста и «эпифании» Джойса (которому принадлежит приоритет в изобретении этого эстетического термина и в реализации «эпифаний» - и его миниатюры, и рассказы цикла «Дублинцы» были уже созданы к
Сравним с прустовскими свето-звуко-цветовыми «впечатлениями» - домом, садом, полями Комбрэ, церковью, колокольней - одну из сохранившихся юношеских эпифаний Джойса - миниатюр, которые он писал в начале 1900-х годов: «Fairitly, under the heavy summer night, through the silence of the town which has turned from dreams to dreamless sleep as a weary lover whom no carresses [sic] move, the sound of hoofs upon the Dublin road. Not so faintly now as they corne near the bridge; and in a moment as they pass the dark windows the silence is cloven by alarm as by an arrow. They are heard now far away - hoofs that shine amid the heavy night as diamonds, hurrying beyond the grey, still marshes to what joumey’s end - what heart - bearing what tidings?»
Джойс тоже создает здесь синэстетический образ: ночь, звук копыт, то тихий, то более громкий, спящий город, темные окна сливаются в некое тревожное и пронзающее души единство. Юный художник еще подсказывает читателю - звуковыми перекличками - alarm и arrow; повторами и словесным синонимическим рядом - silence, sleep, faintly, still marshes; открытостью эмоциональных вопросов, завершающих миниатюру: это напоминает технику символистов, связывая ночной звук копыт с неким концом или целью путешествия, с жизнью сердца. Но сам образ, сливающий воедино тишину, темноту и глухой звук копыт, несет в себе ритм и ощущение тревожно бьющегося сердца, неизвестного будущего, взгляда, всматривающегося в то, что может ждать впереди, - гораздо более непосредственно и ощутимо, чем мог бы символ.
В. Подорога считает, что прозу Пруста - а мы можем добавить: и Джойса, особенно как автора эпифаний, «Дублинцев» и «Портрета художника в юности» - следует называть не автобиографией, а «автографией», без «био»: «замещение истории жизни временем письма». Очевидно, имеется в виду писание, равное переживанию или заставляющее вновь пережить то, что уже было.
Да, это не исповеди, не признания, не самоанализ, а проба изобразить сердце человеческое в тот самый момент, когда оно бьется, и внутреннюю жизнь как процесс, развертывающийся «в настоящем времени» у нас на глазах. В этом - смысл «модернизации» художественного психологизма, начатого ими.
Л-ра: Дніпропетровський національний університет. Вісник. Серія: Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 4. – C. 86-94.
Произведения
Критика