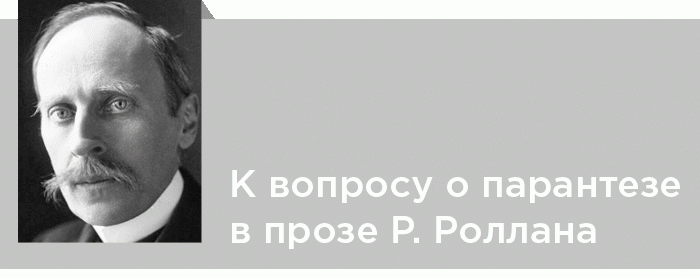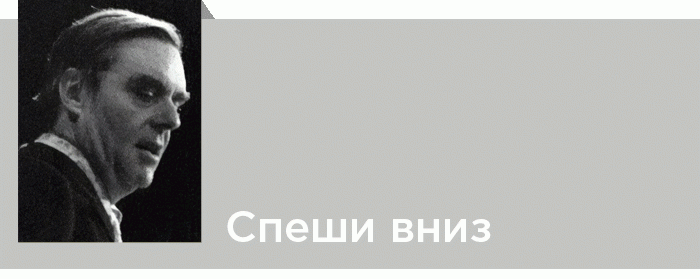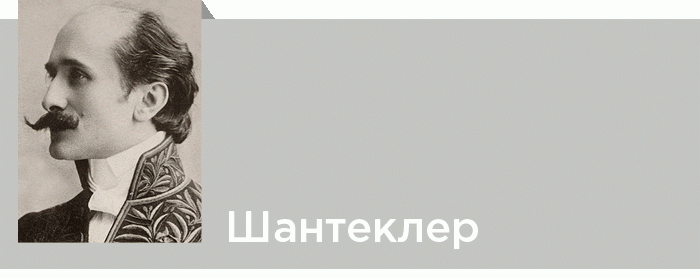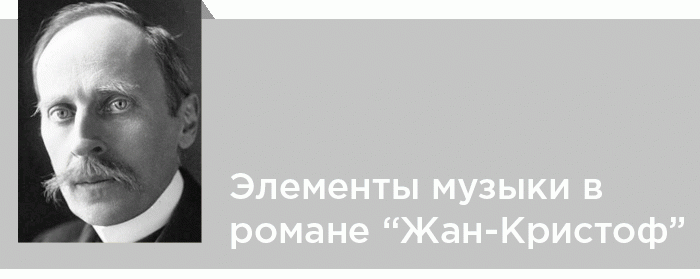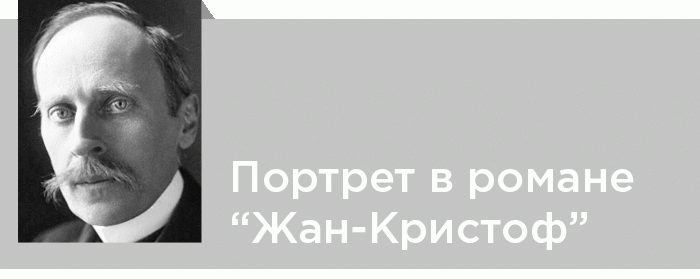Ромен Роллан. Кола Брюньон
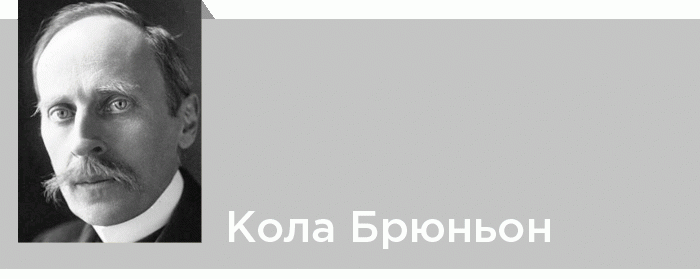
(Отрывок)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
СРЕТЕНСКИЙ ЖАВОРОНОК
2 февраля
Слава тебе, Мартын святой! В делах застой. Не к чему и надсаживаться.
Довольно я поработал на своем веку. Дадим себе передышку. Вот я сижу за своим столом, по правую руку — кружка с вином, по левую руку — чернильница; а напротив меня — чистая тетрадь совсем новенькая, раскрывает мне объятия. За твое здоровье, сынок, и побеседуем! Внизу бушует моя жена. За окном воет ветер, и грозит война. Пускай. Как хорошо, что мы опять сошлись, милый ты мой пузан, вот так, лицом к лицу!.. (Это я тебе говорю, румяная рожа, сметливая, смешная рожа, с длинным бургундским носом, посаженным накось, словно шляпа набекрень…) Но скажи ты мне, пожалуйста, отчего это мне доставляет такое удивительное удовольствие видеть тебя, склоняться, наедине, над моим старым лицом, весело рыскать по его рытвинам и, словно из колодца (а ну его, колодец!), словно из погреба, пить у себя в сердце полной чашей старые воспоминания? Добро бы еще мечтать, а то писать, о чем мечтаешь!.. Да что я говорю — мечтать! Глаза у меня — открытые широко, большие, с морщинками в углах, спокойные и насмешливые; пустые грезы не для меня! Я рассказываю то, что видел, то, что сказал и сделал… Ну не безрассудство ли? Для кого я пишу? Разумеется, не для славы: я, слава богу, не дурак, я знаю себе цену… Для внуков? Что останется через десять лет от всех моих бумаг? Моя старуха меня к ним ревнует, она палит все, что ни найдет… Так для кого же? Да для самого себя. Для собственного нашего удовольствия. Я бы лопнул, если бы не писал. Недаром же я внук своего деда, который заснуть без того не мог, чтобы не записать на сон грядущий, сколько кружек он выпил и изрыгнул. Мне нужно поговорить; и мне мало словесных боев у нас в Кламси. Я должен излиться, как тот, что брил царя Мидаса. Язык у меня длинноват; если бы иные меня слышали, могло бы запахнуть костром. Но что поделаешь?
Если всего бояться, задохнешься от скуки. Я люблю, как наши большие белые волы, пережевывать вечером дневной корм. Как приятно потрогать, пощупать и помять все то, что подумал, заметил, собрал, посмаковать губами, испытать на вкус, не торопясь, так, чтобы таяло на языке, медленно, в обсоску, рассказывать самому себе все то, что не успел спокойно вкусить, пока ловил на лету! Как приятно пройтись по своему маленькому миру, сказать себе: «Он мой. Здесь я хозяин и повелитель. Ни холод, ни мороз над ним не властны. Ни король, ни папа, ни войны. Ни моя старая ворчунья…»
А ну-ка, я подведу счет этому миру!
Во-первых, я имею себя, — это лучшее из всего, — у меня есмь я, Кола Брюньон, старый воробей, бургундских кровей, обширный духом и брюхом, уже не первой молодости, полвека стукнуло, но крепкий, зубы здоровые, глаз свежий, как шпинат, и волос сидит плотно, хоть и седоват. Не скажу, чтобы я не предпочел его русым или, если бы мне предложили вернуться этак лет на двадцать или на тридцать назад, чтобы я стал ломаться. Но в конце концов пять десятков — отличная штука! Смейтесь, молодежь. Не всякий, кто желает, до них доживает. Шутка, по-вашему, таскать свою шкуру по французским дорогам полвека сполна, в наши-то времена… Бог ты мой, и вынесла же, милые мои, наша спинушка и ведра, и дождя! И пекло же нас, и жарило, и прополаскивало! И насовали же мы в этот старый дубленый мешок радостей и горестей, проказ и улыбок, опыта и ошибок, чего надо и чего не надо, и фиг, и винограда, и спелых плодов, и кислых дичков, и роз, и сучков, и всего, что видано и читано, и испытано, что в жизни сбылось и пережилось! Всем этим набита наша сума вперемешку! И занятно же в ней порыться!.. Стой, не вдруг, милый друг! Пороемся завтра. Если я начну сегодня, то не будет и конца… Пока что запишем для справки, какие товары имеются у нас в лавке.
У меня есть дом, жена, четверо сыновей, дочь, замужняя (слава тебе, господи!), зять (само собой!), восемнадцать внуков, серый осел, собака, шесть кур и свинья. Ну и богач же я! Наденем очки, чтобы получше разглядеть наши сокровища. Перечисляю я их, по правде говоря, только для порядку. Случались войны, заглядывали солдаты, и неприятельские и приятельские. Свинья посолена, осел хром, погреб выпит, курятник ощипан.
Но жена-то у меня есть, черт возьми, есть действительно. Слышите ее голосок? О таком счастье не забудешь: она моя, она моя, голубушка, это я ее обладатель! Ах ты, старый плут, Брюньон! Все тебе завидуют… Господа, за чем же дело стало? Если кто желает ее взять… Женщина бережливая, работящая, скромная, честная, словом, преисполненная добродетелей (это ей не впрок, и я, грешный, сознаюсь, что семи тощим добродетелям предпочитаю упитанный грешок… Но будем добродетельны, раз уж приходится и такова воля божья)… ой, и беснуется же она, наша неблагодарная Мария, наполняя дом своим сухопарым телом, всюду шаря, всюду лазя, ворча, бурча, бормоча, крича, от погреба до чердака, изгоняя пыль и тишину!
Вот уже скоро тридцать лет, как мы женаты. Черт его знает, почему! Я любил другую, которая смеялась надо мной; а она хотела меня, который ее не хотел. Это была, в те времена, маленькая, бледненькая чернушка, чьи жесткие зрачки готовы были меня съесть живьем и сверкали, словно две капли водки, гложущей сталь. Любила она меня, любила до смерти. И так она меня преследовала (до чего люди глупы!), что, отчасти из жалости, отчасти из тщеславия, а больше от усталости, дабы (хороший способ!) отделаться от этого наваждения, я стал (старый шут, лезет от дождика в пруд), я стал ее мужем. С тех пор она моя, добродетель у меня в доме. А она, она мстит, милое создание. За что? За то, что любила меня. Она меня бесит; ей, во всяком случае, хотелось бы меня взбесить; но не тут-то было: я слишком ценю свой покой и не настолько глуп, чтобы из-за слов огорчаться хоть на грош. Идет дождь — пусть идет. Гремит гром — пою на весь дом. И, когда она орет, я смеюсь во весь рот. Почему бы ей не орать? Разве я собираюсь ей мешать, этой женщине? Я ей смерти не желаю.
Завел жену — забудь тишину. Пускай себе тянет свою песенку, я буду тянуть свою. Коль скоро она не делает попыток заткнуть мне клюв (она и не покушается, она знает, к чему бы это привело), пусть себе чирикает: у всякого своя музыка.
Впрочем, в лад ли звучат наши инструменты, или не в лад, мы, как-никак, исполнили с их помощью несколько недурных вещиц: дочку и четырех молодцов. Народ все прочный, хорошо слаженный; я не жалел материала и труда. Однако единственная из всего выводка, в ком я вполне узнаю свое семя, — это моя плутовка Мартинка, моя дочка, скотинка! Немалого стоило мне мужества довести ее до замужества! Ух, наконец-то она угомонилась!..
Полагаться на это не очень-то следует; но теперь мое дело сторона. Довольно я стерег и берег. Теперь моему зятю черед стеречь. Флоримон, пекарь, охраняй свою печь!.. Мы всегда спорим, всякий раз как встретимся; но ни с кем мы так не ладим, как друг с другом. Славная девушка, рассудительная даже в своих сумасбродствах, и честная, но только честностью веселой: потому что для нее худший из пороков — это то, что скучно. Труд ей не страшен: труд-это борьба; борьба-это удовольствие. А она любит жизнь; она знает, что хорошо; как я: это моя кровь. Но только я, пожалуй, слишком расщедрился, когда ее создавал.
Мальчики удались мне не так. Мать подмешала своего, и тесто скисло: из четырех двое — богомолы, как и она, вдобавок — враждебных толков.
Один все время трется среди постных рож, попов, святош; а другой — гугенот. Сам не понимаю, как это я высидел этих утят. Третий — солдат, воюет, шатается неведомо где. А что касается четвертого, то это — ничто, как есть ничто: мелкий лавочник, безличный, как овца; я зеваю при одной мысли о нем. Я узнаю свое племя только с вилкой в кулаке, когда мы сидим, все шестеро, за моим столом. За столом их будить не нужно, все работают дружно; и любо смотреть, когда мы, все шесть, вся дюжина челюстей, садимся есть, отправляем куски за обе щеки и спускаем вино на самое дно.
После движимости обратимся к дому. Это тоже мое детище. Я его выстроил кусок за куском, и даже не раз, а три раза, на берегу ленивого Беврона, жирного и зеленого, полного травы, земли и навоза, при въезде в предместье, по ту сторону моста, который, как прилегшая такса, мочит брюхо в воде. Как раз напротив возвышается горделивая и легкая башня святого Мартына, в вышитой юбочке, и цветистый портал, к которому ведут черные и крутые ступени Старого Рима, словно в рай. Моя скорлупка, моя халупка расположена вне стен: так что всякий раз, как с башни завидят на равнине неприятеля, город запирает ворота, и неприятель является ко мне.
Хоть я и не прочь покалякать, но без этих гостей я мог бы и обойтись.
Чаще всего я ухожу, оставляю ключ под дверью. Но, когда я возвращаюсь, я иной раз не нахожу ни ключа, ни двери: всего-навсего четыре стены. Тогда я отстраиваюсь. Мне говорят:
— Дуралей! Ты работаешь на врага. Брось ты свою нору и переселяйся в город. Там ты будешь под защитой.
Я отвечаю:
— Ничего! Мне и тут хорошо. Конечно, за толстой стеной я буду безопасней. Но что я буду видеть за толстой стеной? Стену. Я иссохну от скуки. Мне нужна свобода. Мне нужно, чтобы я мог развлечься на берегу моего Беврона и, когда я не работаю, смотреть из моего садика на отблески, вырезанные в тихой воде, на круги, которые по ее глади выискивают рыбы, на косматые травы, шевелящиеся на дне, удить, полоскать свои тряпки и опоражнивать свой горшок. И потом, как-никак, я тут жил всегда; переезжать поздно. Хуже не будет, чем со мной бывало. Дом, вы говорите, опять разрушат? Возможно. Милые мои, я и не притязаю на то, чтобы строить на веки вечные. Но раз я куда вбит, меня не так-то легко вытащить, ей-богу! Я отстраивался два раза, отстроюсь и десять раз. Не то чтобы я находил в этом удовольствие. Но мне было бы в десять раз скучнее переселяться. Я был бы как тело без кожи. Вы мне предлагаете другую, красивее, белее, новее? Она бы на мне сидела мешком или же лопнула бы. Нет уж, я предпочитаю свою…
Итак, перечтем: жена, дети, дом; все ли свои владения я обошел? Остается еще самое лучшее, я его припас на закуску, остается мое ремесло. Я из братства святой Анны, столяр. Я ношу на похоронах и в процессиях древко, украшенное циркулем на лире, а в нем господня бабка учит читать свою дочурку, благодатную Марию, крохотную девчурку. Вооруженный топориком, долотом и стамеской, с фуганком в руках, я царю за моим верстаком над дубом узлистым, над кленом лоснистым. Что я из них извлеку? Это смотря по моему желанию… и по чужому кошельку. Сколько в них дремлет форм, таящихся и скрытых! Чтобы разбудить спящую красавицу, стоит только, как ее возлюбленный, проникнуть в древесную глубь. Но красота, которую я обретаю у себя под рубанком, не жеманница. Какой-нибудь поджарой Диане, без переда и зада, любого из этих итальянцев, я предпочитаю бургундскую мебель, со смуглым налетом, кряжистую, сочную, отягченную плодами, как виноградный куст, этакий пузатый баул или резной шкаф, в терпком вкусе мэтра Гюга Самбена. Я одеваю дома филенками, резьбой. Я разворачиваю кольца винтовых лестниц; и, словно яблоки из шпалеры, я выращиваю из стен просторную и увесистую мебель, созданную как раз для того места, где я ее привил. Но самое лакомство — это когда я могу занести на бумагу то, что смеется в моем воображении, какое-нибудь движение, жест, изгиб спины, округлость груди, цветистый завиток, гирлянду, гротеск, или когда у меня пойман на лету и пригвожден к доске какой-нибудь прохожий со своей рожей. Это я изваял (и это венец всех моих работ), на усладу себе и кюре, скамьи в монреальской церкви, где двое горожан весело чокаются за столом, над жбаном, а два свирепых льва рычат от злости, споря из-за кости.
Поработав, выпить; выпив, поработать, — что за чудесное житье!.. Я на каждом шагу встречаю чудаков, которые ворчат. Они говорят, что нашел я, мол, тоже время петь, что времена сейчас мрачные… Не бывает мрачных времен, бывают только мрачные люди. Я, слава тебе, господи, не из их числа. Друг друга грабят? Друг друга режут? Всегда будет так. Даю руку на отсечение, что через четыреста лет наши правнуки будут с таким же остервенением драть друг с друга шкуру и грызть друг другу носы. Я не говорю, что они не изобретут сорок новых способов делать это лучше нашего.
Но я ручаюсь, что они не измыслят нового способа пить, и бьюсь об заклад, что лучше, чем я, они пить не научатся… Почем знать, что они будут выделывать, эти мошенники, через четыреста лет? Быть может, благодаря траве медонского кюре, чудодейственному Пантагрюэлиону, они смогут посещать области Луны, кузницу перунов и запруды дождей, селиться в небесах, бражничать с богами… Что ж, я отправлюсь туда вместе с ними.
Ведь они мое же семя, из моей утробы племя. Плодитесь, голубчики! Но мое место — надежнее. Кто мне поручится, что через четыре столетия вино будет такое же доброе?
Жена меня попрекает, что я слишком люблю кутнуть. Я не брезгую ничем.
Я люблю все хорошее: хороший стол, хорошее вино, славные, мясистые радости и тенежнокожие, сладостные и бархатистые, которые вкушаешь в мечтах, божественное безделье, когда чего только не делаешь! (здесь ты властитель мира, юный, прекрасный, победоносный, ты преобразуешь землю, ты слышишь, как растет трава, ты беседуешь с деревьями, зверями и богами — и тебя, старый товарищ, тебя, который не предаст, мой друг, мой Ахат, мой труд!.. Как хорошо стоять с инструментом в руках у верстака, пилить, строгать, сверлить, тесать, колоть, долбить, скоблить, дробить, крошить чудесное и крепкое вещество, которое противится и уступает, мягкий и жирный орешник, который трепещет под рукой, словно хребет русалки, розовые и белые тела, смуглые и золотистые тела наших дубравных нимф, лишенные своих покровов, срубленные топором! Радость верной руки, понятливых пальцев, толстых пальцев, из которых выходит хрупкое создание искусства!
Радость разума, который повелевает силами земли, который запечатлевает в дереве, в железе и в камне стройную прихоть своей благородной фантазии!
Я чувствую себя монархом химерического царства. Мое поле отдает мне свою плоть, мой виноградник — свою кровь. Духи растительных соков выращивают для моего искусства, растягивают, утучняют, округляют и лощат прекрасные тела деревьев, которые я буду ласкать. Мои руки — послушные работники, управляемые моим старшим помощником, моим старым мозгом, который, будучи сам мне подчинен, налаживает игру, угодную моим мечтам. Служили ли кому-нибудь лучше, чем мне? Ну, чем я не царек? Разве я не вправе выпить за мое здоровье? И не забудем также (я чужд неблагодарности) здоровья моих доблестных подданных. Благословен день, когда я явился на свет!
Сколько на этой круглой штуке великолепных вещей, веселящих глаз, услаждающих вкус! Господи боже, до чего жизнь хороша! Как бы я ни объедался, я вечно голоден, меня мутит; я, должно быть, болен; у меня так и текут слюнки, чуть я увижу накрытый стол земли и солнца.
Но я расхвастался, господа: солнце скончалось; стоят холода. Этот жулик мороз забрался даже сюда. Перо спотыкается в моих окоченелых пальцах. Господи помилуй, в стакане у меня образовалась ледышка, и нос у меня побелел: ненавистный цвет, покойницкий! Не терплю ничего бледного.
Ну-ка, встряхнемся! Колокола у святого Мартына звенят и заливаются. Сегодня Сретенье… «Зима либо кончается, либо сил набирается…» Злодейка! Она сил набирается. Так поступим же, как она. Выйдем на улицу встретить ее лицом к лицу…
Славный мороз! Сотни иголок покалывают мне щеки. Ветер, выскакивая из-за угла, хватает меня за бороду. Я согрелся. Слава тебе, господи, румянец мой опять заиграл… Люблю слышать, как у меня под ногами звенит затверделая земля. Я чувствую себя совсем молодцом. Что это у всех такой унылый вид, неприветливый?..
— Ну-ка, веселей, веселей, соседка! Кто вас обидел? Озорной ветер, который задирает вам подол? Он прав, он молод; мне бы его молодость! Он знает, куда куснуть, плутяга, сластена, знает лакомые кусочки. Что делать, кумушка, всякий хочет жить… Да куда вы бежите так, словно вас черти подхлестывают? К обедне? Восхвалим господа! Он всегда одолеет лукавого. Кто плачет — посмеется, озябший — обожжется… А, вот вы и рассмеялись? Все в порядке… А я куда бегу? К обедне, как и вы. Но только не к церковной. К полевой обедне.
Сперва я захожу к дочери, забрать свою маленькую Глоди. Мы каждый день гуляем вместе. Это моя лучшая подруга, моя маленькая овечка, моя лягушечкастрекотушечка. Ей уже шестой год — шустрее мышки, хитрее лисички. Чуть завидит меня, бежит навстречу. Она знает, что у меня всегда полный короб побасенок; она их любит не меньше моего. Я беру ее за руку.
— Идем, малышка, идем встречать жаворонка.
— Жаворонка?
— Нынче Сретенье. Разве не знаешь, что сегодня он к нам возвращается с небес?
— А что он там делал?
— Добывал для нас огонь.
— Огонь?
— Тот самый, от которого светло, от которого кипит земная кастрюлька.
— Так огонь улетал?
— Ну да, на Всех святых. Каждый год, в ноябре, он улетает греть небесные звезды.
— Как же он возвращается?
— За ним отправляются три птички.
— Расскажи…
Она семенит по дороге. Тепло укутанная в белую шерстяную душегрейку, в голубом капоре, она похожа на синичку. Холод ей не страшен; но щечки у нее раскраснелись, как яблоки, а кочерыжка-носик течет в три ручья.
— Ну-ка, сморчок, сморкнись, сними со свечки. Или ты ее ради Сретенья зажгла? В небе лампаду затеплили.
— Расскажи, дедушка, про трех птичек…
(Я люблю, чтобы меня просили.).
— Три птички собрались в путь-дорогу. Три отважных приятеля: Королек, Зарянка и Жаворонок-дружок. Королек, вечно живой и подвижной, как мальчик-спальчик, и гордый, как Артабан, первый замечает в воздухе красивей огонь, который катится себе, как просяное зернышко. Он-на него, крича: «Я, я! Я поймал!» А остальные — вопить, орать: «Я! я! я!» Но уже Королек хапнул его на лету и — стрелой вниз… «Горю, горю! Горячо!»
Словно горячую кашу, Королек перекатывает его у себя в клюве; не может больше, разинул рот, язык у него облупился; он огонек выплевывает, под крылышки засовывает. «Ай, ай, горю!» Крылышки пылают… (Замечала ты его подпалины и завившиеся перышки?) Зарянка тотчас же спешит ему на помощь.
Она берет клювом огненное зерно и бережно прячет в свой теплый жилет.
И вот ее красивый жилет начинает краснеть, краснеть, и кричит Зарянка:
«Не могу больше, не могу! Я платьице прожгла!» Тут подлетает Жаворонок, храбрый дружок, хватает на лету огонь, который уже улепетывал на небеса, и быстро, ловко, метко, как стрела, падает на землю и зарывает клювом солнечное зерно в наши мерзлые борозды, которые так и млеют от удовольствия…
Сказка моя кончена. Теперь тараторит Глоди. При выходе из города я посадил ее себе на плечи, чтобы взобраться на холм. Небо пасмурно, снег под ногами хрустит. Кусты и чахлые деревца с худыми косточками набиты белым. Дым над хижинами подымается столбом, синий и неторопливый. Нигде ни звука, слышно только мою лягушечку. Мы достигаем вершины. У моих ног — мой город, который ленивая Ионна и бездельник Беврон окаймляют своими лентами. Даже весь заваленный снегом, весь застывший, иззябший и продрогший, он согревает мне душу всякий раз, как я его вижу.
Город красивых отсветов и плавных холмов… Вокруг тебя, переплетаясь, словно соломины гнезда, вьются нежные линии возделанных склонов.
Продолговатые волны лесистых гор мягко зыблются, в пять или шесть рядов; вдали они синие: можно подумать — море. Но это не та вероломная стихия, которая швыряла ифакийца Улисса и его суда. Ни бурь. Ни козней. Все спокойно. Лишь кое-где словно вздох вздымает грудь холма. С волны на волну уходят прямые дороги не спеша, оставляя за собой точно корабельный след.
На гребне зыбей, вдалеке, возносятся мачты везлэйской Магдалины. А совсем поблизости, на выгибе излучистой Ионны, бассвильские скалы высовывают из чащи свои кабаньи клыки. В ложбине, в кольце холмов, город, небрежный и нарядный, склоняет над водами свои сады, свои лачуги, свои лохмотья, свои драгоценности, грязь и гармонию своего простершегося тела, и свою голову, увенчанную кружевной башней…
Так я любуюсь раковиной, при которой я улитка.
Колокола моей церкви звучат в долине; их чистый голос разливается, как хрустальный ток, в тонком морозном воздухе. И пока я расцветаю, впивая их музыку, вдруг солнечная полоса рассекает серую оболочку, скрывавшую небо. И в этот самый миг моя Глоди хлопает в ладоши и кричит:
— Дедушка, я его слышу! Жаворонок, жаворонок!..
Тогда я, смеясь от счастья при ее звонком голосочке, целую ее и говорю:
— Слышу его и я. Птичка весенняя моя…
ГЛАВА ВТОРАЯ
ОСАДА, ИЛИ ПАСТУХ, ВОЛК И ЯГНЕНОК
Знаем ваших ягнят:
Пусти их втроем — волка съедят.
Середина февраля
Мой погреб скоро будет пуст. Солдаты, которых господин де Невер, наш герцог, прислал для нашей защиты, как раз принялись за мой последний бочонок. Не будем терять времени, идем пить вместе с ними! Разоряться я согласен; но разоряться весело. Не первый раз! И если божественному милосердию угодно, то и не в последний…
Славный народ! Они огорчаются еще больше моего, когда я им сообщаю, что влага убывает. Некоторые мои соседи относятся к этому трагически. А я перестал, меня не удивишь: я достаточно бывал в театре на своем веку, я уже не отношусь серьезно к скоморохам. И насмотрелся же я этих харь, с тех пор как живу на свете, — швейцарцев, немцев, гасконцев, лотарингцев, боевой скотины, в сбруе и с оружием, саранчи, голодных псов, вечно готовых грызть человечину! Кто когда мог понять, за что они дерутся? Вчера — за короля, сегодня — за лигу. То это святоши, то это гугеноты. Все они хороши! Лучший из них и веревки не стоит, чтобы его вешать. Не все ли нам равно, один ли жулик или другой мошенничает при дворе? А что до их претензии вмешивать в свои дела господа бога… нет уж, милые мои голубчики, господа бога вы оставьте! Он человек пожилой. Если кожа у вас свербит, царапайтесь сами, бог без вас обойдется. Не безрукий, поди. Почешется, если ему охота…
Хуже всего то, что они и меня хотят принудить валять с ними дурака!..
Господи, я тебя чту и полагаю, при всей моей скромности, что мы с тобой видимся не один раз в день, если только не врет поговорка, добрая галльская поговорка: «Кто пьет много, видит бога». Но мне бы никогда в голову не пришло говорить, как эти пустосвяты, что я с тобой отлично знаком, что ты мне родня, что все свои дела ты возложил на меня. Ты уж мне разреши оставить тебя в покое; и единственное, о чем я тебя прошу, — это чтобы и ты поступил со мной так же. Нам обоим хватит работы, каждому по своему хозяйству, тебе — в твоей вселенной, и мне — в моем мирке.
Господи, ты мне дал свободу. Я плачу тебе тем же. А эти вот лодыри желают, чтобы я распоряжался вместо тебя, чтобы я говорил от твоего лица, чтобы я высказался, каким образом тебе угодно быть вкушаему, и чтобы того, кто вкушает тебя иначе, я объявил врагом и твоим и моим!.. Моим?
Дудки! У меня врагов нет. Все люди мне друзья. Если они дерутся, это их добрая воля. Что до меня, то я выхожу из игры… Да, кабы можно было! В том-то и дело, что они не дают, мерзавцы. Если кому-либо из них я не стану врагом, то врагами мне станут и те и другие. Так ладно же, раз, посреди двух станов, я буду вечно бит, начнем бить и мы! Я готов. Чем подставлять бока, бока, бока, дадимка лучше сами тумака.
Но кто мне объяснит, для чего заведены на земле все эти скоты, эти хари-стократы, эти политики, эти феодалы, нашей Франции объедалы, которые, воспевая ей хвалу, грабят ее на каждом углу и, покусывая наше серебро, приглядывают и соседское добро, покушаются на Германию, зарятся на Италию и в гинекей к Великому Турку нос суют, готовы поглотить половину всей земли, а сами и капусты на ней посадить не умеют!.. Полно, мой друг, успокойся, раздражаться не стоит! Все хорошо и так, как оно есть… пока мы его не улучшим (а это мы сделаем при первой возможности). Нет такой поганой твари, которая бы на что-нибудь не годилась. Слыхал я, что однажды господь бог (что это я, господи, только о тебе сегодня и говорю?), с Петром прогуливаясь вместе, увидел в Бейанском предместье — сидит женщина сложа руки и умирает от скуки. И до того она скучала, что наш отец, пошарив в доброте сердечной, вытащил, говорят, из кармана сотню вшей, кинул их ей и сказал: "На тебе, дочь моя, позабавься! И вот женщина, встрепенувшись, начала охотиться; и всякий раз, как ей удавалось подцепить зверюшку, она смеялась от удовольствия. Такая же милость, должно быть, и в том, что небо нас наградило, ради нашего развлечения, этими двуногими тварями, которые гложут нам шкуру. Так будем же веселы, ха-ха! Гниды, говорят, признак здоровья. (Гниды — это наши господа.) Возрадуемся, братья: ибо в таком случае нет никого здоровее нас… И потом, я вам скажу (на ушко): «Терпение! Наша вывезет. Холода, морозы, сволочь лагерная и придворная побудут и пройдут. Добрая земля останется, и мы, чтобы она рожала. Она за один помет с лихвой свое вернет… А пока прикончим мой бочонок! Надо очистить место для будущего урожая».
Моя дочь Мартина мне говорит:
— Ты — бахвал. Тебя послушать, так можно подумать, что ты только глоткой и умеешь действовать: ротозейничать, трезвонить языком, зевать от жажды да на ворон; что ты спишь и видишь, как бы кутнуть, что ты готов пить, как губка; а ты и дня не проживешь без работы. Тебе хотелось бы, чтобы тебя считали вертопрахом, сорвиголовой, мотом, гулякой, который не знает, что у него в кошельке, туго он набит или налегке; а сам бы заболел, если бы у тебя на дню всякое дело не отзванивало свой час, как на курантах; ты знаешь до последней копейки все, что издержал с прошлой ПАСХИ, и еще не родился тот человек, который бы тебя надул… Простачок, буйная головушка! Полюбуйтесь на этого ягненка! Знаем ваших ягнят: пусти их втроем — волка съедят…
Я смеюсь, я не возражаю госпоже зубастой. Она права!.. Напрасно она все это говорит. Но женщина молчит только о том, чего не знает. А меня она знает, ведь я же ее сработал… Чего уж. Кола Брюньон, сознайся, старый ветрогон: как ты там ни блажи, никогда тебе не быть совсем блажным. Само собой, и у тебя, как у всякого, есть блажь, за пазухой, и ты ее при случае показываешь; но ты ее суешь обратно, когда тебе нужны свободные руки и ясная голова для работы. Как у любого француза, у тебя так прочно сидят в башке чувство порядка и рассудок, что ты, забавы ради, можешь и покуролесить: опасно это только простофилям, которые смотрят на тебя, разинув рты, и вздумали бы тебе подражать. Пышные речи, звучные стихи, головокружительные затеи-все это весьма приятно: воодушевляешься, загораешься. Но при этом мы палим только хворост; а самых дров, в сарае сложенных, не трогаем. Фантазия моя оживляется и задает спектакль моему разуму, который ее созерцает, удобно усевшись. Все мне занятно. Театром мне служит вселенная, и я, не вставая с кресла, смотрю комедию: рукоплещу Матамору или Франкатриппе, наслаждаюсь турнирами и царственными празднествами, кричу «бис!» всем этим людям, которые ломают себе шею.
Это они, чтобы доставить нам удовольствие! Дабы его усугубить, я делаю вид, будто и сам участвую в потехе и верю ей. Какое там! Я верю всему этому ровно настолько, чтобы мне было занятно. Так же вот, как я слушаю сказки про фей. И есть не только феи… Есть важный господин, живущий в Эмпирее… Мы его чтим весьма; когда он проходит по нашим улицам, предшествуемый крестом и хоругвью, с песнопениями, мы облекаем в белые простыни стены наших домов. Но между нами… Болтун, прикуси язык! Тут пахнет костром… Господи, я ничего не сказал! Я снимаю перед тобой шляпу…
Конец февраля
Осел, общипав луг, сказал, что стеречь его больше не требуется, и отправился объедать (стеречь, хотел я сказать) другой, по соседству.
Гарнизон господина де Невера сегодня утром отбыл. Любо было смотреть на них, жирных, как окорока. Я был горд нашей кухней. Мы расстались с сердцем на устах, уста сердечком. Они высказывали всяческие любезные и учтивые пожелания, чтобы наши хлеба хорошо уродились, чтобы наш виноград не померз.
— Работай, дядя, — сказал мне Фиакр Болакр, мой постоялец-сержант.
(Так он меня зовет, и по заслугам: «Тот настоящий дядя, кто потчует, в рот не глядя».) — Не жалей трудов и возделывай свой виноградник. На святого Мартына мы к тебе вернемся пить…
Славный народ, всегда готовый прийти на помощь честному человеку, который за столом борется со своим жбаном!
Все чувствуют себя как-то легче после их ухода. Соседи осторожно раскупоривают свои тайнички. Те, что еще недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, словно в животе у них сидел волк, теперь из-под соломы сеновальной, из-под земли подвальной откапывают, чем накормить этого зверя. Нет нищего, который бы не сумел весьма умно, охая со всеми заодно, что ничего-то у него нет давно, припрятать лучшее свое вино. Я сам (уж и не знаю, как это так вышло), чуть только отбыл мой гость Фиакр Болакр (я проводил его до конца Иудейского предместья), вдруг вспомнил, хлопнув себя по лбу, про некую бочечку шабли, случайно забытую под конским навозом, куда она была положена для тепла. Я был этим весьма опечален, как это поймет всякий; но когда зло содеяно, то оно содеяно, и с ним приходится мириться. Я и мирюсь. Болакр, мой племянник, ах, чего вы лишились! Какой нектар, какой букет!.. Но вы не горюйте, мой друг, мой друг, но вы не горюйте: его выпьют за ваше здоровье!
Люди ходят по соседям, из дома в дом. Показывают друг другу находки, обнаруженные в погребах; и перемигиваются, как авгуры, со взаимными поздравлениями. Толкуют про убытки и напасти (по женской части). Соседская беда веселит, и забываешь свою собственную. Справляются о здоровье супруги Венсана Плювьо. После каждого войскового постоя в городе, по странной случайности, эта доблестная дочь Галлии распускает пояс. Отца поздравляют, восхищаются мощью его плодоносных чресл в час общественного испытания; и по-дружески, смеха ради, без всякого злого умысла, я похлопываю по пузу этого счастливчика, у которого, говорю я, дом ходит с полным животом, когда все прочие при пустом. Все посмеиваются, как и следует, но вежливенько, по-простецки, во весь рот. Однако Плювьо наши поздравления приходятся не по вкусу, и он говорит, что лучше бы я смотрел за собственной женой. На что я ответил, что уж ее-то счастливый обладатель может спать крепко, не опасаясь за свой клад. Что подтвердил и стар и млад.
Но вот и масленица. Как ни плохо мы оснащены, ее надо ознаменовать.
Это дело чести и для города и для каждого из нас. Что сказали бы про Кламси, родину сосисок, если бы к мясоеду у нас не оказалось горчицы?
Сковороды шипят; уличный воздух напоен сладким запахом жира… Прыгай, блин! Выше! Прыгай, для моей Глоди!..
Гром барабанов, переливы флейт. Смех и крики…
Это господа из Иудеи <"Иудеей" прозвано Вифлеемское предместье, населенное кламсийскими сплавщиками. «Рим» — верхний город; это имя он получил от так называемой «Староримской» лестницы, ведущей от площади св. Мартина к Бевронскому предместью. — Р.Р.> являются на своей колеснице с визитом в Рим.
Во главе идут музыка и алебардщики, рассекающие толпу носами. Носы хоботом, носы копьем, носы охотничьим рогом, носы дулом, носы в колючках, словно каштаны, или с птицей на конце. Они расталкивают зевак, шарят в юбках у девиц, а те визжат. Но все шарахается и бежит перед королем носов, который прет, как таран, и, словно бомбарду, катит свой нос на лафете.
Следует колесница Поста, императора рыбоедов.
Бледны, зелены, хмуры — тощие, дрожащие фигуры, в рясах и скуфьях или о рыбьих головах. Сколько рыб! У одного в каждой руке по карпу или по треске; у другого на вилке, вот, смотри, насажены пескари; у третьего на плечах щучья голова, изо рта у нее торчит плотва, и он разрешается от бремени, пилой вспарывая себе брюхо, полное рыб. У меня, глядя на них, резь в животе начинается… Другие, разинув пасть и запустив туда пальцы, чтобы ее распялить, давятся, запихивая себе в горло (Пить! Пить! Пить!) яйца, которые не пролезают. Справа и слева, с высоты колесницы — хари совиные, рясы длинные — удильщики тянут на лесках поварят, которые скачут, наподобие козлят, и хапают на лету, кому что попадет, — обсахаренный орешек или птичий помет. А сзади пляшет дьявол, одетый поваром; он мешает в кастрюле большой ложкой; гнусным варевом пичкает он шестерых босоногих грешников, которые идут гуськом, просунув между перекладин лестницы свои перекошенные физиономии в вязаных колпаках.
Но вот и триумфаторы, герои дня! На троне из окороков, под балдахином из копченых языков, появляется Колбасная королева, увенчанная цервелатами, в ожерелье из сосисок, которые она кокетливо перебирает своими мясистыми пальцами, окруженная гайдуками, белыми и черными колбасами, кламсийскими сосисками, которых Жирколбас, полковник, ведет к победе.
Вооруженные вертелами и шпиговальными иглами, они весьма внушительны, тучные и лоснящиеся. Люблю я также этих сановников, у которых вместо живота — котел или вместо туловища — запеченный паштет и которые несут, словно цари-волхвы, кто свиную голову, кто бутылку сладкого вина, кто дижонскую горчицу. При звуках меди и кимвалов, шумовок и противней выезжает, под общий хохот, верхом на осле, король рогачей, друг Плювьо. Венсан, это он, он избран! Сидя задом наперед, в высоком тюрбане, со стаканом в руке, он внимает своей гвардии, навербованной из сплавщиков, рогатым чертям, которые, с баграми и шестами на плечах, возвещают зычным голосом, на честном и откровенном французском языке, без всяких покровов, его славное житье и знаменитое бытье. Он, как мудрец, не выказывает при этом суетной гордости; равнодушный, он пьет, промачивает горло; но, поравнявшись с чьим-либо домом, прославленным той же участью, он восклицает, поднимая стакан: «Эй, собрат, за твое здоровье!»
Наконец, замыкая шествие, выступает красавица весна. Юная девица, розовая и радостная, с ясным челом, с волосами золотыми, мелким хмелем завитыми, в венке из скороспелок, цветочек желт и мелок, и перевязь у ней, вокруг маленьких грудей, из сережек зелененьких с орешников тоненьких.
Со звонким кошельком у пояса и с корзинкой в руках она поет, подняв светлые брови, широко раскрыв глаза, голубые, как бирюза, распяливая губки, показывая острые зубки, она поет ломким голоском, что скоро ласточка вернется в свой Дом. Рядом с ней на повозке, запряженной четверкой больших белых волов, дородные красотки в самой поре, славные молодухи, стройные и упругие телом, и подростки в невыгодном возрасте, которые, подобно молодым Деревцам, вытянулись как попало. У каждой чего-нибудь недостает; но тем, что имеется, волк закусил бы недурно… Милые дурнушки! У одних клетки в руках, полные перелетных птах, другие, черпая из корзины у королевы-весны, кидают ротозеям сласти, сюрпризы, бумажные тюки, в которых юбки и колпаки, предсказанный рок, любовный стишок, кусок пирога, а то и рога.
Доехав до рынка, возле башни, девицы соскакивают с колесницы и пляшут на площади с писцами и приказчиками, в то время как Масленица, Пост и король рогачей продолжают свое торжественное шествие, останавливаясь каждые двадцать шагов, чтобы поведать добрым людям истину или узреть ее на дне стакана…
Пить! Пить! Пить!
Не так же друзей отпустить!
Нет!
Среди бургундцев нет такого дурака,
Чтоб друга отпустил, не выпив с ним глотка.
Но от чрезмерной поливки язык тяжелеет и настроение подмокает. Моего приятеля Венсана с его свитой я покидаю у новой остановки, под сенью кабачка. День слишком хорош, чтобы сидеть в клетке. Надо подышать свежим воздухом!
Мой старый приятель, кюре Шамай, приехавший из своей деревни, в тележке с осликом, попировать у господина настоятеля церкви святого Мартына, приглашает меня прокатиться часть пути. Я беру с собой мою Глоди. Мы садимся в его трясучку. Пошел, длинноухий!.. Он такой маленький, что я предлагаю посадить его в тележку, между Глоди и мной… Тянется белая дорога. Дряхлое солнце дремлет; оно не столько греет нас, сколько само греется у камелька. Ослик засыпает тоже и останавливается, погруженный в думы. Кюре возмущенно окликает его своим колокольным голосом:
— Магдалинка! Ослик вздрагивает, перебирает ножками, виляет между колеями и снова останавливается в раздумье, не внемля никаким разносам.
— Ах, проклятый! Кабы не крест у тебя на спине, — ворчит Шамай, шпигуя ему палкой бедра, — изломал бы я дубинку о твой хребет!
Чтобы отдохнуть, мы делаем остановку у первой же харчевни, на повороте дороги, спускающейся оттуда к белому селению Арм, которое в зеркале вод острой мордочкой пьет. На соседнем лугу, вокруг высокого, раскидистого орешника, подымающего к лучистому небу свои черные руки и свой мощный оголенный остов, девушки ведут хоровод. Идем плясать!.. Это они принесли масленичный блин кумушке-сороке.
— Видишь, Глоди, видишь Марго-сороку, как она уселась в белом жилете, на краю гнезда, вон там высоко-высоко, и смотрит вниз! Ишь, любопытная!
Чтобы все подцепить своим круглым глазком и болтливым язычком, она построила себе дом без окон и дверей, на самой высокой из ветвей, открытый на все стороны. Она и зябнет, она и мокнет, ну так что? Зато ей все видно. Она не в духе, у нее такой вид, словно она говорит: «На что мне ваши подарки? Дурачье, уберите их вон! Или вы думаете, что если бы мне захотелось вашего блина, то я бы не сумела слетать за ним сама? Дареное есть невкусно. Я люблю только краденое».
— Тогда почему же, дедушка, дарят ей блин с этими красивыми лентами?
Почему поздравляют с праздником эту воровку?
— Потому что в жизни, видишь ли, со злыми лучше жить в ладу, чем с ними заводить вражду…
— Однако, Кола Брюньон, хорошему ты ее учишь! — ворчит кюре Шамай.
— Я ей не говорю, чтобы это было похвально, я только говорю, что так поступают все, и ты, кюре, первый. Выкатывай глаза! Когда тебе приходится иметь дело с какой-нибудь богомолкой, которая все видит, все знает, всюду сует нос, у которой рот набит злословьем, как мешок, да неужели же ты, чтобы ее унять, не заткнул бы ей клюв блинами?
— О господи, если бы это могло помочь! — восклицает кюре.
— Я Марго оклеветал, она лучше всякой женщины. Ее язык хоть иногда на что-нибудь полезен.
— А на что, дедушка?
— Когда подходит волк, она кричит…
И вдруг при этих словах сорока подымает крик. Она злится, она бранится, бьет крыльями, кружит в воздухе, осыпает поношениями кого-то или что-то там, в Армской долине. На лесной опушке ее пернатые кумовья, кукша Шарло и ворон Кола, отвечают ей таким же резким и раздраженным голосом. Люди смеются, люди кричат: «Волк! Волк!» Никто этому не верит. Все-таки идут взглянуть (верить — хорошо, видеть лучше)… И что же видят?
Батюшки мои! Отряд вооруженных людей, которые рысью поднимаются в гору.
Мы их узнаем. Это эти разбойники, везлэйские войска, которые, зная, что наш город никем не охраняется, решили застигнуть сороку (только не эту) в гнезде!..
Вы понимаете сами, что мы не теряем времени на их созерцание! Все кричат: «Спасайся, кто может!» Толкотня, давка. Улепетывают со всех ног, по дороге, через поля, кто стремглав, кто на обратной стороне собственной особы. Мы трое вскакиваем в тележку с осликом. Словно понимая, в чем дело, Магдалинка летит стрелой, подхлестываемая, что есть мочи, кюре Шамайем, который от волнения чувств начисто забыл про уважение, подобающее ослиной сидне, отмеченной знамением креста. Мы катим в потоке людей, которые орут, как зарезанные, и, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Кламси, опережая остальных беглецов. Мы мчимся вскачь, тележка громыхает, Магдалинка летит, кюре подгоняет, мы проносимся через Бейанское предместье, крича:
— Враг идет! Поначалу люди смеялись, глядя на нас. Но скоро они поняли. И тотчас же все превратилось словно в муравейник, куда воткнули палку. Всякий метался, выбегал, возвращался, опять выбегал. Мужчины вооружались, женщины укладывали пожитки, вещи громоздились на тачки, в корзины, все население предместья, покинув своих пенатов, хлынуло в город, под защиту стен; сплавщики, как были, в нарядах и личинах, рогатые, когтистые, пузатые, кто в виде Гаргантюа, кто в виде Вельзевула, бросились к бастионам, вооруженные баграми и острогами. Так что, когда авангард господ везлэйцев подошел к стенам, мосты были подняты, и по ту сторону рвов никого не оставалось, кроме нескольких горемык, которым терять было нечего, а потому нечего и спасать, да короля рогачей, нашего друга Плювьо, забытого своей свитой, который, накачавшись до горлышка и пьяный, как Ной, сопел на своем осле, держа его за хвост.
И вот тут-то и познается вся выгодность иметь своими врагами французов. Другие остолопы, немцы, швейцарцы или англичане, которые думают животом и соображают к троице то, что им скажешь постом, решили бы, что над ними глумятся; и я бы полушки не дал за шкуру бедного Плювьо. А у нас понимают друг друга с полуслова: откуда люди ни явись, из Иль-де-Франса или из Прованса, из Шампани или из Бретани, будь это гуси из Боса, ослы из Бона или зайцы из Везлэ, сколько бы они ни дрались, как бы ни старались, в хорошей шутке наш брат француз всегда находит вкус…
При виде нашего Силена весь неприятельский лагерь заржал, носом и ртом, глоткой и нутром, сердцем и животом. И, клянусь святым Геласием, видя, как они хохочут, мы сами лопались от смеха на своих бастионах. Затем мы начали обмениваться через рвы весьма забавной руганью; наподобие Аякса и Гектора троянского. Но только наши ругательства были на более нежном сале. Мне бы хотелось их записать, да некогда; и все-таки я их запишу (подождем!) в некий сборничек, куда я заношу вот уже двенадцать лет лучшие шутки, шалости и вольности, мною слышанные, сказанные или читанные (право, было бы жаль, если бы они пропали) за долгое мое скитание по этой юдоли слез. При одной мысли о них у меня трясется живот, и я посадил кляксу, вот эту вот.
Накричавшись вдоволь, надо было переходить к действиям (всякое действие после долгих речей отдохновительно). Ни у них, ни у нас особой к тому охоты не было. Их попытка не удалась: мы были за прикрытием; лезть на стены им не хотелось ни капельки: долго ли поломать себе кости?
Однако же надлежало во всяком случае что-нибудь предпринять, все равно что. Попалили порох, пощелкали: угодно — на, получай! Никто от этого не пострадал, кроме воробьев. Сидя, прислонясь к стене, в мирной тишине, мы ждали, чтобы пули угомонились, дабы пострелять и самим, хоть и не целясь (не следует слишком высовываться). Выглянуть решались, только когда слышно было, как вопят их пленники; там было с добрую дюжину бейанских мужчин и женщин, выстроенных в ряд, к городской стене не лицом, а тылом, и их пороли. Они орали благим матом, хотя беда была не так уж велика.
Мы, чтобы отомстить, надежно укрытые, прошествовали вдоль наших куртин, потрясая над стеной пиками с насаженными на них окороками, цервелатами и колбасами. Нам слышно было, как осаждающие рычат от ярости и вожделения.
Мы пришли в отличное расположение духа; и, чтобы использовать его вполне (когда затеял шутку, обглодай ее до косточек!), с наступлением вечера мы расставили под ясным небом на откосах, пользуясь стенами как ширмой, столы, нагруженные снедью и бутылками; мы сели пировать, с великим шумом, распевая и чокаясь за здравие широкой масленицы. Те чуть не полопались от бешенства. Так этот день прошел по-хорошему, без особого вреда, если не считать того, что один из наших, толстый Гено из Пуссо, пожелал, подвыпив, пройтись по стене со стаканом в руке, чтобы их подразнить, и ему из мушкета враги искрошили и стакан и мозги. И мы, с нашей стороны, покалечили одного или двоих, в ответ. Но нашего настроения это не омрачило. Известно, на всякой пирушке бывают разбитые кружки.
Шамай поджидал ночи, чтобы выбраться из города и вернуться к себе.
Как мы его ни уговаривали:
— Друг, это дело опасное. Лучше пережди. Бог позаботится о твоих прихожанах, — он отвечал:
— Мое место посреди моей паствы. Я господня рука; без меня бог будет однорук. А со мной он им не будет, я ручаюсь.
— Верю, верю, — сказал я, — ты это доказал, когда гугеноты осаждали твою колокольню и ты тяжелой булыгой укокошил их капитана Папифага.
— Нехристь был очень удивлен, — сказал Шамай. — И я не меньше. Я человек добрый и не люблю вида крови. Это отвратительно. Но черт его знает, что человек разбирает, когда все кругом теряют толк! Становишься сам как волк.
Я сказал:
— Это правда, стоит очутиться в толпе, как сразу лишаешься разумения.
Сто мудрецов родят дурака, а сто баранов — бирюка… Скажи-ка мне, кстати, кюре, каким образом примиряешь ты эти две морали — мораль отдельного человека, который живет с глазу на глаз со своей совестью и желает мира себе и другим, и мораль человеческих стад, государств, которые из войны и преступления делают доблесть? Которая из них от бога?
— Что за вопрос!.. Да обе. Все от бога.
— Тогда он сам не знает, чего хочет. Или, скорее, знать-то знает, да не может. Если ему приходится иметь дело с людьми в одиночку, то это просто; ему ничего не стоит заставить их слушаться. Но когда люди соберутся толпой, тогда богу не по себе. Что может один против всех? Тут человек предоставлен земле, матери своей, которая вселяет в него свой кровожадный дух… Помнишь сказку, где люди, по известным дням, становятся волками, а потом возвращаются в свою шкуру? Наши старые сказки знают больше, чем твой молитвенник, друг кюре. В государстве всякий человек выступает в своей волчьей шкуре. И сколько бы государства, и короли, и их министры ни рядились пастухами и ни выдавали себя, жулики, за родичей великого пастуха, твоего доброго пастыря, все они рыси, быки, пасти и животы, которые ничем не набьешь. А для чего? Для того, чтобы утолить безмерный голод земли.
Произведения
Критика