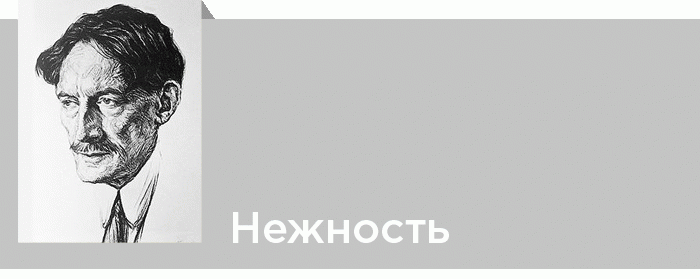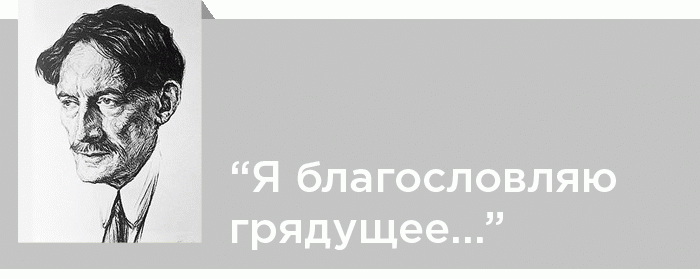Анри Барбюс. Ясность
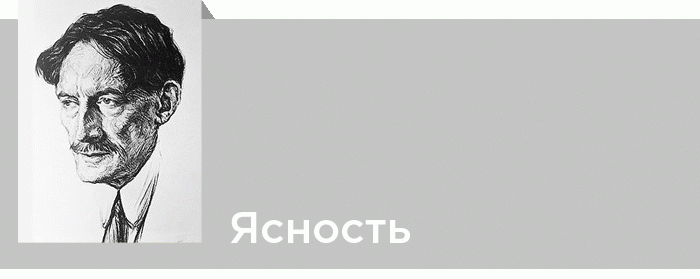
(Отрывок)
I
Я
Все дни недели схожи, от начала до конца.
Вечер. Часы тихонько бьют семь, и тотчас же оглушает колокол. Я закрываю книгу реестров, вытираю и прячу перо. Беру кашне и шляпу, бросив взгляд в зеркало, которое отражает правильный овал моего лица, блестящие волосы и тонкие усики (видно, что я не простой рабочий). Гашу лампу, спускаюсь из своей маленькой застекленной клетки. Прохожу котельный цех, где густая толпа все еще гудит от удара колокола-освободителя. Темная торопливая толпа растекается по коридорам и тучей несется по лестницам; несколько голосов меня окликают: «До свидания, Симон», — или менее фамильярно: «До свидания, господин Полэн». Я отвечаю тем и другим, и людской поток меня уносит.
Как только раскрывается наружная дверь, видишь голую равнину, тусклый горизонт и черные гигантские декорации; прямоугольные и треугольные формы заводских зданий и высокую погасшую трубу, которую увенчивает только облако нависшей ночи. Тяжелая лавина неприметно увлекает меня. Против ворот, вдоль стены, выстроились шеренгой женщины, они ждут; бескровные овечьи лица их смутно белеют в тени. В толпе они узнают своих, кланяются, окликают. Быстро соединяются пары. Я слежу глазами за рабочими: друг за другом идут они призрачной дорогой.
Эта бледная тропа ведет в открытое поле. Путь ее отмечен в пространстве рядами хилых деревьев, — они точно коптят, как погашенные свечи, — телеграфными столбами в бесконечной паутине проволок, кустарником или изгородями, похожими на скелет кустарника. Несколько домиков. Вверху, над редкими строениями пригорода, куда ползет грязная, выброшенная заводом толпа, еще брезжит светлая и желтая полоска неба. Западный ветер вздувает синие, черные или цвета земли блузы, треплет концы шерстяных шарфов и бьет звериным запахом в наши лица, затуманенные сумраком нависшего неба.
Здесь и там привлекают внимание кабаки. Двери заперты: но над дверями и в окнах стекла кажутся золотыми. Рядом с кабаками стоят старые, приземистые заброшенные дома, некоторые из них развалились и открыли путь небу в эту темную долину жилищ. Вокруг меня, на шоссе, ноги, подкованные железом, отбивают по утрамбованной земле глухую барабанную дробь, затем, на плитах тротуара, точно звенят цепями. Я шагаю, опустив голову, но не слышу своих шагов — так они сливаются с другими…
Как всегда вечерами, все спешат. В том месте, где среди чернильного пейзажа высокое погнувшееся дерево бьется, как живое, внезапно начинается спуск, ноги скользят. Внизу сверкают огни Вивье. Люди, изнуренные за день, спешат к этим земным звездам; вечерами надежды схожи, как и усталость: мы все одинаковы. Я тоже спешу к своему огню, как и все, как и всегда по вечерам.
* * *
Мы долго спускаемся, затем склон обрывается, дорога стелется, как река, и, расширяясь, входит в город. Сквозь ветви старых платанов, еще голых в этот последний мартовский день, видны рабочие бараки: фантастические шахматные доски с квадратами света на темном поле. Эти прямоугольные скалы поглощают наш муравейник. Люди, рассеиваясь среди колоннады сумеречных деревьев, исчезают в тесных квартирах и комнатах; они проникают в черные дыры — двери, проваливаются в дома, и там свет превращает их в тени.
А я все шагаю в кругу своих спутников, мастеров и служащих: я не знаюсь о рабочими. Затем прощаюсь и дальше иду один.
Силуэты прохожих исчезают; все реже скрипят замки и хлопают ставни; дома замкнулись, ночной город превращается в глубокую пустыню. Я слышу только свой шаг по земле.
Вивье делится на две части, как, впрочем, и большинство городов: богатая часть — Большая улица, «Гран-кафе», шикарные гостиницы, дома с лепными украшениями, церковь и замок на холме; другая часть — рабочие кварталы, куда я иду. Сеть улиц переходит в шоссе, застроенное по обе стороны рабочими бараками; оно ведет к плоскогорью, где стоит завод. Вот дорога, по которой за шесть лет службы у господ Гозлан я привык подыматься по утрам и спускаться, когда смеркается. Я корнями врос в этот квартал; в будущем я хотел бы жить в другой части города. Но между двумя частями города существует разрыв, наподобие границы; он всегда существовал и всегда будет существовать.
На улице Вер мне попался только фонарь, да из тени серой мышкой вынырнула девочка и снова нырнула в тень, не заметив меня; она вся поглощена караваем хлеба, который ее послали купить, она прижимает его к сердцу, как куклу. Улица Этап — моя улица. В полумраке за окном парикмахерской движутся светлые фигуры, отбрасывая черные силуэты на запотевший экран стекла. В ту минуту, когда я прохожу, стеклянная дверь с дугой надписи распахивается и под бритвенным тазиком, зазывающим прохожего своим позвякиванием, в широкой струе хлынувшего душистого света возникает сам Жюстен Покар; прощаясь с клиентом, он говорит что-то, и я успеваю заметить, как его клиент утвердительно кивает головой, а Покар, непогрешимый в своих суждениях, поглаживает светлой рукой свою вечно юную белокурую бороду.
Я миную бывшую мастерскую жестяных изделий; стены ее потрескались, покосились, облупились, и в запыленных окнах чернеют звезды пробоин. Немного дальше как будто промелькнула детская тень Антуанетт; у девочки болят глаза, и никак не удается их вылечить; но я не уверен, она ли это, и, не останавливаясь, вхожу в свой двор, как и всегда по вечерам.
Каждый вечер на моей дороге, как пограничный столб, маячит Крийон; он целый день возится с какой-нибудь мелкой починкой в дверях своей мастерской в глубине двора. Увидев меня, добряк-великан трясет своей головой в четырехугольной шапочке; у него широкое, бритое лицо с огромным носом и большими ушами. Он хлопает ладонями по кожаному фартуку, жесткому, как доска, тащит меня на улицу, притискивает к воротам и, понизив голос, убежденно говорит:
— Этот Петрарка — настоящий негодяй!
Он снимает шапочку, все энергичнее трясет лохматой головой, будто подметает сумрак, и добавляет:
— Я ему починил кошелек. Ну и рвань была! Я приладил застежку, она мне самому обошлась в тридцать сантимов. Так? Обшил кругом ремешком в плетеночку и все прочее. Сколько времени на такую работу уходит! Ну и что же? Я было заикнулся насчет его швейной машины — мне бы она пригодилась, а ему с ней нечего делать, так его и след простыл.
Он рассказывает о сумасшедших претензиях Тромсона из-за какой-то сборовки и о поведении г-на Бекре, который при всей своей почтенности обманул его доверие: за починку водосточной трубы заплатил ножом, который режет «все, что хочешь». Он перечисляет мне знаменательные случаи своей жизни. Затем говорит:
— Я человек небогатый, но добросовестный. Я занимаюсь мелкой починкой, потому что мой отец этим занимался и его отец тоже. Понятно, другие метят выше. Но я на этот счет другого мнения. Я делаю свое дело.
Вдруг слышится неистовый, учащающийся топот, и на мостовой показывается фигура; она направляется в нашу сторону рывками, едва держась на ногах, цепляясь сама за себя, движимая какой-то высшей силой. Кузнец Брисбиль пьян, как всегда.
Заметив нас, Брисбиль издает нечленораздельные звуки. Поравнявшись с нами, он приходит в замешательство, затем, пораженный какой-то мыслью, останавливается, стукнув о мостовую каблуками, как лошадь подковами. Он глазом измеряет высоту тротуара; но, взмахнув кулаком, проглатывает то, что хотел сказать, и, спотыкаясь, снова пускается в путь. Лицо его горит красными пятнами. От него пахнет ненавистью и вином.
— Ишь ты, анархист! — говорит Крийон брезгливо. — Ну, скажите-ка, разве это не омерзительные бредни, а?
И, протягивая мне руку, добавляет:
— Кто только избавит нас от него и его проспешников! До свидания… Я всегда твержу об этом в муниципальном совете. Я говорю: «Пора покончить с этой шайкой крамольников, раз они нарушают постановления против пьянства». Да куда там! В совете Жан Лятруй. Так? Они стоят за порядок, а как до дела коснется, ищи ветра в поле!
Добряк взбешен. Он грозит в пустоту мощным кулаком, похожим на сложный инструмент. Кивает в ту сторону, где скрылся, ковыляя, Брисбиль.
— Вот они каковы, социалисты! — говорит он. — Державный народ, державный народ, а сами на ногах не держатся! Если уж я и тяну эту лямку, так я ведь стою за спокойствие и порядок. Д'свиданья, д'свиданья… А как поживает тетушка Жозефина? Я за спокойствие, за свободу, за порядок. Недаром я всегда сторонился этой шайки. Недавно я видел тетушку; бежит, шустрая, как молоденькая; ой, заболтался я, заболтался!
Он направляется в свою каморку. Но нет. Оборачивается, окликает меня. Подзывает таинственным жестом.
— Слыхали? Наверху, в замке, все съехались…
Подобострастие понижает его голос: он уже видит владельцев замка и, прощаясь, низко мне кланяется — инстинктивно.
Мастерская его — узкая стеклянная клетка — доверчиво прижалась под крылышко нашего дома. Я вижу сквозь стекло мощную, топорную фигуру Крийона, он стоит перед останками каких-то механизмов, над которыми возвышается свеча. Свет падает на груду домашней утвари, на предметы, развешанные на стене, и окружает тусклым золотым орнаментом образ этого мудреца, душа которого не омрачена ни яростью протеста, ни завистью; он снова принимается за починку, как его отец и дед.
Я поднялся по ступенькам крыльца и толкнул нашу убогую дверь, на которой единственный выступ — ключ. Дверь со скрипом открывается и пропускает меня в темный коридор, где каменный пол постепенно превратился в дорожку от принесенной на подошвах земли. Ударяюсь лбом о лампу, висящую на стене; она погасла, облита керосином и воняет. Никогда этой лампы не видно, и постоянно на нее натыкаешься.
И я, спешивший, неизвестно зачем, домой, замедляю шаг. Каждый вечер, входя в дом, я переживаю нечто похожее на разочарование.
Прихожу в комнату, которая служит и кухней и столовой, и там же спит моя тетя. Комната погружена во мрак, почти непроглядный.
— Здравствуй, Мам.
Вздох, затем всхлипывание несется с кровати, темнеющей перед бледным квадратом неба в оконной раме.
Тогда я вспоминаю, что утром, после кофе, мы с тетей поссорились. Так случается два-три раза в неделю. На этот раз все вышло из-за испачканного стекла. Сегодня утром, выведенный из терпения неумолчным потоком ее жалоб, я сказал какую-то грубость и ушел, хлопнув дверью. Значит, Мам плакала весь день и, хлопоча по хозяйству, упивалась слезами. Затем, когда стемнело, она легла и погасила лампу, чтобы усугубить и подчеркнуть свою печаль.
Когда я вошел, она чистила впотьмах картофель; картофелины рассыпались и с глухим шумом перекатывались у меня под ногами среди разной утвари и тряпья, разбросанного по полу. Как только я вхожу, тетя моя разражается бурными слезами.
Не смея уже ничего сказать, я сажусь на свое обычное место в углу.
Я вижу, над кроватью, на занавесах, слегка затушевывающих окно, вырисовывается тощая, закутанная в простыню фигура, точно палка под полотном, ибо моя тетушка Жозефина — сама худоба.
В тишине она начинает понемногу подавать голос и причитать:
— У тебя нет сердца, нет, у тебя нет сердца, нет!.. Какое ужасное слово ты мне сказал… Ты сказал: «Заткнись!» Ах, люди не знают, что я терплю от тебя. Ах ты злюка! Ах ты грубиян!
Я молча слушаю эти слова, пропитанные слезами, капающими с ее лица, тусклым пятном расплывшимися по бесцветной подушке.
Встаю, опять сажусь, говорю несмело:
— Ну, довольно, ну, кончено же…
Она вскрикивает:
— Кончено? О нет! Никогда это не будет кончено!
Простыней, затененной сумраком, она зажимает рот, закрывает лицо и, вытирая глаза, свирепо качает головой, направо-налево, в знак того, что обида не забыта.
— Никогда! Такое слово, как ты мне сказал, навсегда разбивает сердце. Но все же мне надо встать, покормить тебя. Тебе ведь надо поесть. Я воспитывала тебя, когда ты был маленьким (голос ее срывается); я всем пожертвовала ради тебя, а ты обращаешься со мной, как с негодяйкой.
Я слышу стук ее босых ног, точно по плитам пола бегут два ящичка. Глотая слезы, она ищет одежду, раскиданную по кровати и соскользнувшую на пол. Она стоит, сливаясь с темнотой. Но все же я иногда отчетливо вижу ее необычайно узкий силуэт. Она надевает лиф, кофту, и передо мной призрачным видением мелькают белые и темные ткани, руки, тонкие, как плети, острые, костлявые плечи.
Одеваясь, она разговаривает сама с собой, и понемногу вся моя история, все мое прошлое встает в словах бедной женщины, единственного близкого мне существа, которое для меня и мать и служанка.
Она чиркает спичкой. Из темноты возникает лампа и зигзагами кружит по комнате, как домашняя фея. Тетя моя в кольце живого света; глаза у нее навыкате, веки припухшие, дряблые, большой рот шевелится, точно она жует и пережевывает свою печаль. Слезы подчеркивают выпуклость ее глаз, наделяют их блеском и покрывают глянцем острые скулы. Она ходит взад и вперед, предаваясь без устали мрачным мыслям. Морщины избороздили ее лицо, кожа у подбородка и на шее в глубоких складках, извилистых, точно кишки, и в резком свете все это кажется слегка окрашенным кровью.
Теперь, при зажженной лампе, углы темной берлоги, где мы хоронимся, понемногу выступают: матрацный тик, прибитый двумя гвоздями у окна в защиту от сквозняков; мраморная доска комода, украшенная бахромой пыли; замочная скважина, заткнутая бумагой.
Лампа коптит; не придумав, где ее поставить в загроможденной комнате, Мам ставит ее на пол и, присев на корточки, оправляет фитиль. От стараний старушки, окропленной багрянцем и чернотой, взвивается и падает парашютом клуб черного дыма. Мам вздыхает. Она не в силах молчать.
— Ты, мой милый, — говорит она, — можешь быть таким вежливым, когда захочешь; ты зарабатываешь сто восемьдесят франков в месяц… Ты образованный, но ты слишком пренебрегаешь правилами приличия. За это все тебя осуждают. Ну вот, например, ты плюнул на стекло, я это знаю; голову готова дать на отсечение. А тебе ведь уже двадцать четвертый год! И в отместку за то, что я это заметила, ты мне кричишь, чтобы я заткнула глотку, да, да, ты мне это сказал. Ах, какой ты хулиган! Господа с завода очень хорошо к тебе относятся. Твой бедный отец был их лучшим работником. Ты образованнее своего отца, больше похож на англичанина, и ты захотел пойти по коммерции и не стал изучать латынь, и за это тебя все одобрили, но в работе, ах — нет, нет! далеко тебе до отца. Сознайся — ты плюнул на стекло?..
— Потому что твоя бедная мама, — горячится призрак Мам, пересекая комнату с деревянной ложкой в руке, — надо сказать, любила наряды. Это не беда, особенно для того, у кого есть на что наряжаться. Она всегда была ребенком. Да и то сказать, было ей всего двадцать шесть лет, когда ее взяла земля. Ах, как она любила шляпки! Но все же у нее были хорошие стороны, ведь это она сказала мне: «Переезжайте к нам, Жозефина!» И вот, я тебя воспитала, и я всем пожертвовала…
Мам замолкает и прерывает свое занятие, переживая прошлое. Она задыхается, трясет головой и вытирает лицо рукавом.
Я говорю несмело:
— Но я ведь знаю…
В ответ раздается вздох. Она разжигает огонь. Клуб дыма взлетает, ширится, стелется по плите, затягивает кисеей пол. Мам возится у огня, ноги ее в дымном облаке, и тусклые седые волосы выбиваются из-под черного чепца струйками дыма.
Она ищет носовой платок, ощупывает карманы пальцами в черном бархате сажи. Затем передвигает кастрюли, стоя ко мне спиной.
— Отец господина Крийона, — говорит она, — старый Доминик, переселился сюда из Шербура в шестьдесят шестом или шестьдесят седьмом году. Он толковый человек, раз уж он муниципальный советник. (Надо ему деликатно намекнуть, чтобы он убрал свои лохани от двери.) Господин Бонеас очень богатый и прекрасно говорит, хотя у него и больная шея. Вот и нужно тебе хорошенько зарекомендовать себя перед этими господами. Ты образованный, тебе уже платят сто восемьдесят франков в месяц; досадно, что у тебя нет никакого значка, по которому было бы видно, когда ты входишь или выходишь с завода, что ты канцелярист, а не рабочий.
— Это и так видно…
— Но все же со значком лучше.
Глубокие, всхлипывающие вздохи. Мам все сильнее, все настойчивее шмыгает носом, ищет повсюду носовой платок. Она снует с лампой. Я слежу за ней глазами, комната понемногу просыпается. Взгляд мой снова нащупывает каменные плиты пола, спинки стульев, прижавшихся к стене; бледный прямоугольник окна в глубине над кроватью, низкой и раздувшейся, похожей на кучу земли и гипса; разную рухлядь, раскиданную на полу, напоминающем взрытую кротом землю; горшки, бутыли, котелки, тряпки, свисающие с полок и столов; замочную скважину, похожую на ухо, заткнутое ватой.
— Я так люблю порядок, — говорит Мам, лавируя среди этого хлама, запорошенного пушистой пылью, как углы картины, писанной пастелью.
По привычке я вытягиваю ноги, ставлю их на скамеечку; от старости она лоснится и блестит, словно новенькая. Я поворачиваю голову вслед тощему призраку моей тети, и меня убаюкивают ее движения и неумолчная воркотня.
Но вот она подходит ко мне. Полосатая, серая с белым, кофта висит на ее острых плечах; она обнимает меня за шею и, вся дрожа, говорит:
— При твоих дарованиях ты можешь далеко пойти! Быть может, когда-нибудь ты откроешь людям правду. Это бывало. Были люди, которые открывали глаза миру. Почему бы тебе, мой милый, не быть великим глашатаем!
И голова ее слегка трясется, и слезы еще не высохли, а она смотрит вдаль и видит: я говорю на улицах, и люди слушают меня!
* * *
Не успело это странное заклинание отзвучать в нашей кухне, как Мам, глядя мне в глаза, говорит:
— Мой милый, не заносись слишком высоко. Ты уже смолоду домосед, у тебя привычки солидного, пожилого человека. Это хорошо. Берегись быть не похожим на других.
— Ну, Мам, этого нечего бояться.
Нет, этого нечего бояться. Я хотел бы остаться таким, какой я есть. Что-то привязывает меня к окружению моего детства и юности, и я хотел бы, чтобы все осталось, как оно есть навсегда. Конечно, я многого жду от жизни; я надеюсь, я живу надеждой, как все; я даже не знаю хорошенько, чего я жду, но я не хотел бы слишком больших перемен. В глубине сердца я хотел бы, чтобы ничто не тронуло ни печки, ни крана, ни коричневого шкафа, ничто не изменило условий моего привычного вечернего отдыха.
* * *
Тетушка моя, растопив печь, разогревает рагу, помешивая его деревянной ложкой. Огонек иногда вспыхивает, и скудный свет лохмотьями падает на нее.
Я встаю, заглядываю в кастрюлю. Соус шипит; в нем плавают бледные кусочки картофеля и редкие, скользкие ломтики лука. Мам наполняет глубокую белую тарелку.
— Это тебе, — говорит она. — А мне много ли надо?
Мы садимся друг против друга за маленький, грязноватый стол. Мам шарит по карманам. Темная рука ее, худая и узловатая, с трудом выбирается обратно; она извлекает из кармана кусочек сыра. Мам слегка скоблит его ножом, который держит за лезвие, и не спеша съедает крошки. При свете лампы, стоящей возле нас, я вижу, что лицо ее еще не обсохло; светлая капля застыла и блестит на щеке, припухающей от каждого нового куска. Большой рот ее движется во все стороны и время от времени проглатывает слезы.
Мы сидим перед своими тарелками; и соль насыпана на клочке бумаги, и моя порция варенья положена в горчичницу; мы сидим близко, лбы наши и руки соединены светом, остальное одето унылым мраком. Сидя на этом продавленном кресле, положив руки на шаткий стол, который сразу же начинает хромать, если налечь на одну сторону, я чувствую, что глубоко врос в эту старую комнату, неряшливую, как запущенный сад, где в ласковой тени вы тихонько покрываетесь пылью.
После еды разговор затихает. Затем Мам снова начинает ворчать и еще раз расстраивается; и на ее выразительной японской маске, под короной белых, как вата, волос, при свете хрипящей керосиновой лампы, ее глаза еще раз увлажняются, излучая неяркий свет.
Слезы старой сентиментальной волшебницы капают на ее толстые губы. Она наклоняется ко мне, и близость наша так глубока, что мне кажется, будто она ко мне прикасается.
Кроме нее, нет никого на свете, кто бы меня по-настоящему любил. Невзирая на ее несносный характер и воркотню, я хорошо знаю, что она всегда права.
* * *
Я зеваю, а Мам убирает грязные тарелки куда-то в темный угол. Она наливает из кувшина воду в таз для мытья посуды и тащит его на плиту.
Антони назначила мне свидание у киоска, в восемь часов. Уже десять минут девятого. Выхожу. Коридор, крыльцо, двор. В темноте знакомые предметы обступают меня, а сами прячутся. Рассеянный свет еще реет в небе. За грудой лоханей призматическая будка Крийона рубином горит в ночной тьме. Крийон никогда не сидит без дела, он обтачивает какую-то вещицу, затем рассматривает свою работу при свече; пламя ее трепыхается, как мотылек, попавший в смолу; Крийон протягивает руку к горшку с клеем, который разогревается на таганке. Я вижу его безмятежное, сосредоточенное лицо ремесленника доброго старого времени, черные пятна небритых щек и нависшее из-под шапочки забрало прямых волос. Он кашляет и стекла окон дребезжат.
На улице мрак, тишина. Но вот показываются фигуры, люди выходят из домов или возвращаются, изредка слышны голоса. За окнами зажигаются и гаснут огни. В двух шагах от меня промелькнул и скрылся за углом, точно в землю провалился, Жозеф Бонеас; я узнал белый плотный фуляр, прикрывающий фурункулы на его шее. Когда я прохожу мимо парикмахерской, снова распахивается дверь. Вкрадчивый голос говорит: «В делах вся загвоздка в этом». — «Само собой!» — отвечает клиент и исчезает в темноте; я успеваю только заметить, что он мал ростом. Но это, верно, важная особа: г-н Покар вечно занят широкими планами. Немного дальше, в глубине норы, за решетчатым окном, я смутно различаю силуэт дяди Эйдо — птицы несчастья; этот странный старик всегда кашляет, вечно причитает, и один глаз у него больной. Даже дома он не снимает своей мрачной пелерины и не откидывает абажура-капюшона. Его считают шпионом, и, по-моему, не без основания.
Вот и киоск. Он ждет в одиночестве, острый шпиль его вонзается в темноту. Антони не пришла: она подождала бы меня. Минутное чувство досады сменяется радостью. Не к лучшему ли?
Конечно, Антони еще привлекательна, когда ее видишь. Страсть зажигает в ее глазах золотистые искры, ее худоба опаляет. Но я не лажу с этой итальянкой. Она поглощена своими делами, а мне на них наплевать. Во сто раз милее покладистая толстуха Викторин или мечтательная и порочная г-жа Лакайль, — впрочем, и этой я сыт по горло. Признаться, я очертя голову бросаюсь в кутерьму любовных историй, потом раскаиваюсь. Но я никогда не могу устоять против волшебного искушения первого раза.
е буду ждать. Ухожу. Миную кузницу мерзкого Брисбиля. Это последний дом в цепи низких холмов, образующих улицу. В глубоком мраке окно кузницы проступает из-под черного переплета решетки огненным, ярко-оранжевым пятном. На этом листе клетчатого света мечется, то черный и четкий, то бледный и расплывчатый, развинченный силуэт кузнеца. Среди этой иллюминации зловещий призрак беснуется над наковальней в слепом и неуклюжем неистовстве. Он раскачивается — направо, налево, — точно плывет в какой-то адской ладье. Чем он пьянее; тем яростнее сражается с железом и огнем.
Возвращаюсь домой. И когда я уже подхожу к воротам, меня робко окликают:
— Симон…
Антони. Тем хуже для нее. Ускоряю шаг и долго еще слышу ее шепот.
Подымаюсь в свою комнату. Комната пустая и холодная, и стоит мне вспомнить ее, я всегда дрожу. Затворяя ставни, я вижу улицу: густая чернота покатых крыш с бесконечными трубами, четкими на светлой черноте пространства, несколько молочно-белых окон, и на заднем плане этой угрюмой зубчатой декорации багровый призрак безумного кузнеца. Еще дальше, в лощине, я вижу крест колокольни и высоко-высоко, на холме, ярко освещенный замок — великолепная корона драгоценных камней. Взгляд, разбегаясь, теряется в этих черных развалинах, где скрыто множество мужчин и женщин, незнакомых, но подобных мне.
Произведения
Критика