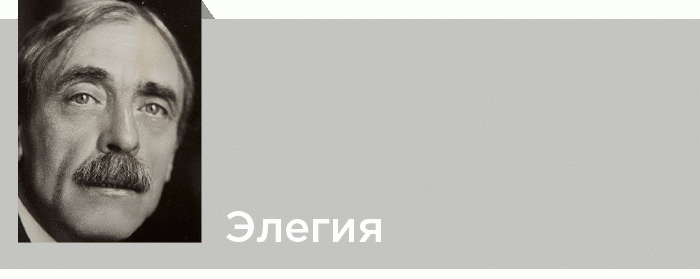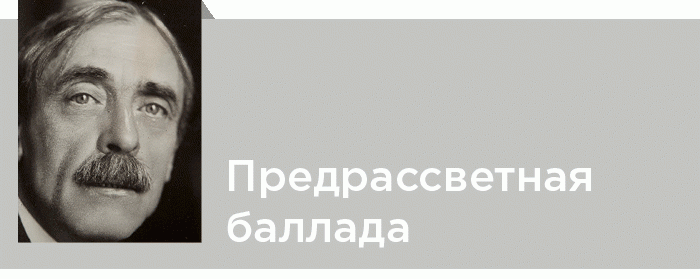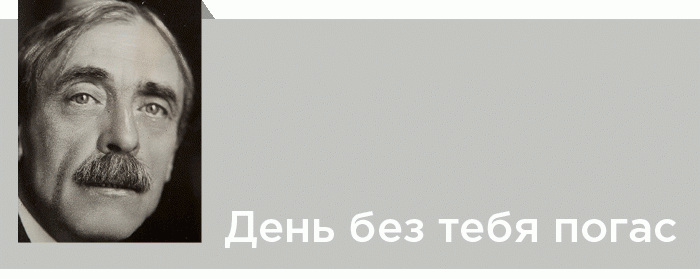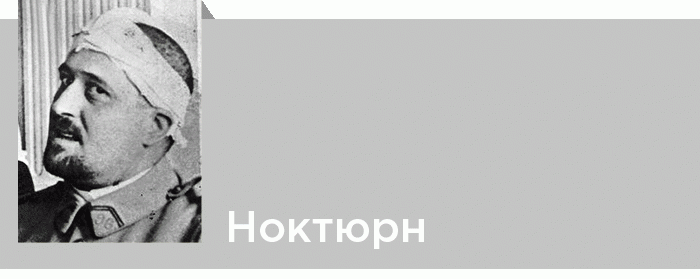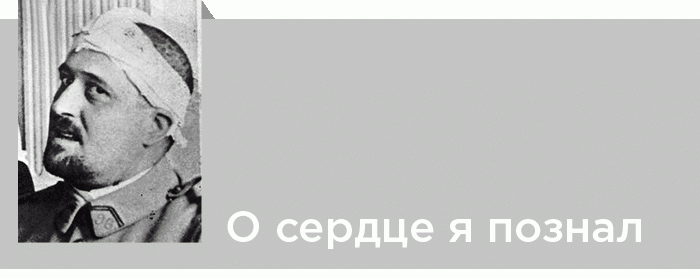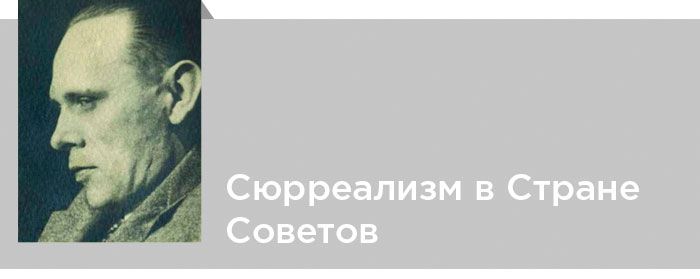Гийом Аполлинер и современность

Н. Балашов
Аполлинер ушел из жизни более сорока лет назад, но с его творчеством связана значительная, продолжающаяся до наших дней, эпоха французской поэзии. От Аполлинера, того самого Аполлинера, который дал толчок многим модернистским исканиям двадцатых годов, берет начало и животворный импульс, облегчивший передовой французской поэзии последующих десятилетий обращение к большой общественной проблематике. Сложное творчество Аполлинера, слагавшееся в трудное время перепутья, оборванное трагической кончиной в ноябре 1918 года, заключало в себе не только модернистские тенденции, но также реалистические элементы, выявившиеся и практически послужившие особенно в сороковые-пятидесятые годы. Эти реалистические элементы, воспринятые и преображенные Элюаром, Арагоном, Десносом, Марсенаком и другими прогрессивными поэтами, сыграли важную роль в поисках путей к социалистическому реализму во французской поэзии.
Передовые французские поэты дорожат и гордятся наследием Аполлинера. Арагон, обращаясь к молодежи, следующим образом разъяснял значение Аполлинера для развития реализма во французской поэзии сегодняшнего дня: «Он призвал к поэтической жизни конкретные черты современности и слова, никогда ранее не имевшие доступа в стих, распахнув тем самым шлюзы жизни и осуществив непосредственное взаимопроникновение разговорного и книжного языка...»
«Аполлинер встречает нас там, — писал в 1948 году Жан Марсенак, — где поэты идут в сомкнутом строю с людьми, с историей». Аполлинер, приветствовавший Октябрьскую революцию, мог быть старшим участником процесса сближения французской поэзии с жизнью нации, начавшегося с тридцатых годов: только недавно, 26 августа I960 года, исполнилось восемьдесят лет со дня рождения поэта.
Но, говоря о роли, которую сыграла поэзия Аполлинера в реалистическом обновлении современной французской поэзии, нельзя упускать из виду, что потребовалось чуть ли не два десятка лет, чтобы раскрылось самое положительное в его творчестве. Повинны в этом, конечно, не только сложные обстоятельства развития французской поэзии, но и то, что он сам, часто не разбираясь в общественной обстановке, оставил противоречивые высказывания об искусстве, да и в своих стихах многого не договорил и не додумал.
Значительная часть стихов Аполлинера, помещенных в разных журналах либо вообще оставшихся в рукописи, была издана только посмертно. А первое собрание стихотворений Аполлинера — одного из тех немногих поэтов, печатью которых, по выражению Арагона, означено чело двадцатого века, — было осуществлено, когда век этот уже наполовину прошел: в 1956 году! До выхода этого издания, тщательно подготовленного французскими учеными Лдема и Декоденом, нельзя было охватить идейное и художественное богатство Аполлинеровой поэзии. Долгие годы творчество Аполлинера рассматривалось в тех ракурсах, в которых его видели почитатели, зачастую сужавшие в духе модернистских представлении творчество большого поэта.
Гийом Аполлинер, как когда-то Франсуа Вийон, сросся с Францией, с Парижем; но национальный французский поэт, он не был французом перед законом. В течение всей жизни Аполлинер находился в бесправном положении человека без родины. Французское гражданство поэт получил на фронте, 9 марта 1916 года, за неделю до ранения.
Настоящее имя Аполлинера — Вильгельм-Альберт-Владимир-Александр-Аполлинарий Костровицкий. Он родился в Риме и числился российским подданным. Аполлинер был внебрачным ребенком Ангелики Костровицкой, дочери польского офицера, эмигрировавшего из России после поражения восстания 1863 года. Только в 1959 году польскому литературоведу Анатолю Стерну удалось собрать данные, позволяющие предполагать, что Аполлинер по отцу был правнуком Наполеона I.
Если Гийом Аполлинер и не был правнуком Наполеона, то он верил в семейное предание. Особой симпатии к прадеду Аполлинер не испытывал, но историю Франции видел глазами стендалевских героев и с наивной симпатией относился к знамени Третьей республики, которое долго представлялось ему овеянным ореолом былых революционных войн Франции.
Костровицкая приехала в Париж, когда Вильгельму было двадцать лет. Он рвался к литературной деятельности, был бунтарски настроен. Юный поэт сочувствовал анархистам, был на стороне дрейфусаров, писал революционные стихи, которые чаще всего не удавалось печатать (например, стихотворение «Пролетарию», написанное около 1902 года, было опубликовано в 1952 году!).
Но жизнь не дала хода этим бунтарским порывам. В Париже Вильгельм оказался совершенно изолированным, одиноким. Полицейские формальности, которые пришлось претерпеть по переезде, напоминали о бесправном положении и об угрозе высылки. Вильгельму пришлось начинать с работы конторщика. Долгие годы это было самое «продуктивное» занятие поэта. В 1901-1902 гг. Вильгельм в качестве домашнего учителя в одной богатой семье ездил на Рейн и дальше по Германии и Австро-Венгрии. В печати появляются его первые стихотворения и рассказы, один из которых в марте 1902 года был впервые подписан: Гийом Аполлинер. В эти годы никому не известный Аполлинер уже создал замечательные поэтические произведения: это прежде всего «Ветер Рейна» и «Песнь несчастного в любви». Рейнские стихи, героям которых были простые люди, вобрал в себя живость и непосредственность народной песни, высокую патетичность французских поэтов девятнадцатого века в соединении с некоторыми отзвуками иронии немецких романтиков. Представление о «Ветре Рейна» может дать известное стихотворение «Лорелея».
Эти стихи были новы не только формальной новизной, но и особым аполлинеровским сочетанием восторженности, трагизма и простой человечности.
В примыкающем к рейнскому циклу стихотворении об опустившейся девушке и; Кельна Аполлинер писал:
Самых разных людей я знаю,
Не распутать судьбы их нить:
Листья мертвые, мгла сырая,
А глаза могут пламя таить
И сердца трепетать пылая.
И все же рейнские стихотворения, несмотря на всю свою оригинальность, были скорее последним аккордом романтический поэзии девятнадцатого века, чем начало новой поэтической эпохи. Они отражали не столько бунтарство, сколько вынужденное отступление одинокого поэта перед неумолимым натиском действительности буржуазного мира. А Аполлинер мечтал о новом. Однако во Франции девятисотых годов, с тенденциями, преобладавшими в поэзии того времени, в том окружении, в котором оказался поэт среди изолированной от народа артистической богемы, его новаторство на первых порах сбивалось на путь модернизма.
Приход Аполлинера к модернизму, однако, мог принести сторонникам этого течения лишь иллюзорную радость. Поэт, не мирившийся с несправедливым и отжившим, метавший, чтобы технические достижения служили свободному человеку, должен был на известном этапе разойтись с модернизме, как с замкнутым, далеким от общественных проблем течением.
Для судеб французского искусства двадцатого века немалое значение имела завязавшаяся в 1904 году дружба между Аполлинером и Пикассо. В поисках нового Пикассо и Аполлинер выступили в те годы как инициаторы кубистского эксперимента. Аполлинер ошибочно видел в кубизме направление, способное в области искусства равняться с современными достижениями точных наук в анализе и синтезе. Он предполагал, что кубизм способен доискаться сущности вещей, и одно время верил, что этот метод заменит перспективу (нечто поверхностное, имеющее, дескать, дело с оптическим обманом) четвертым измерением, позволяющим проникнуть в суть вещей. На известном (довольно кратком) этапе Аполлинеру казалось, будто художник-кубист творит эскиз нового, более человечного, чем данная действительность, мира. Аполлинер, вслед за Пикассо, вполне искренне думал, что кубисты придут к активно воздействующему на мир искусству...
К кубизму Аполлинер довольно быстро остыл, но пока что с увлечением стремился произвести аналогичную ломку в своей поэзии. Годы 1906-1910 — это годы создания самых модернистских и самых темных его стихотворений. Так продолжалось примерно до 1911-1912 годов, когда Аполлинер стал отходить от модернистских абстракций. Этому способствовало волновавшее поэта общее обострение политической ситуации во Франции в 1911-1914 годах.
[…]
В 1911 году работа Аполлинера была неожиданно прервана. Он был арестован по дикому обвинению в похищении из Лувра «Джоконды» Леонардо да Винчи. Дело было настолько нелепым, что через неделю Аполлинера выпустили. Однако его оставили под следствием еще на четыре месяца, за которые пресса успела высказать ему много «приятного», включая предложение изгнать его из Франции, как чужеземца.
В это время Аполлинер завершал работу над важнейшим сборником стихотворений, который ему удалось издать в 1913 году. Книгу после некоторых колебаний Аполлинер озаглавил «Алкоголи», в знак того, что жизнь двадцатого века жгуча, как спирт.
«Алкоголи» состоят из стихов разных лет, среди которых можно выделить три важнейшие группы: «романтические» рейнские стихи и «Песнь несчастного в любви»; стихи середины девятисотых годов — периода модернистских экспериментов и наибольшего увлечения кубизмом; наконец, лирико-эпические стихотворения начала десятых годов, общественная содержательность которых привела к усилению реалистической тенденции.
Модернистский эксперимент сильнее всего дает себя знать в сложных стихотворениях-сюитах 1908 года «Костер» и «Помолвка» (посвящено Пикассо). Аполлинер, по его словам, стремился в них к «лиричности — новой и в то же время гуманистической». Однако в те годы это ему не всегда удавалось. Поиски формальной новизны, усложненность и разорванность образов, немелодичность ритмов — все это препятствовало осуществлению гуманистических идей, обнаруживало, что в данное время эти идеи были у Аполлинера расплывчаты и неопределенны. Однако человечность поэта прорывается даже в «Помолвке»:
Простите невежество мне.
Простите, что больше не знаю
старинной игры стихотворной.
Ничего я больше не знаю и только люблю.
Лицо книги «Алкоголи» определяют поздние, написанные около 1912 года стихотворения — «Зона», «Мост Мирабо», «Вандемьер», «В тюрьме Санте», «Кортеж», «Путешественник», «1909». В них свойственная Аполлинеру лиричность сочетается с общим с Сандраром и Сальмоном тех лет стремлением к определенному сюжету, к эпическому размаху, к смелому, широкому захвату значительных тем; тяга к современному выражается не только в поисках неожиданных аспектов, но и прямо в изображении современности; отчетливо выражен интерес к труду и к технике.
Конечно, и эти стихи связаны с предыдущими модернистскими исканиями: в них часто отсутствует логическая последовательность, а внутренняя композиция заменяется параллельным, одновременным изложением различных тем. Стремясь к непосредственности в воспроизведении действительности, поэт иногда передает деталь импрессионистически, «как она есть», без типизации. Как раз в конце 1912 года Аполлинер отказался от пунктуации в стихах, продолжая (бессознательно, быть может) символистскую тенденцию к многозначности, неопределенности стиха. Мы говорим — бессознательно, потому что Аполлинер отрицательно относился к символистским стремлениям уйти от действительной жизни. Свой отказ от знаков препинания поэт объяснял тем, что «подлинная пунктуация — это ритм и паузы стиха». Отказ от знаков препинания получил широкое распространение в современной французской поэзии (Элюар, Арагон и другие).
Среди лирико-эпических поздних пьес книги «Алкоголи» лирическое начало ярче всего выразилось в стихотворении «Мост Мирабо», поющем о любви, уходящей безвозвратно, как Сена под парижскими мостами, и о любви и надежде, столь же неиссякаемых и неукротимых, как эти усталые от взглядов влюбленных, но непрерывно текущие воды Сены:
Под мостом Мирабо тихо Сена течет
И уносит нашу любовь...
Я должен помнить: печаль пройдет
И снова радость придет
Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.
Впоследствии было установлено, что Аполлинер не то намеренно, не то в силу смутных реминисценций воспроизвел в этом стихотворении ритмический рисунок ткацкой песни XIII века («Gaiete et Oriour»). К этому нужно добавить, что Аполлинер воспринял и дух народных песен: он также просто и с такой же сосредоточенной серьезностью поет о любви, как напевали за ткацким станком французские женщины, размышляя о счастье и о разлуке с возлюбленным. В «Мосте Мирабо» нехитрые слова и образы повествования в единстве с захватывающим ритмом создают особо сильное лирическое воздействие. После народных песен, после Вийона очень немногие французские поэты, Жерар де Нерваль, например, творили песни такой лирической интенсивности. Урок Аполлинера был воспринят поэзией Сопротивления: «Мост Мирабо» соединил ее со старинной народной традицией, без «Моста Мирабо» иначе и глуше звучали бы некоторые стихотворения книги Арагона «Нож в сердце», многие стихи Десноса и, может быть, не было бы в их настоящем виде стихов-песен греческого и испанского циклов Элюара.
Еще более неповторимо аполлинеровским по идеям, образной структуре, интонациям является стихотворение «Зона», открывающее книгу «Алкоголи». Оно представляет собой свободный, иногда иронический диалог Аполлинера с самим собой; в этот диалог вмонтированы, словно кадры в кинохронике, важнейшие события жизни поэта. «Зона», как и большинство стихотворений, созданных около 1912 года, устремлена вперед, исполнена ожиданий. «Смутные ожидания», о которых говорится в «Зоне», сродни «неистовой надежде» (какое необычайное сочетание понятий!), высказанной в «Мосте Мирабо», но еще не имеют явной революционной окраски, которую они приобретают год спустя в «Вандемьере».
Аполлинер обращает свой взор к новым рабочим кварталам предместий, к так называемой Зоне Парижа:
Ты от старого мира устал, наконец.
Пастушка, о башня Эйфеля! Мосты в это утро блеют, как стадо овец.
Тебе надоела античность, ты жил среди римлян и греков
Автомобили и те здесь кажутся чем-то отставшим от века.
Одна религия новой осталась. И духу эпохи верна.
Проста, как ангары авиапорта она.
В Европе только христианство не покрывается пылью.
Из всех европейцев вы, Пий X, ближе других к современному стилю.
Не нужно доверять Аполлинеру, когда он говорит любезности папе или произносит похвалы христианству: за такими словами прячется веселая ирония.
Христос, лучше летчиков на небеса поднимаешься ты.
Побивая мировой рекорд высоты.
Аполлинер хотел быть современным, в этот период быть современным означало для него любить жизнь большого города:
Этим утром я улицу видел, названье которой запомнить не смог,
Трубило солнце в нее, как в сверкающий рог.
Машинистки, рабочие и управляющие с понедельника и до субботы
Там четыре раза на дню на работу идут и с работы.
Троекратно сирена там стоп издает по утрам,
В полдень лает взбесившийся колокол там,
И афиши, вывески, стены, рекламы,
Как попугаи, кричат упрямо.
Я люблю красоту промышленной улицы этой,
Что в Париже между Омон-Тьевиль и авеню де Терн находится где-то.
Перед Аполлинером проносятся воспоминания, которые он приводит беспорядочно, как они возникают. Среди них есть весьма неприятные: Аполлинер в Париже перед следователем — его арестовывают как преступника. Теме соответствует форма — неслыханные, почти не поддающиеся переводу прозаизмы в рифмах.
Как многие стихотворения времени «неистовых надежд», «Зона» заканчивается картиной утра, «прозаизированной» как раз в той степени, в какой здесь это нужно для конкретности и подлинной поэтичности: «Ты идешь один. Вот-вот наступит утро. На улице молочники уже гремят бидонами».
Аполлинер в стихах лирико-эпического цикла прост, иногда намеренно угловат. Ему противен высший свет и салонная литература с ее подобострастием перед светской крикливостью и роскошью. В стихотворении «1909» Аполлинер изобразил высший свет как «пену», «накипь» в сравнении с трудовым народом. Поэту дороги «умелые люди машин».
Аполлинер верил, что его поэзия складывается из творчества миллионов — «из роз, которые приносят люди бесчисленных народностей, из слов, которые они придумывают на жизненном пути». В стихотворении «Кортеж», откуда взяты эти образы, поэт, предваряя современную французскую прогрессивную поэзию, пишет, что у него нет ничего, что бы не было создано народами:
Наподобие башни меня не спеша воздвигали.
Толпились народы, и вот наконец я возник,
Сотворенный из тел и деяний людских.
Поэту даже казалось, что он слился с потоком жизни, растворился в нем и что ему будто бы эпос дается легче, чем лирика.
На самом деле Аполлинер оставался лириком, только в его лирику действительно входило много общезначимого, и произведения, которые у других французских поэтов тех лет вышли бы камерными, у Аполлинера приобретали размах симфонии. В стихотворении «Путешественник» Аполлинер пишет о верности в любви, но в нескольких словах полунамеком набрасывает притчу о трогательной верности в дружбе двух матросов, не оставлявших друг друга до самой смерти. Тема верности в большом плане всегда была близка Аполлинеру. Еще в «Песне несчастного в любви» она породила у него далекие непредвиденные ассоциации, привела к усилению эпического начала. Поэт писал, что он верен,
Как верны запорожские казаки,
Набожные в грабеже и драке,
Вере родной и степям.
Султан им писал «придите,
Склонитесь скорей предо мной...»
Они встретили смехом посланье
И ответили тотчас ему
При огарка тусклом мерцанье.
Перевод И. Эренбурга
В последнем стихотворении книги «Алкоголи» — «Вандемьер» — Аполлинер выходит на широкий простор: сентябрьский Париж, хмельной от сознания созревших сил, ведет разговор с городами всей Франции. Это прямой разговор народа с народом, как во времена революции 1789-1794 гг. Каждая провинция готова, чем может, поддержать Париж — «средоточие живого разума страны».
Громче всех раздается мужественная речь пролетарских городов Севера:
И на Севере слышен ответ городов:
Вот и мы, о Париж! Мы истоки живые
Города, где поют и горланят святые,
Из металла святые заводов священных:
Наши трубы под небом — и тучи
брюхаты от дыма. Словно вновь
Иксиом механический ожил.
Бесчисленны руки у нас:
Мастерские, заводы и фабрики — руки.
Где рабочие, пальцами нашими став,
Фабрикуют реальность за столько-то в час.
Это все мы тебе отдаем.
Самой сути модернистских установок противоречил этот очевидный интерес и любовь Аполлинера к рабочему человеку, материалистическое содержание такого действительно нового, неожиданного образа трудящихся как людей, которые за столько-то в час производят реальность!
Аполлинер стремился слиться с Парижем, сделать свои стихи «песней Парижа». Как другой большой поэт, его современник, Аполлинер хочет стать голосом безъязыкой улицы:
Слушай, слушай меня, я ведь глотка Парижа.
Вино вандемьера, месяца сбора винограда, у Аполлинера не только фольклорный образ. Этот образ наделен революционной символикой. Озаглавив стихотворение «Вандемьер», Аполлинер имел в виду первый месяц республиканского календаря, месяц, с которого началось революционное летоисчисление. Заглавие «Вандемьер» не менее выразительно, чем заглавие «Жерминаль» у Золя. Стихотворение, а вместе с ним и вся книга «Алкоголи» завершается символической картиной: над спящей Сеной брезжит первый свет... Аполлинер был уверен — люди будущего не забудут его, поэта, понявшего, что время царей миновало:
Вспоминайте меня, люди будущих дней! Век, в который я жил, был концом королей...
Обозреватели буржуазных журналов встретили «Алкоголи» такими статьями, что автор в ответ посылал вызовы на дуэль. Стихотворения вроде «Зоны» или «Вандемьера» опрокидывали навязанные модернистами представления о поэтическом образе, и от их содержательности модернистская эстетика трещала по всем швам. Витезслав Незвал, который высоко ценил и любил Аполлинера, писал в предисловии к чешскому переводу его стихотворений (1958), что «Зону» трудно вместить в устоявшиеся литературные жанры. Реалистические тенденции, заложенные в таких вещах Аполлинера, как позднейшие стихотворения «Алкоголен», оказались понятнее и ближе современной поэзии, умудренной историческим опытом, чем поэзии десятых-двадцатых годов. Даже передовая поэтическая молодежь тех лет, восторгавшаяся Аполлинером (Арагон назвал его «похитителем небесного огня», а Реверди казалось, что в руках Аполлинера, «как букет, пылает немножко солнца»), не могла тогда подхватить по-настоящему его традицию.
Последние полтора года до войны были для Аполлинера, несмотря на модернистские эксперименты, временем продолжающегося реалистического поиска. Это видно по «Волнам» — первой книге второго из двух главных сборников, опубликованных поэтом при жизни, — «Каллиграммы. Стихотворения мирного и военного времени» (издано в апреле 1918 года). Здесь появляются стихотворения-беседы, стихотворения очерки, в которых поэт старается как можно непосредственнее, эмпирически передать текущие впечатления, разговоры. Это не просто дальнейшее проникновение в область считавшегося непоэтическим, а попытка вовсе устранить грань между поэтическим и непоэтическим, освоить для поэзии сферу бытового романа, кино:
Музыканты умолкли, и вот начались переговоры с публикой.
Которая вместо трех франков, назначенных стариком в уплату за трюки, Накидала на коврик два с половиною франка мелкой монетой.
Но когда стало ясно, что больше никто не даст ни гроша.
Было решено начать представленье.
Опыт был рискованным. Подобный эмпиризм мог повести, а иногда и вел Аполлинера к своего рода «поэтическому натурализму» (как впоследствии целые течения в искусстве, преодолевавшие модернизм, например итальянский неореализм). В некоторых стихотворениях, скажем «В понедельник на улице Кристин», поэт, собирая совершенно реальные, правдоподобные и более того — может быть, характерные для парижской улицы обрывки разговоров, создает отрывочную хронику, едва не переступающую грань художественного.
Другим экспериментом, более формалистическим, была попытка создавать «лирические идеограммы», или «каллиграммы», то есть печатать стихотворения так, чтобы их текст образовывал рисунок (дом, косые линии дождя, звездочку и т. д.). Аполлинер рассматривал это как пробу в период развития техники, при котором намечается переход от типографии к прямой записи голоса на диск или на пленку. Поэт написал немного идеограмм и в течение года-полутора забросил эти опыты. Идеограммы пригодились только для стихотворения-плаката Аполлинер иногда использовал такую возможность, например смело выделив в одном стихотворении, написанном в разгар воины в феврале 1916 года, крупным шрифтом стих о солнечной радости мира.
Поиски Аполлинера в предвоенные годы были связаны с верой в прогресс, стремлением отразить его в поэзии. В стихотворении «Холмы» Аполлинер говорит, что почты должны, подобно холмам, глядеть далеко вперед, возвещает о чудесах грядущего. Если при этом верить в справедливость завтрашнего дня и не забывать о страданиях сегодняшнего, «вы постигнете будущее». Поэт предсказывал молодежи, что ей впервые дано «открыть будущее, не поплатившись жизнью за открытие». Аполлинер слагает дифирамбы человеку: человек удесятерит свои внутренние силы, откроет новые миры, установит справедливость.
На пути осуществления этих замыслов выросло препятствие — война 1914 года.
Отношение Аполлинера к войне длительное время изображалось неправильно — упрощенно и часто тенденциозно. Повод к этому в известной мере дал сам поэт, пошедший добровольцем на фронт, безукоризненно исправлявший военную службу, избегавший постановки острых вопросов в корреспонденциях для журнала «Меркюр де Франс» и даже в течение первых трех-четырех месяцев пребывания на фронте (апрель-июль 1915 года) писавший стихи о том, как красивы сигнальные ракеты и вспышки артиллерийского огня.
За всем этим долго не удавалось понять сущность определившегося у Аполлинера к осени 1915 года отношения к войне. Только во второй половине тридцатых годов и особенно на основе опыта Сопротивления Марсенак, Арагон, Лакот, так же как и Незвал, сумели оценить патриотизм поэта, сочетавшийся у него с антиимпериалистическими, антивоенными настроениями.
Новые данные о не искаженном цензурными условиями военного времени тексте стихов Аполлинера и об эволюции его взглядов за годы войны полностью подтверждают эту точку зрения. Пробыв полгода на фронте, Аполлинер многому научился. Его стихи стали приобретать антивоенное звучание.
[…]
Поэт-патриот размышлял совсем не так, как было положено исправному солдату Антанты:
Я в траншее переднего края, и все же я всюду, верней, начинаю быть всюду. Это я начинаю дело грядущих веков,
И воплотить его будет труднее, чем миф о летящем Икаре.
Грядущему я завещаю историю
Аполлинера.
Он был на войне, но умел быть везде:
В тыловых городах, где в покой не
утрачена вера,
И в прочей вселенной без края и меры.
И в тех, кто гибнет, шагая по изрытой боями земле...
В стихотворении «Маленькое авто», которым открывается цикл военного времени, Аполлинер направлял внимание читателя на проблему будущего, на то, как после войны «воздвигнуть и устроить новый мир». Судя по рукописи, эти слова были написаны не в первые месяцы войны. Аполлинеру было трудно сразу понять ее суть. Положение «непатриотического» чужеземца, друзья которого, французы, должны были идти на войну, делалось с каждым днем все более двусмысленным и морально тяжелым. Аполлинер, вначале явно склонявшийся к антивоенным настроениям, стал сомневаться. Печальную роль в этом сыграли и частные обстоятельства. В конце сентября 1914 года поэт познакомился в Ницце с Луизой де Колиньи-Шатийон и полюбил ее со свойственной ему цельностью и страстностью. Ее холодность немало способствовала тому, что он записался добровольцем в армию. 5 декабря Аполлинер, по его просьбе, был направлен в артиллерийское училище в Ним. Лу, которую не трогали поэтические лавры, почти по «Красному и черному», тотчас приехала к новобранцу в Ним: «Ты стала моей жизнью, моей надеждой, моим мужеством...» Но согласие длилось считанные дни, Лу вскоре начала забывать поэта. 5 апреля Аполлинер прибыл на фронт.
Стихи, которые послужили для создания версии об «официально патриотической» позиции Аполлинера, все относятся к краткому периоду, максимум до начала осени 1915 года. Это некоторые стихи сборника «Ящик на передке» (апрель-июнь 1915 года), составившего третью часть «Каллиграмм», и стихотворные послания, которые первое время почти ежедневно поэт отправлял Лу с фронта. Мажорный топ, в котором Аполлинер писал о своих фронтовых впечатлениях, был для него единственно психологически возможным в посланиях к Лу. Они представляют собой прежде всего не эпос о войне, а лирическую песнь поэта, вновь несчастного в любви. Именно так воспринимал послания к Лу Поль Элюар, который привел два из них (XXIII и XLV) в радиобеседе «Обаяние любви» (1949).
Далеко не все стихи даже этого краткого периода согласуются с ложной схемой, под которую часто подводят творчество поэта времени войны. Антиимпериалистический гуманизм Аполлинера с силой обнаружился в стихотворении «Жалоба солдата-артиллериста из Дакара» (аналогичное стихотворение было послано к Лу 15 июня 1915 года). Поэт здесь говорил «не от себя», а от имени негра, рекрутированного во французскую армию, и поэтому мог избавиться от условной мажорности. Аполлинер нашел самое уязвимое место в империалистической лжи: за что сражается во Франции он, негр из Дакара, безвестный номер артиллерийского расчета?
Теперь я французский солдат.
Не успел оглянуться — и в белый цвет
перекрашен.
Не могу я ответить, где часть находится
наша.
Почему же все-таки белым быть лучше.
чем черным?
Почему нельзя беседу вести и плясать
И наевшись отправиться спать?
И вот мы стреляем по обозам бошей.
Землю снарядами пашем...
Солдату из Дакара не за что благодарить метрополию. Ведь не за то, что он по неделям таскал в носилках колониального администратора? Ведь не за то, что епископ был любострастно медоточив с его матерью и с его сестрой? И не за то, что он был слугою в Париже?
Негр помнит войны племен и дикарскую жестокость победителей, и все же его родная хижина была «не так дика, как землянка артиллерийского расчета!..»
В последних стихотворениях к Лу, посланных в сентябре 1915 года, безнадежная любовь соединяется с подавляемым, но все же срывающимся невольным негодованием против нее, как вдохновительницы его воительства. Аполлинер неожиданно завершает послания к Лу сонетом (необычная для него форма), да еще сонетом бодлеровской мрачности, открывая Лу страшную правду войны.
Когда в ноябре 1915 года поэт был произведен в подпоручики, он избрал не артиллерию, а пехоту, где было тяжелей, но ближе к простым людям. В письмах этого времени Аполлинер воссоздает правду жизни на фронте: «2 декабря. Прервалось снабжение. С офицерами еще кое-как наш повар выпутывается, но люди! Они поразительны простотой своего героизма...»
Стихотворения, написанные с осени 1915 года до ранения в марте 1916 года, собранные в части четвертой «Каллиграмм» — «Артиллерийские зарницы» и в части пятой — «Лунный блеск снарядов», не имеют больше точек соприкосновения с официальной пропагандой. Они обогащены общественным опытом, приобретенным поэтом на войне, непосредственным общением с солдатской массой. Это связывает их со скрепленной в годы Сопротивления патриотической традицией прогрессивной французской поэзии.
Если Аполлинер пишет о ненависти к врагу, то это относится не к немецкому народу («Я повсюду... Я среди тех, которые воюют против нас...»), но прежде всего к оккупационной политике кайзеровских войск. Его возмущают проявления покорности оккупантам: «Есть женщины в оккупированных областях, которые учат немецкий язык».
Этот стих был снят в подцензурном тексте. Как стало ясно после публикаций пятидесятых годов, антивоенный пафос стихотворений Аполлинера был затуманен изъятиями, вынужденными изменениями и перестановками. Например, в напечатанном в «Каллиграммах» тексте стихотворения «Ракета» (октябрь 1915 года) по сравнению с рукописью ослаблено содержавшееся там гуманное противопоставление чувства любви войне, а некоторые образы искажены до неузнаваемости.
Аполлинеру приходилось выражать свои мысли скрыто, косвенно, в отрывочных зарисовках, порою под двусмысленным заглавием.
Порой поэт проводит свою идею, пользуясь стихами, построенными как нейтральные назывные фразы:
Есть вокруг меня множество маленьких елок,
сломанных взрывами бомб и снарядов;
Есть солдат-пехотинец, который идет
ослепленный удушливым газом;
Есть американцы, которые золотом нашим свирепо торгуют.
Есть во мраке ночном солдаты, которые
доски пилят и сколачивать будут гробы;
Есть в Мехико женщины, которые
с воплями молят маис у Христа.
обагренного кровью;
Есть Гольфстрим, такой благодатный и теплый;
Есть в пяти километрах отсюда кладбище что до отказа набито крестами;
Есть повсюду кресты — и вблизи и вдали...
В марте 1916 года Аполлинер был ранен в голову осколком снаряда. Ему сделали несколько операций, но он так и не выздоровел. Несмотря на заботы Жаклины Аполлинер, на которой он женился в мае 1918 года, поэт, здоровье которого было подорвано тяжелым ранением, скончался в Париже 9 ноября того же года, в возрасте тридцати восьми лет.
В 1916-1918 гг. Аполлинер написал сравнительно мало стихов, хотя завершил роман «Сидящая женщина», одно из самых значительных, наряду с книгами «Ересиарх и К°» (1910) и «Убитый поэт» (написано до войны, издано в 1916 году), его прозаических произведений, подготовил либретто для русского балета в Париже, написал две экспериментаторские по сценической технике, осуждающие войну пьесы — «Груди Тиресия» и «Цвет времени». Встреча с Парижем в 1916 году принесла раненому Аполлинер тяжелые огорчения: «Эгоизм царит повсюду... Мне кажется, все погибло в этой нескончаемой катастрофе... По-моему, это продлится по крайней мере еще года три, ужасно».
Аполлинер воочию, как герои Барбюса во время отпуска, увидел, что представляло собой «национальное единство» буржуазии с народом. Поэт мог бы припомнить слова, которые в одном юношеском произведении вложил в уста чудовищного зверя Шапалю: поедая других животных, Шапалю приговаривал, что этот превосходный аппетит объединяет его с ними...
Горькие сомнения, сквозившие в письмах раненого Аполлинера, не переходили непосредственно в стихотворения. Сквозь пелену тяжелой болезни, сквозь пелену монополизировавшей информацию шовинистической прессы до Аполлинера доходили сведения о новых великих событиях.
[…]
В 1916-1918 гг. вокруг Аполлинера складывается группа буйной, антивоенно настроенной молодежи. Литераторы, которые тяготели к Аполлинеру, были молодыми и задиристыми, но не самыми сознательными. Они ненавидели казенщину буржуазной культуры, опозорившей себя связью с империалистической бойней. В Аполлинере, как и в Пикассо, они ценили больше всего безбоязненного новатора, но воспринимали в этом новаторстве формальную, модернистскую сторону. Восторги и требования этой молодежи, у которой стали появляться первые тощие тиражом и возможностями журналы («Нор-Сюд», «Сик»), в свою очередь влияли на усиление формалистических исканий Аполлинера. В его стихах последних лет прогрессивные идеи становятся определеннее, развивается отчасти и реалистическая образность, но по сравнению с предыдущими годами вновь усиливается формальное экспериментаторство. Поэтическая молодежь рьяно впитывала и нередко доводила до озорства как раз это последнее. Но многие из тех поэтов — Элюар, Арагон, Тцара — и из их еще более молодых друзей, такие как Деснос, Лакот, в наше время, в иной общественной обстановке восприняли в поэзии Аполлинера самое существенное, ценное и пошли дальше как в области обновления содержания, так и в области обновления формы.
Шестую, последнюю часть «Каллиграмм» раненый Аполлинер с грустной иронией назвал «Звездная голова». Книга открывается меланхолическим пятистишием «Отбытие», посвященным кладбищу немецких солдат:
И лица их покрывала бледность,
И рыдания их разбились...
Как раненый фронтовик, поэт мог позволить себе озаглавить — «Победа» стихотворение, направленное, по существу, против войны до победы. Написанное в дни Февральской революции в России и начинающееся словами «Петух поет», оно посвящено теме становления нового. От нового в слове, в стихе поэт идет к новому во всей жизни.
Юным поэтам, возненавидевшим все старое, равное для них бесконечной войне, возможно, казался остроумным совет использовать в поэзии глухое чавканье человека, не умеющего прилично есть. Но призывы Аполлинера к обновлению языка имели более серьезный смысл. Аполлинер требовал, чтобы поэты не молчали о язвах сегодняшнего дня, не замыкались в сферу чисто поэтического:
Языки эти так одряхлели, так скоро
начнут умирать,
Что сегодня только из робости и в силу
привычки
Могут в поэзии к помощи их прибегать.
Они подобны больным, лишившимся воли.
Ей-богу, люди скоро привыкнут молчать:
Для кино вполне достаточно мимики,
жеста.
Аполлинер призывал учиться у бурного моря жизни:
Слушайте море!
Кричит в одиночестве море и стонет вдали.
Мой голос, верный, как тень,
Хочет тенью жизни стать наконец,
Хочет быть изменчив, как ты, о море живое!
Для Аполлинера быть тенью, верным отражением жизни значило быть «изменчивым, как море жизни», и обгонять жизнь:
О железных дорогах помни:
Они устареют, и скоро покинут их люди. Смотри!
Победа прежде всего В том, чтобы сидеть далекое,
Близкое,
Все...
И все пусть по-новому названо будет.
Новое, то, о чем поэт не может молчать, Аполлинер предвидел не в прогрессе техники, не в каком-либо чисто формальном прогрессе, но в гуманизме неизбежного завтрашнего дня общества. В его стихах все чаще встречается слово bonté, которым французские поэты от Рембо и до Элюара. Арагона, Марсенака обозначают нравственную ответственность поэта, гуманистическую устремленность.
Однако 1918 год не мог стать для французской поэзии 1940 годом. Как ни велик был талант Аполлинера, как ни велика была его тяга к реальному, он не мог ни сам полностью вырваться из круга модернистских представлений, ни непосредственно указать молодежи такой выход. Поэт правильно искал выход в приобщении к опыту народа, в гуманизме, но он не был последователен. Путь формального обновления поэзии он определял намного полнее и точнее, чем путь ее идейного обновления.
Это видно в поэтическом завещании Аполлинера, в завершающем «Каллиграммы» посвященном Жаклине стихотворении «Рыжекудрая красавица». Аполлинер в этом стихотворении обращается к важной проблеме о соотношении традиции и новаторства в поэзии, но рассматривает эту проблему в плане поисков новых форм.
Вот я весь перед вами, исполненный
здравого смысла.
Знающий жизнь и все то, что живые могут о смерти узнать,
Иногда умевший навязать свое мненье
другим,
Изучивший чужие наречья.
Немало блуждавший по свету.
Видавший войну в артиллерийских
частях и в пехоте,
Раненный в голову, трепанированный под хлороформом,
Потерявший в ужасной борьбе своих лучших друзей:
Я знаю о старом и новом все то, что под силу узнать одному человеку,
И сегодня, не думая больше об этой
войне.
Войне между нами, друзья, и за нас,
Я сужу беспристрастно о затянувшейся распре между традицией и открыванием новых путей,
Между Порядком и Броском в Неизвестность.
Борьбу за новые формы поэт связывает с наступившим восходом «палящей мечты Разума» (написано весной 1918 года), но поэт разъясняет прежде всего трудности в отыскании новых форм, как бы полагая, что новые идеи придут сами собой. Конечно, нами допущено здесь известное упрощение: в живой ткани образов большого поэта все это высказывается сложнее и глубже, но в общем именно это и именно так было подхвачено в начале двадцатых годов сюрреалистами.
В таком виде новаторство могло быть, на худой конец, терпимо буржуазной поэзией и буржуазным литературоведением: Аполлинер был «признан», но его сочинения в полном и подлинном виде не издавались, его идейная и художественная эволюция не изучалась. В работе двадцатых годов «История современной французской литературы» Рене Лалу характеристика Аполлинера выдержана в ледяном, а порою в покровительственно презрительном тоне.
Подлинное признание пришло к Аполлинеру в период широкого и стремительного развития французской прогрессивной поэзии. Именно с конца тридцатых — начала сороковых годов голос Аполлинера по-настоящему дошел до потомков. Демократические читатели сегодняшнего дня знают о его трудном и сложном пути. Они знают о его больших ошибках и заблуждениях, в которых он сам так проникновенно и правдиво признался в своем поэтическом завещании. Но они помнят заслуги поэта. Они знают, что в годы господства модернизма во французской поэзии в лучших стихах Аполлинера забрезжил свет реалистической поэзии, устремленной в будущее.
* * *
Эта статья уже была написана, когда свежий номер «Юманите» (H.XI.60) донес воодушевленное слово Марсенака — «Победа Аполлинера». Марсенак, называя Аполлинера «пророческим эхо своего времени», пишет: «О по-братски родной, всегда такой близкий нам, нашим безрассудным и нашим обоснованным надеждам! Поэт, думавший, как мы, что с окончанием войны наступит время справедливости, конец насилия, царство «палящей мечты Разума», поэт, уверенный, что умирает в момент, когда над миром занялась заря! Сквозь пробежавшие дни он и сейчас напоминает нам высшую заповедь поэтов: верить в человека в его становлении».
Л-ра: Иностранная литература. – 1961. – № 1. – С. 203-213.
Произведения
Критика