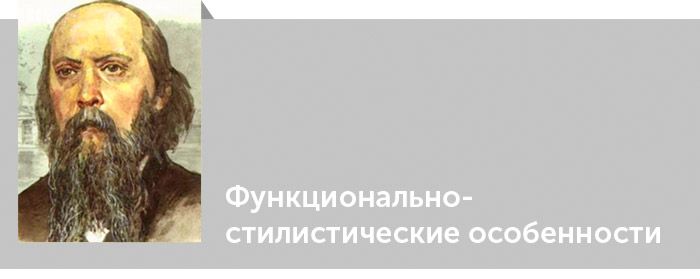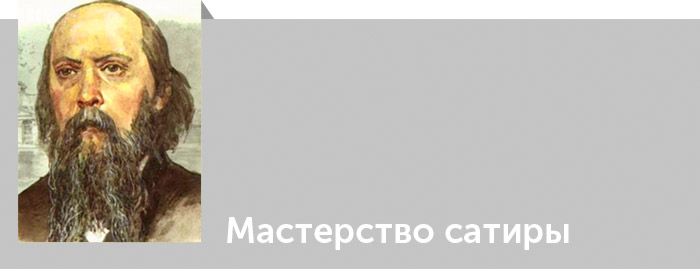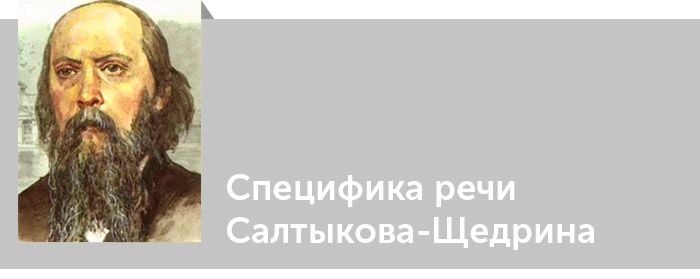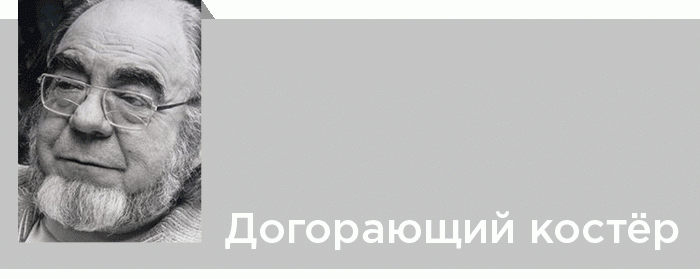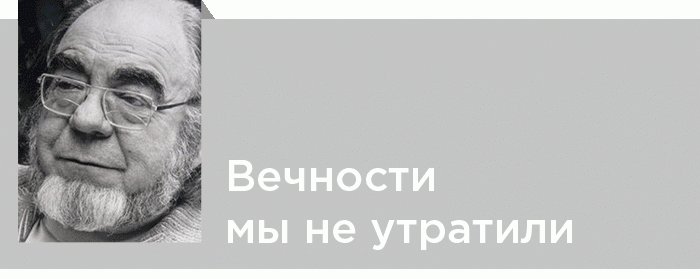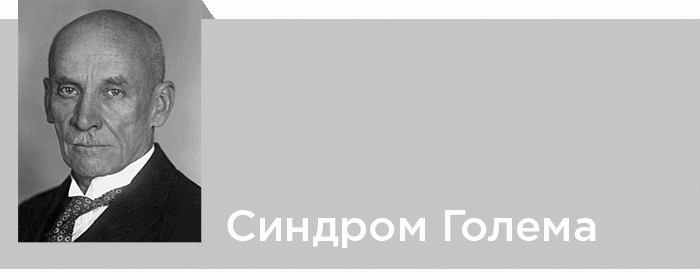Урок труда и любви Эжена Гильвика

Г. Васильева
[…]
Он родился в Бретани, в маленькой деревушке Карнак. Дед его был крестьянином, и Гильвик никогда не забывает об этом.
Гильвика-поэта нельзя оторвать от Бретани — суровой и недоброй, с колючими ветрами, серыми скалами и острыми камнями-менирами, страны, полной средневековых преданий. Мифология родного края, фантастические персонажи — домовые, демоны, вампиры, водяные — будут постоянно оживать в его книгах.
Бретонское происхождение Гильвика (даже свою фамилию он произносит на бретонский лад: не Гийевик, как следовало бы по правилам грамматики, а Гильвик) наложило особый отпечаток на большинство его произведений.
Чудо поэзии открылось для Гильвика сразу. Экономист по образованию, он начал писать стихи довольно рано («С восьми лет — и очень серьезно, я не шучу», говорит поэт), но первый поэтический сборник опубликовал лишь на рубеже своего сорокалетия.
— Почему я так долго ждал? Меня об этом часто спрашивают. Просто я должен был быть уверен, что создал что-то действительно значительное.
В юности Гильвик испытал немалое воздействие немецкой поэзии — стихи Гёте, Гельдерлина, Рильке он знал наизусть. Немецким языком он владеет свободно — долгое время жил вдали от Парижа, в местах, где говорили либо по-немецки, либо на бретонском диалекте. Лишь в двадцать лет, во время военной службы в Безансоне, Гильвик — по сути дела заново — начал учиться французскому языку, это обстоятельство сыграло важную роль, отсюда, пожалуй, умение Гильвика открывать во французском те грани, которые для других давно уже стерты долгой привычкой.
Успех и известность Гильвику принес сборник «Из воды и земли» (1942).
Когда создавалась книга, поэт с горечью и отчаянием переживал события 1936-1939 годов в Испании, поражение революционных сил, террор в Мадриде и Барселоне. Именно здесь ключ к разгадке тех основных мыслей и настроений, которые питали его сборник, определили его трагизм и острую новизну.
Гильвик писал «Из воды и земли», когда над Европой сгущались тучи. Наступление фашизма, приближение мировой войны поэт воспринимал как нашествие мрака и хаоса, как надвигающуюся катастрофу:
Когда черный гигант,
Спящий среди ископаемых чудищ на дне морском,
Поднимается и глядит.
Звездам во впадине неба становится холодно,
И они сбиваются потеснее, чтобы согреться.
Мертвые очи ста тысяч мертвых
Падают в реки.
Плывут.
Образы сборника жестоки. Холмы напоминают автору «муравейники, ошпаренные кипятком», земля — «воспаленную глотку, жаждущую молока», «одинокую женщину, тоскующую по мужчине»; осень «тяжко валится на землю раненым телом, медленно пропитывая подлесок рыжей своей кровью».
Его «il» — обобщенный образ кошмаров и «чудищ» ночи — нечто безличное, безмолвное, почти неодушевленное, хотя в то же время и как будто живое, агрессивно-затаившееся, вечно угрожающее.
Вещи Гильвика пришли к нему из повседневной жизни — шкаф, стул, тарелка, яблоко, пруд, камень... Поэт стремится постигнуть их скрытую суть. Но для этого надо «дотронуться», «проникнуть» в вещь, «овладеть». «Лучшее средство познать яблоко — съесть его», — любит повторять поэт.
Сборник открывается знаменитым стихотворением «Шкаф». В нем отчетливо проявился своеобразный подход Гильвика к вещи — осторожный, с опаской, с постоянным вопросом. Вот шкаф — он сделан из дуба. Он закрыт. Что в нем? Быть может, там спрятаны мертвецы? Или хранится хлеб? Обе версии для поэта равно вероятны. Шкаф несет в себе свою тайну.
Его звезды и скалы — что-то «знают». Камень «улыбается», стены «кричат». Поэт мечтает «говорить научиться, как камни».
На белом пространстве бумаги его стихи занимают очень мало места. «Островки слов» (ilôts de paroles) — назвал его манеру французский критик Жак Борель. В ту пору поэт чаще всего пишет «свободным стихом», редко пользуется рифмой.
Стихи Гильвика называют «очищенными», «оголенными». Они почти совсем лишены эпитетов. Редки сравнения. Метафоры сжаты и афористичны. Но при этой бросающейся в глаза, «свирепой», как отмечают критики, экономии Гильвик тем не менее довольно часто повторяет одни и те же слова и этим повторам придает большое значение. Спустя два десятилетия после выхода первого сборника в интервью корреспонденту «Юманите» Гильвик скажет, что эти повторы, «возвраты к одной и той же мысли», помогают ему уяснить мысль, четко очертить ее, дойти до сути.
Поэт не ищет новшеств, не стремится поразить находками. Он говорит о вещах обычных, даже банальных. «Гильвик молчалив, — замечает поэт Жак Гошерон, — как молчаливы крестьяне, у которых с трудом удается вырвать одно слово, но это будет именно то слово, которое придает смысл их молчанию».
В 1940 году, когда гитлеровские бронированные танки вошли в Париж, Гильвик без колебаний выбирает Сопротивление. В 1943 году, когда за одно только подозрение в сочувствии коммунистам фашисты карали смертью, Гильвик становится членом Французской коммунистической партии. Вместе с Полем Элюаром он сотрудничает в подпольной печати, подписываясь псевдонимом Серпьер. Полю Элюару Гильвик посвятил сборник «Исполнительный лист» (1947). Элюар стал не только большим его другом, но и во многом — учителем, мэтром (он был старше Гильвика на двенадцать лет. Когда они познакомились, Гильвик готовил к печати первую книгу, а Элюар был уже известным поэтом). Гильвик скажет однажды, что Элюар «дал ему урок нежности и мужества».
«Исполнительный лист» — это поэма о мщении, о возмездии, выносящая беспощадный приговор врагу. И вместе с тем это стихи о победе жизни над смертью, о счастье. Поэт поверил в способность людей «сделать из ночи ласковый день». Он услышал «крик прорастающих зёрен», почувствовал желание «вырастить розу во владениях льда»:
Мы творцы.
Мы страх уничтожим. Из ночи
Мы сделаем ласковый день,
И будет нам нужно одно:
Ощущать под ладонью
Тепло человеческой кожи.
В первые послевоенные годы, когда истерзанная, обожженная огнем его страна понемногу залечивает раны, поэт пишет о мире. В его книгах звучит голос новой Франции, отражены ее мечты и надежды, ее тревога и беды. На рубеже 40-50-х годов Гильвик выступает как поэт большой политической темы, поэт-гражданин, поставивший интересы родины и народа превыше личных.
В сферу изображаемого Гильвиком постепенно входят люди, человеческие отношения, причем эти отношения раскрываются как классовые. Сказанное относится прежде всего к циклу «Тресты» (1947). Он написан человеком, пережившим и осмыслившим мировую войну, ее причины и скрытые механизмы. В центре внимания поэта — капиталистические монополии с их «зловещими щупальцами», опутавшими мир.
Долгая борьба в одиночку, один на один со словом в конце концов поможет поэту «подчинить непокорное слово», приблизит его к ясности, к свету. «Раскапывать неведомое и протягивать людям то, что добыто ломом и лопатой слов», — так определит он позже задачу поэзии.
В стихотворения «Я видел, как столяр...» из сборника «Земля для счастья» (1952) Гильвик размышляет о труде поэта, о творчестве. Наблюдая за тем, как столяр колдует над свежим тесом, ласково перебирая пахучие доски и поднося к ним рубанок, как «поет столяр, доску к доске подгоняя», поэт приходит к выводу, что «их ремесла схожи».
«Обычно поэты пишут о любви. А вот Гильвик о ней не пишет, — отмечал Жак Гошерон. — В его сборниках нет «любовной лирики», и все же любовь здесь во всем, она целомудренно упрятана в мозаику слов... Гильвик — из породы мальчиков с пальчик. И потому, будучи поэтом серьезным, он, бросая вдоль дороги свои мешки-слова, сеет надежду...»
Очень верно определил творческую манеру Гильвика французский критик и поэт Жан Руссело, сказавший, что «поэзия Гильвика — это урок труда, терпения и великой любви».
Эти слова как нельзя лучше характеризуют сборник «Земля для счастья». Он был благосклонно встречен и критиками, и друзьями поэта, они ждали от него новых книг. Но Гильвик вдруг замолчал и за два года — 1952 и 1953 — не опубликовал ни одной строчки.
«Суть тупика, в котором я в то время оказался, — скажет поэт двадцать лет спустя, — заключалась, как мне кажется теперь, в противоречии между новым содержанием, тем потоком, фонтаном слов, которого оно требовало, и прежней формой, неспособной вместить это содержание. Старый как мир конфликт — между содержанием и формой!»
Конфликт этот разрешился обращением к классическому рифмованному стиху, равностопному и четко ритмическому. «Гильвик, один из самых уважаемых французских поэтов, уже вложивший в стихи новое содержание, — говорил Луи Арагон на II съезде советских писателей, — отказался от своей прежней манеры — от стиха без ритма и рифмы, ибо сама логика искусства привела его к национальной форме французского стиха, в частности, сонету. Это сделало более выпуклым реалистическое содержание его творчества.
Сонеты, которые Гильвик публикует на протяжении 1954 года, и особенно его сборник «Тридцать один сонет» вызывают бурные споры, вылившиеся в целую «дискуссию о поэзии», — в нее включились многие видные французские поэты.
В сущности, полемика вокруг сонетов Гильвика стала спором о путях развития реализма во Франции. Сонеты Гильвика, которых поэт правдиво и в диалектическом развитии запечатлел окружающий мир, буржуазные критики назвали «фальшивыми» и «помпезными». На сонеты напали прежде всего за их политическую злободневность.
В статье «Давайте объяснимся по поводу сонета», опровергая обвинение в том, что сонеты сочинены якобы «по приказу» партии, Гильвик писал: «Сама логика развития моей поэзии совершенно естественно вела меня к традиционному стиху», отстаивая сонет как национальную форму французской поэзии, обращаясь к сонетам Ронсара и Дю Белле, Гильвик доказывал, что этот поэтический жанр, пережив столько веков и поколений поэтов, отвечает потребностям французского духа». Ценность своих сонетов Гильвик усматривал в том, что они «говорят правду».
Нельзя не согласиться с критиком Жаком Дюбуа, утверждавшим, что их автор «открыл новые области реального». Заслуга Гильвика заключается в том, что он сумел возродить жанр сонета, наполнив его новым, реалистическим содержанием.
Вместе с тем обращение Гильвика к сонету явилось отражением общего интереса к классическому наследию, который в то время испытывали многие прогрессивные французские поэты (вспомним «Глаза и память» Арагона, последние поэмы Элюара). Последующее творчество Гильвика показало, что сонет отнюдь не был для него неким абсолютом формы.
Во второй половине 50-х годов в творчестве поэта намечаются противоречия, звучат ноты пессимизма («Путь», «О моей смерти»).
Всегда нелегко разобраться в причинах кризиса, переживаемого художником. И все же о некоторых из них можно судить. Натура впечатлительная, остро откликающаяся на боль и страдания народа, Гильвик трагически воспринял разлад между надеждами и мечтами о послевоенном будущем страны и действительностью Франции 50-х годов. К трудностям творческим прибавились и житейские — поэта преследует постоянная нужда: вплоть до 1967 года ему приходится служить инспектором в министерстве финансов, чтобы как-то просуществовать. Времени на творчество остается мало — только ночи, только конец недели.
Но, пожалуй, главной причиной беспокойства, неудовлетворенности и даже смятения поэта явилось наступление модернизма во французской литературе 50-60-х годов. Обнаруживший свою несостоятельность в период Сопротивления модернизм пытается вернуть былые позиции. Относительное единство, возникшее на базе патриотического подъема Сопротивления, сменяется острой идейной борьбой, захватившей и литературный процесс. С одной стороны, по-прежнему ощутимо воздействие французской демократической традиции с ее народностью и гуманизмом, в частности, влияние поэзии Сопротивления, а с другой — отчетливо проявляется стремление переосмыслить и принизить поэзию Сопротивления, представить ее как «отклонение» главной линии национальной поэзии, все чаще раздаются утверждения, что реализм «устарел» и не соответствует «уровню познания, достигнутому в XX веке», что развивается «по нисходящей линии». Современным же считается язык и стиль, далекий от классического, традиционного, отсюда — особый интерес к структуре языка, к чисто формальным поискам, бесчисленное множество лингвистических опытов.
Эксперименты «школы письма», опыты поэтов, объединившихся вокруг авангардистского журнала «Тель-Кель», оказали определенное влияние и на Гильвика, но к чести его надо сказать, что в 60-е годы поэт — среди тех представителей французской интеллигенции, кто пытался приостановить наступление модернизма, борясь за возрождение демократизма и гражданственности во французской поэзии. В противовес хору голосов, провозглашавших «кризис литературы» и «конец поэзии социалистического реализма», он сохраняет верность гуманистическим идеалам, острую заинтересованность в решении важнейших проблем современности.
Вместе с другими крупными литераторами Франции (Эльзой Триоле, написавшей роман «Розы в кредит», Жоржем Переком, автором романа «Вещи», и другими) Гильвик в 60-е годы выступает с критикой «цивилизации потребления», против внедрения в жизнь Франции стандартизованной «массовой культуры». Разоблачая зависимость западного искусства от бизнеса, Гильвик мучительно размышляет над тем, как вернуть современному искусству утраченную цельность и величие. Одновременно — и столь же напряженно — продолжает он свой творческий поиск.
В одном из интервью тех лет поэт признавал, что «вдруг почувствовал тоску по прежней форме». И вот Гильвик, обогащенный опытом сонета, в сборнике «Карнак» (1961), вновь возвращается к прежним лаконичным двустишиям и трехстишиям, к свободному стиху.
Пожалуй, эта книга стала самым значительным успехом Гильвика со времени выхода цикла «Из воды и Земли» — с ним прежде всего связывают его имя. Литературные журналы вновь заговорили о поэте, о котором на время забыли после дебатов вокруг его «Сонетов».
В «Карнаке» Гильвик предстает перед читателем как поэт-маринист. В центре — многоплановый диалог с морем, по воле поэта в него включаются земля, солнце и ветер. Беседа поэта с морем перерастает иногда в разговор мужчины и женщины, жизни и смерти, бытия и небытия. И за всем этим — раздумья о значении и смысле поэтического творчества, они-то в конечном счете и являются главными в сборнике.
Эту же тему — назначение поэзии, роль художника в обществе — Гильвик развивает в статье «Поэт и социальный мир» (1966): «Как материалист, я признаю, что мы существуем в объективном мира, и что только от нас зависит, чтобы «жизнь, какой она должна быть», все более и болёе становилась реальностью». Тонко и вместе с тем весьма определенно излагает он свое понимание творческой самостоятельности художника слова: «Когда поэт замышляет, переживает, пишет свое произведение, вступает с ним в борьбу, одобряет его, отвергает, принимает, он делает это в одиночестве; носитель всеобщих чаяний, борец, сражающийся во имя всех, говорящий обо всех и от имени всех — и все же одинокий. Отсюда проистекают его скромность и его гордость».
Я пишу диалоги на разные темы, — говорит поэт. — О политике и влюбленных, о вещах и явлениях. Это своего рода философские миниатюры, где что-то утверждается или оспаривается. У этой формы видимость шутки, пустяка, на поверхности все просто. Но надо вдуматься.
Сборник «Город» (1968) Гильвик посвятил жене, актрисе Марианне Орикосте.
Эту книгу немало ругали, в том числе Френо, Тортель, — признается Гильвик. — Ты стареешь, а люди хотят видеть тебя прежним — таким, каким ты был двадцать-тридцать лет назад. Они не отдают себе отчета в том, что поэт может в чем-то измениться, что его творчество развивается... Как сборник возник? Меня мучил шум в городе. Тянуло в деревню. Я переживал что-то вроде кризиса. Потом написал книгу, и мне сразу сделалось легче. Город стал мне другом... Мой «Город» носит черты Парижа и других городов, которые я видел — Нью-Йорка, Монреаля, Тбилиси. После Нью-Йорка Париж показался мне маленьким. Нью-Йорк — это чудовище, монстр, ревущий зверь, переплетение величественного со страшной нищетой и грязью предельное выражение дегуманизации... Мой город — это прежде всего Париж.
Почему он пишет о городе?
Ответ все тот же: чтобы «овладеть». Но гораздо в большей степени — чтобы «понять». Город превращается для Гильвика в объект исследования, сумму вопросов, которые он без конца задает — городу, читателю, себе. Как всегда, его «допрос» серьезен, обстоятелен, многогранен.
Поэт стремится определить свое отношение к городу, этой «вещи», вызывающей у него целую гамму сложнейших ощущений. Он не скрывает, что чувствует себя здесь чужим, чем-то вроде «касательной к окружности». Многое, очень многое в современном городе его отталкивает. Человек задыхается в его «квадратных метрах», ему не хватает «дыхания полей», «дрожания моря». Поражают контрасты — «обилие детских колясок и катафалков». Отвратительна мысль, что в городе «все продается». С грустью и иронией Гильвик констатирует, что горожане, живущие в век кибернетики, научно-технического прогресса, сами становятся похожими на машины и транзисторы.
В городе поэт подмечает «конфликт» между жаждой пространства и отказом от него. Город «суров к тому, что тянется по горизонтали». Он растет «вверх — по вертикали». «Вопрос места», — философски заключает Гильвик.
И все-таки город притягивает. Против воли он «проникает» в душу поэта, полонит ее. Временами на улицах города ему чудится пение флейты. В такие мгновения поэт видит над городом «сияние улыбок», оно обещает «самые прекрасные дни».
В «Городе» Гильвик много — по сравнению с другими своими книгами — пишет о людях. И почти всегда с новой интонацией. Ему, родившемуся в Карнаке, где люди молчаливы, как скалы, кажется, что горожане «слишком много говорят». Может быть для того, чтобы «заглушить шум»?
Люди у Гильвика — прежде всего созидатели. Это они построили город, вымостили его, одели в гранит набережные. И поэт, почувствовавший себя «одним из них», с достоинством говорит от их имени — «мы». Он пишет о «власти контор» и о «власти улиц», о цифрах, которые «выплевывает город».
Но что это? Лица людей полны гнева. Демонстрация.
Идут они рядом. К плечу плечо
От Бастилии до площади Наций.
Тысячи их. Неба простор.
Гильвик не называет ни дня, ни места, ни года, но каждый парижанин безошибочно скажет, что речь идет о демонстрации парижских трудящихся против ОАС 8 февраля 1962 года. Гильвик восторгается изумительным чувством братства, объединившим этих людей. Стремительная, широкая строка с паузой посредине передает четкость шага демонстрантов. Это ритм наступления. Но внезапно строка сжимается, словно цепенеет:
И вдруг — молчание.
Долгий марш.
Поэт не описывает расстрела демонстрации. Он говорит лишь о том, что невозможно смыть кровь погибших с мостовой у метро Шарон. И еще о том, что толпа осиротела и город разделил ее скорбь…
[…]
Восемь лет назад французский поэт был гостем Киева, где в то время отмечалось 150-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Именно благодаря Гильвику французские читатели впервые познакомились с творчеством украинского поэта — он перевел на французский избранные стихи Шевченко (1964) и написал к ним предисловие.
- Шевченко — великий поэт, — говорит Гильвик. — Не было, наверно, на свете большего мечтателя, чем этот бунтарь! Огромной силы пламя бушевало в нем. Как и другие великие поэты своего времени — Мицкевич, Петефи, — Шевченко принадлежит своему народу, вошел в его историю как поэт и как герой, точнее, может быть — как герой-поэт...
Два года спустя Гильвик посетил Грузию в связи с 800-летним юбилеем Шота Руставели. Поэт вспоминает, что там его неотступно преследовал образ Прометея. — Я так и видел его среди скал. Персонажи из мифологии обступали меня, гипнотизировали... Девушки в горах прекрасны, как принцессы... Вспоминая Грузию, я ощущаю острую ностальгию, честное слово!
[…]
В качестве переводчика Гильвик принимал участие в подготовке антологии русской поэзии, вышедшей в 1965 году под редакцией Эльзы Триоле. Ему принадлежат, в частности, переводы басен Крылова, стихотворений Дениса Давыдова, Батюшкова, Баратынского, Кольцова, Фета, Некрасова, а также Анны Ахматовой, И. Эренбурга, Тихонова, Кирсанова, Слуцкого, Сосноры. Переводил Гильвик и грузинских поэтов.
«Иные стихотворения, — признается он, — переводить сложнее, нежели писать собственные». Гильвик никогда не был равнодушным переводчиком; он стремится прежде всего «сохранить дух оригинала, передать тон стихотворения и его движение, внутреннее озарение отдельных образов». Для перевода он отбирает лишь тех поэтов, с кем ощущает внутреннее родство.
Уже много лет он руководит «Клубом книги имени Дидро» — это издательство создано при «Центре по распространению книг и журналов». Как рассказывает Гильвик, его цель — «пробудить у читателей интерес к книге, познакомить с лучшими произведениями французской литературы».
[…]
Гильвик удивительно верен себе. Его никогда не спутаешь с другими. Все те же «островки слов» на белом листе, сжатая, напряженная, математически выверенная строка. Все то же предельно бережное отношение к поэтическому слову, та же вера в его великую силу и власть.
Л-ра: Иностранная литература. – 1977. – № 10. – С. 219-225.
Произведения
Критика