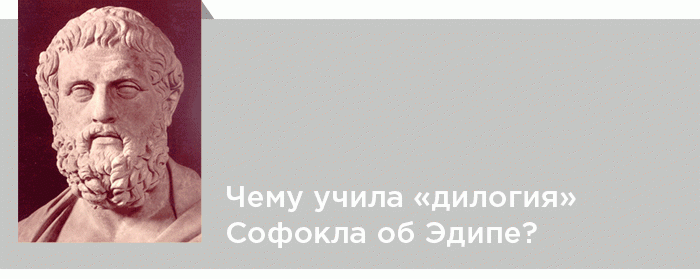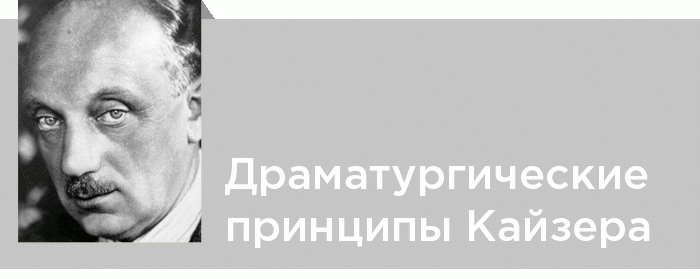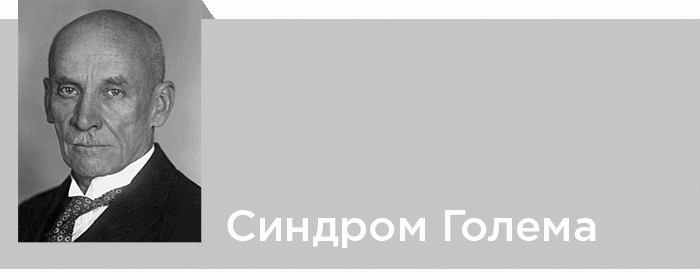Катастрофические химеры Густава Майринка

Ю. Стефанов
Посмертная судьба этого замечательного австрийского писателя (1868-1932) в чем-то схожа с судьбой нидерландского живописца Иеронимуса Босха. Тот и другой при жизни не были обделены ни вниманием современников, ни материальными плодами своей широкой славы. Около полутора десятков фильмов было снято по мотивам «Голема», первого романа Майринка, принесшего ему изрядный доход; испанские и португальские короли не жалели ацтекского золота, чтобы заполучить в свои дворцы ту или иную картину Босха. Франц Кафка, Александр Чаянов и Михаил Булгаков настолько внимательно вчитывались в произведения загадочного пражского мастера, что в их собственных книгах как бы сами собой застревали то его сюжетные находки, то фрагменты символики, то особенно броские детали — вспомним хотя бы «живой глобус», перенесенный в апартаменты Боланда из романа Майринка «Ангел Западного окна», или проходную, но весьма колоритную фигуру «флибустьера-ресторатора» Арчибальда Арчибальдовича (чем не владелец кабачка «Зеленая лягушка» из «Вальпургиевой ночи» пражского визионера?). Точно так же пять веков назад Питер Брейгель всматривался если не в оригиналы, то в гравюры и копии с работ своего предшественника, — всматривался столь пристально, что еще лет сто назад его композиции приписывали Босху, et vice versa.
Все это, разумеется, нисколько не ставит под вопрос гениальность Брейгеля или одаренность Булгакова, — речь идет лишь, о редкостном прижизненном авторитете сравниваемых между собой первостепенных и первородных величин, каковыми мне кажутся Босх и Майринк. Однако вслед за тем для них наступает пора не то чтобы полного забвения, а недооценки, непонимания, ущербности восприятия, способного уловить только побочные и общедоступные стороны их наследия. В XVIII веке, в глазах критиков пресловутой «эпохи Просвещения», Босх слыл этаким провинциальным сатириком, в лучшем случае — мастаком по части разной «чертовщины» (diablerie), в которой и разбираться-то вроде бы незачем: мало ли чего ни напридумывают эти средневековые варвары. Примерно такая же участь ждала и Майринка: европейским обывателям-мазохистам, начитавшимся Фрейда, пришлись по сердцу лишь те язвительные выпады, которые он обращал против них в своих ранних вещах, а все его зрелое творчество, особенно упомянутый выше итоговый роман «Ангел Западного окна» (1927), вскоре было сочтено «иррационально-фантастическим» бредом.
Справедливости ради стоит сказать, что в нацистской Германии и в советской России отношение к нему было — как бы это сказать? — более дифференцированным. Гитлер, по всей вероятности, не мог простить своему земляку двусмысленного отношения к евреям — они у него, видите ли, обрисованы и как воплощение мирового зла (старьевщик Вассертрум из «Голема») и как живой символ святости (архивариус Гиллель из того же романа). Эта идеологическая неопределенность и стала непосредственным поводом для того, чтобы во времена Третьего Рейха книги Майринка сподобились крещения в огненной купели, которую он так или иначе предрекал во всех романах; их жгли на уютных площадях. Развивая символическую параллель с посмертным уделом Босха, можно напомнить, что многие его картины тоже были опалены языками жертвенных костров, разложенных нидерландскими анабаптистами.
Я упомянул о непосредственном поводе для такого рода «почестей», оказанных Майринку на его родине. Существует и другая, менее явная их причина: дело в том, что ему, прирожденному ясновидцу, развившему свой естественный дар в пражских эзотерических кружках «Цепь Мириам» и «Голубая звезда», доводилось иной раз хотя бы краем глаза заглядывать в будущее, еще до первой мировой войны прозревая в нем такие жутковатые подробности, которые стали явью лишь через два-три десятилетия, а то и много позже. В золотую пору Сецессиона и русских балетов он писал о зловещих опытах над людьми, о «черной дыре», в которую постепенно втягивается земная атмосфера, о стеклянных храмах-душегубках, где гибнут заманенные туда жертвы, о пандемии «фиолетовой смерти», грозящей всему человечеству.
Все эти пророчества в той или иной форме сбывались (и продолжают сбываться, примеры у всех перед глазами), а пророков, как известно, не жалуют нигде, особенно в их собственном отечестве. Ну как могли нацистские властители допустить, чтобы их верноподданные, разве что по слухам знавшие о газовых камерах, перечитывали такие вот натуралистические пассажи: «...ядовитый туман уже стелился слоями и, постепенно сгущаясь, тяжело и неотвратимо, подобно гигантской бескостной туше, подминал под себя сознание...»; «дыхание с хрипом рвалось из груди, в висках били бешеные тамтамы; сердце, казалось, не выдержит и вот-вот взорвется...»; «все вокруг сцепились в один дьявольский клубок, тела скручены судорогой, посиневшие пальцы терзают хрипящее горло...»; «кто-то впивается ногтями в грудь и раздирает ее кровавыми бороздами…». Это теперь мы можем не без содрогания сверить «химеры» Майринка с показанием людей, ставших свидетелями их реального воплощения. Рискуя отпугнуть слабонервного читателя, приведу выдержку из книги американского журналиста Уолтера Ширера «Взлет и падение Третьего Рейха»: «Я лично видел сквозь смотровое окно барокамеры, как заключенные переносили вакуум, пока не происходил разрыв легких. Они сходили с ума, рвали на себе волосы, расцарапывали голову и лицо ногтями, пытались искалечить себя, бились головой о стены и кричали...» Похоже, не правда ли?
А взять рассказ «Растения доктора Синдереллы», где описывается подземелье, переоборудованное под чудовищную лабораторию: «...повсюду тянулись деревянные шпалеры, увитые сложными сплетениями вен — очевидно, искусственно сращенных; густая темная кровь пульсировала в них...»; «...жутко мерцали грозди бесчисленных глазных яблок...»; «грибы из кровоточащего мяса нервно вздрагивали при малейшем прикосновении…». Эти попытки «низведения человеческого, одушевленного начала до чисто вегетативного уровня существования» пока еще не стали явью, но кто знает, что с нами будет завтра?
Легко понять и причины «особого отношения» к Майринку в советской России. Достаточно для этого вспомнить те пророческие страницы из «Вальпургиевой ночи», вышедшей как раз накануне великого Октября, где кучера и лакеи подзуживают друг друга, призывая «разрушить государство, церковь, дворянство, бюргерство», «разжечь революционный пожар по всей Европе», вывести под корень всех господ; «никто из них не должен выжить, ни мужчина, ни старец, ни женщина, ни дитя».
Мудрено ли после всего этого, что Майринк, которого начали было понемножку переводить и печатать в угаре нэпа, был вслед за тем причислен к «воинствующим мракобесам», предан анафеме и полному забвению?
Не многим лучше обстояли дела и в Европе, где некогда знаменитым экспрессионистом давно перестали интересоваться, где занудливо-мистический канцелярит его подражателя Франца Кафки мало-помалу заглушил диковинные шпалеры самого пражского мастера. Лишь в шестидесятые годы во Франции нашлись люди, сумевшие заново прочесть, перевести и прокомментировать наследие Майринка. Инициатором процесса был известный писатель, журналист, издатель и специалист по части эзотерики Луи Повель, которому за одно это следовало бы памятник поставить. Предисловия к романам австрийского классика писали такие видные знатоки тайноведения, как Юлиус Эвола, Жерар Эйм, Раймон Абеллио. С их легкой руки Майринк, дотоле считавшийся прежде всего «сатириком» и «черный фантастом», обрел свое подлинное лицо и по праву причитающееся ему место в мировой литературе. Для меня лично его величие бесспорно: другое дело, что для массового читателя он, похоже, навсегда останется сокровищем за семью замками. Но ведь то же самое можно сказать о творческом наследии любого гения, не испохабленного вконец руками «популяризаторов» и «трактователей», — кто такой для нас, к примеру, Франсуа Рабле? В лучшем случае — горластый певец «материально-телесного низа», жизнерадостный сценарист народных карнавалов. А ведь во Франции издана не одна монография, показывающая, что знаменитый медик был ни много ни мало великим посвященным, адептом «королевской науки», то бишь алхимии, настоящим кладезем древней сокровенной мудрости, бьющей ключом со страниц его необычайной книги.
Под лежащий камень вода, как известно, не течет: за последние годы и в нашем отечестве сделаны, кое-какие шаги к пониманию Майринка, который теперь, судя по всему, будет переводиться и издаваться все чаще и все большими тиражами. Не так давно в приложениях к журналу «Иностранная литература» вышел новый вариант «Голема», выгодно отличающийся от двух прежних переводов — берлинского и петроградского. Петербургское издательство «Terra incognita» дважды (в мягкой обложке и в переплет) выпустило томик, куда вошли «Вальпургиева ночь» и рассказы из сборника «Волшебный рог немецкого обывателя», за ним последовал наконец-то переведенный «Ангел Западного окна» — при смехотворном по теперешнему времени тираже в десять тысяч экземпляров эта книга была молниеносно сметена с лотков. РИА «День» тиснуло сборничек заплесневелых нэповских переводов, надерганных из «Волшебного рога» и «Летучих мышей», проиллюстрировав их репродукциями Мунка. «Иностранная литература» в Своем «спецномере», посвященном «сверхъестественному, инфернальному и мистическому в литературе XX века», порадовала нас замечательной новеллой «Майстер Леонгард», помещенной в самом начале подборки. И вот творчеством Майринка заинтересовалось одно из крупнейших издательств страны, петербургский «Северо-Запад»: «Ангел Западного окна», «Кабинет восковых фигур» и «Белый доминиканец» должны открыть новую серию под названием «Гримуар», каковым маловразумительным для нас словом во Франции именуют «черные», колдовские книги.
[…]
В этом номере «Литературного обозрения» вниманию читателя предлагаются два его рассказа, на русский язык ранее не переводившиеся. Оба они взяты из «Волшебного рога», книги, мягко говоря, несколько мрачноватой, о чем можно судить хотя бы подтем описаниям «стеклянной душегубки», которые привел выше. Автор приглашает нас вместе с ним сойти в запутанные, как лисья нора, лабиринты, в сумеречные заросли царства теней: «Итак, вперед, только осторожно, здесь темно как в могиле; огня у нас нет — на наших мантиях карманы не предусмотрены, таким образом, спички тоже».
«Волшебный рог» посвящен описанию «преисподней» собственного подсознания, куда попадает человеческий дух на первом этапе инициатического процесса, — этапе, который на алхимическом жаргоне именуется «почернением» (nigredo), «гниением» (putrefactio), «полетом ворона», «испытанием пустотой».
Здесь, пожалуй, будет уместна цитата из Рудольфа Штайнера, в которой подчеркиваются опасности — их не избежал и сам Майринк, — подстерегающие посвященного в самом начале его духовного пути: «Здесь лежит, однако, страшная возможность. Она заключается в том, что человек теряет ощущения и чувства непосредственной реальности, а взамен не открывается перед ним другой. Он витает тогда как бы в пустоте. Старые ценности погибли, новые для него еще не возникли. Он достигает предела, где дух объявляет ему всякую жизнь как смерть. Тогда он больше не в мире; он под миром — в преисподней. Он совершает путешествие в Аид». Собственно говоря, мотив «инициатической смерти» — это всего лишь развитие и применение на практике известной евангельской истины: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24). Рене Генон называет это состояние «психической смертью». «Для обычного человека, — пишет он, — оно наступает через более или менее продолжительное время после смерти телесной и не обеспечивает ему доступа в духовные области; данное существо просто переходит из одного личностного состояния в другое. Совсем иначе обстоит дело с посвященным, который оказывается в положении куда более худшем, чем простой мирянин, поскольку он должен достичь высших состояний, не пройдя фазы растворения телесной оболочки и не получив поддержки в виде погребальных обрядов». Вполне понятно, что этот процесс, даже если он протекает «под руководством людей опытных», чреват совершенно реальными опасностями: физической смертью (чаще всего самоубийством), потерей памяти, эпилепсией, безумием. Из биографии Майринка известно, что в молодости он пытался покончить с собой, а его любимый сын Фортунат по собственной воле ушел из жизни в том же возрасте, в каком пытался сделать его отец...
В «Волшебном роге» бесконечно варьируются и мастерски обыгрывав 1 ются мотивы и образы гниения, распада, безумия, убийства и самоубийства. Майринк пишет о «кошмарных мистериях праадамова искусства, которое позволяет разъять человека на множество составных частей, способньйс жить сами по себе». Эта книга была бы вполне беспросветна и совершенно невыносима, подобно «Колымским рассказам» Шаламова, если бы ее не скрашивала изрядная примесь иронии и самоиронии.
Вчитываясь в нее, ощущаешь себя зрителем «вертепа», народного кукольного театра, который, как известно, представлял из себя большой деревянный ларь, разделенный на три яруса: нижний из них изображал преисподню, средний — земной, человеческий мир, а верхний — небеса. Действие шло одновременно на трех уровнях, наглядно показывая, что все человеческие поступки, все радости и невзгоды суть лишь отражение извечного конфликта между нижним и верхним мирами. «Вертеп» раннего Майринка недостроен: в нем не хватает верхнего яруса. Персонажи «срединного мира» не только не получают никакой поддержки от иерархий высшего порядка, но, похоже, даже не подозревают об их существовании. Они — «марионетки чужой воли», живые автоматы, действующие по наущению подозрительных кукловодов, вроде Яна Долежала из новеллы «Катастрофа». Автор пишет о «невидимых нитях», направляющих его героев, о «какой-то дьявольской руке, которая ведет их от кошмара к кошмару». Настоящие марионетки, изображенные в «Волшебном роге», мало чем отличаются от существ из плоти и крови; в нем только подготавливается, предугадывается тема духовного возрождения, превращения страдающей, но бездушной куклы в настоящего человека, ответственного за свои поступки, причастного к мистериям «верхнего мира».
А пока мы вместе с безымянным действующим лицом, притчеобразного рассказа «Химера» «вдыхаем мертвый воздух», знакомимся с «болезненными, мертвенно-бледными исчадиями мрака», внимаем «мертвенному оцепенению, царящему в сосредоточенно молчаливом нефе». Даже солнечные «зайчики», пляшущие «по древним суровым стенам», больше смахивают на «обманчивые болотные огоньки»; зачарованному их игрой посетителю собора кажется, будто они превращаются в золотые жилы, скрытые под церковными, плитами, — «только нагнуться и поднять!». Но это всего лишь наваждение, химера, бесовский морок — почва Праги устлана не золотом, а костями: одинокий мечтатель получает в дар от таинственного незнакомца не самородок, а человеческий позвонок.
Нам не в диковину такие подарки: не только Прага — вся Европа после мировых войн и революций стала домом, выстроенным на погосте, — где ни копни, всюду лопата уткнется в людские костяки. Но надо было быть подлинным ясновидцем, чтобы в благополучнейшей Австро-Венгерской монархии, в ту благословенную пору, которую французы называют «прекрасной эпохой» (belle epoque), всмотреться в лик грядущего и предугадать его апокалиптические, катастрофические черты. «Химеры» и «катастрофы» раннего Майринка гораздо более актуальны в наше время, чем тогда, когда они только мерещились пражскому мастеру. Технология душегубок, впервые разработанная, оказывается, не в нацистской Германии, а в нашем с вами отечестве, отнюдь не утеряна, а только сдана в надежный архив. Сатанинские секты, вроде той, которой заправляет у Майринка «богемский пророк» Ян Долежал, множатся по всему миру, затаскивая в свои капища людей-марионеток. «Озонная дыра» всасывает в себя земной воздух: «Каким образом будет развиваться дальше эта глобальная химическая реакция, неведомо, ясно одно: человечество обречено на удушье».
Творчество Майринка и кстати сказать, Босха — это никакая, не фантастика, а самый настоящий реализм, только не плоский, однобокий (или одноярусный), а — если брать его наследие в полном объеме — многослойный и многозначный, сложносочиненный, вырастающий из инфернальных подземелий, чтобы в конце концов коснуться высших сфер инобытия, столь ярко и впечатляюще описанных в финале романа «Ангел Западного окна». «Подобно окалине» спадают там с адепта «шутовские одежды» посюсторонней жизни, и он становится «помощником человечества», одним из звеньев нерасторжимой цепи «белых светоносных существ».
Л-ра: Литературное обозрение. – 1993. – № 7-8. – С. 75-78.
Произведения
Критика