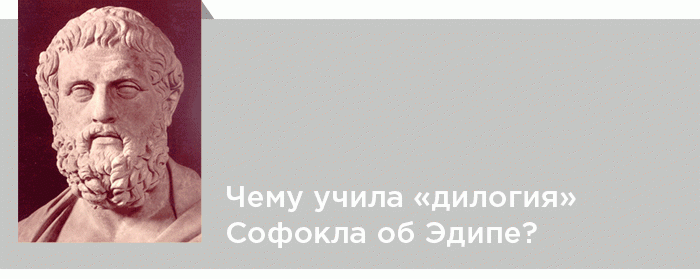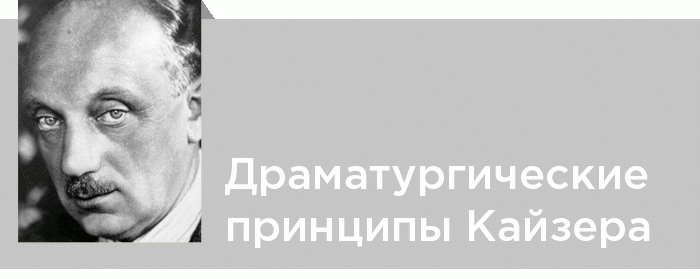Синдром Голема
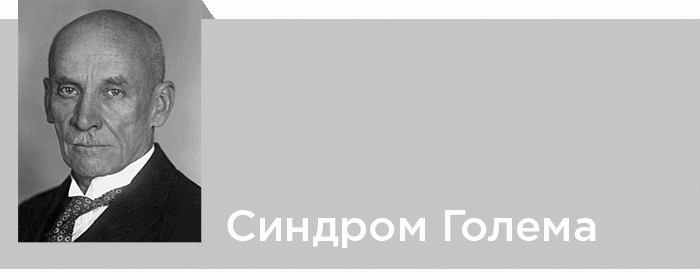
В. Никифоров
...Не вижу ли я из этого окна только плащи и шляпы, в которые облачены фантомы или искусно сделанные куклы, приводимые в движение пружинами.
Декарт, Рассуждение о методе
«Голем» был дважды экранизирован (в Германии и Франции), переведен почти на все европейские языки, в том числе и на русский (1922).
«Русский Мейринк» в течение семи десятилетий вел чисто маргинальное существование: германисты, конечно, его знали, имя писателя упоминалось в энциклопедиях и учебниках — вот, пожалуй, и все. В принципе, в немецкоязычном литературоведении ситуация не намного лучше: националистическая критика Веймарской республики и уж тем более «третьего рейха» инкриминировала писателю «издевательство над всем немецким» (мотивировалось это его мнимым еврейским происхождением), а его книги были сожжены во время пресловутого аутодафе. «Прорыв» наступает только в 60-е годы. В настоящий момент мы имеем два новых издания Мейринка. Данные публикации совмещают, так сказать, приятное с полезным: возвращают в наш литературный процесс несправедливо выключенного из него писателя и идут навстречу рыночным законам, учитывая тягу нынешнего потребителя к иррациональному, к эзотерическим сферам духа и оккультному познанию.
В этом кратком обзоре речь главным образом пойдет о первом романе Мейринка, поставленном в некий литературный контекст. Но для начала несколько упреждающих слов во избежание возможной вульгарно-социологической интерпретации предложенного нам текста (учитывая свалившуюся на нас «тотальную политизацию»). Что имеется в виду? В романе описано гетто. Гетто неизбежно генерирует всевозможных чудовищ: «Он живет в легенде, пока на улице не начинаются события, которые снова делают его живым». Если фатальный хронотоп нашего недавнего исторического прошлого — гетто (впрочем, гетто еще не предел), то что же тогда колоссальный монстр с глинобитной головой, у которого изо рта вырвали пентаграмму единственно верного, а потому всесильного учения, и вот он рушится, грозя убить нас своими обломками... и т. д. и т. п. Такие ассоциации «за книгой» будут возникать, но давайте пойдем по иному пути и взглянем на проблематику романа как на производное от его поэтики. К тому же подобной расстановке акцентов противится сама историософия романа (то есть политика здесь не накладывается на метемпсихоз). Если мы причину наших бед видим в какой-то степени в отрыве от «корней», забвении «истоков», в нарушении традиции и, восстанавливая все это, надеемся выбраться из провала, то мейринковская ретроспекция диктует осознание безнадежности «пути всея плоти». Конечно, писатель ангажирован социально, но взгляд его скорее вне времени.
Голем (евр. «комок», «неготовое») — гибрид фольклорных преданий и кабалистики. Наиболее знаменита именно «пражская модификация» (конец XVI — начало XVII веков): созданный раввином Левом биоробот выполнял черновую работу, служил звонарем в синагоге, его можно было также задействовать в субботу. Голему приписывается способность бесконечно увёличиваться в росте, впадать в неистовство, круша все вокруг. Мейринк почти во всем изменяет парадигме, но так, возможно, и должен поступать поэт, не стремящийся только проиллюстрировать миф. У него Голем — метафора, выполняющая две функции: показать путь кабалистического исцеления, а с другой стороны, — воплощение абстрактного духа гетто. Еще один момент новизны в трактовке: в легенде раввин был наказан за самомнение (вздумал посостязаться с богом), дело его рук тоже терпит крах; у Мейринка Голем сам получает частицу божественного бессмертия и не осуждается за это.
Рассказчику — его зовут Атанасиус Пернат (хотя не известно, так ли его зовут на самом деле, имя написано на внутренней стороне шляпы, которую он по ошибке взял накануне в церкви) — снится сон: камень, гладкий, похожий на кусок сала. Он вспоминает эпизод из книги о Будде Гаутаме, читанной перед сном, где ворона слетела к камню, думая, что это сало. «Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, спустившейся к камню, покидаем мы, ищущие, аскета Гаутаму, потеряв вкус к нему».
Здесь намечается буддистский, йогический пласт и один из нескольких культурных пластов романа. Будда Гаутама в данном случае — идеальное существо, достигшее пика духовности и осознавшее всё воплощения, а следовательно, наиболее полный антагонизм «неготового», «комкообразного». То есть Гаутама — Антиголем. Я забегаю несколько вперед, но ведь и роман берет с места в карьер.
Спящий вспоминает все камни, когда-либо «игравшие роль» в его жизни. Содержание сна, возможно, детерминировано чисто внешними, бытовыми причинами, так как Пернат, узнаем мы в дальнейшем, по профессии реставратор антиквариата и резчик камей. Но появление упомянутого камня в другом стратегически важном пункте эволюции героя доказывает, что все не так просто. Но об этом ниже.
Вторая глава, называющаяся «День», начинается так: «И тогда я вдруг оказался в каком-то темном дворе...» Странный переход, его можно расценить не как пробуждение, а как, скорее, переключение регистра все того же сна. Это «сон в сне» — по принципу матрешки. Определение «в каком-то» подчеркивает новизну, незнакомость места, неожиданность новой мизансцены. Заголовок «День», таким образом, фикция. Повествователь смотрит в окно и видит старьевщика Вассертрума, отвратительного персонажа, торгующего всяким хламом. Итак, он знает, кто перед ним, и это вроде бы компенсирует отчужденность ландшафта.
Вместе с Вассертрумом вступает еще одна линия романа — фельетонно-бытописательная, идущая во многом от Диккенса (Мейринк переводил его на немецкий язык), в особенности напрашиваются ассоциации с «Холодным домом». В данном аспекте автор «Голема», несомненно, сближается со своим земляком Ф. Кафкой, в первый роман которого «Америка» тоже в какой-то степени подмешаны «диккенсовские дрожжи».
Сын Вассертрума, врач-окулист, взявший себе псевдоним «Вассори», делал преступные операции, удаляя пациентам мнимые катаракты, что приводило к слепоте (совершенно гротескная ситуация — полное травестирование функции!). Его разоблачает, доводя тем самым до самоубийства, некто Савиоли. Вассертрум мечтает погубить Савиоли, но в дело вмешивается его незаконнорожденный сын Хароусек, срывающий планы старьевщика. Вассертрум — узел зла, квинтэссенция гетто. Именно он запустил в свое время «адскую машину», продав мать Хароусека в бордель, все же остальное — только цепная реакция. Пернат также оказывается втянутым в события, что едва не приводит его к гибели. Все это — почти детективный комплекс, с ним смыкается критика бюрократической системы Австро-Венгерской монархии, судопроизводства «Какании» — по определению Р. Музиля.
События первых двух глав как бы готовят нас к вступлению основной темы — кабалистической, «големической». И вот наконец к Пернату приходит посетитель: необходимо отреставрировать обложку книги, называющейся «Иббур» (евр. «беременность», «зачатие»). Мастер становится ее невольным читателем и попадает в мир странных символов, ввергающих его в смятение.
Позволим себе, однако, следующую ремарку: не следует преувеличивать значения ни буддистского, ни кабалистического пластов. Хотя книга и начинается цитатой из «Жизни Будды», сам Мейринк скептически относился к полной аскезе, то есть спиритуальной сфере должен сопутствовать естественный фон, а восхождению в высший мир обязательно предшествует нормально прожитая земная жизнь. Что касается кабалистики, то она, по мнению Гершома Шолема, ведущего специалиста в этой области, в «Големе» только фасад. Кроме того, следует учитывать влияние Парацельса и Фламмариона (книгу последнего «Загадка душевной жизни» Мейринк перевел на немецкий язык). Исследователями отмечалось совпадение в некоторых метафорах: так, в частности, Фламмарион говорит о «вибрации эфира», Голем же издает звук, «подобный камертону», и т. д. Резюмируя сказанное в последнем абзаце: насыщение художественного текста «эзотерической» информацией носит не столько «оккультный», сколько популяризаторский характер. Идет поиск формы, а когда надо, расшатать канон, то всякое лыко, как говорится, в строку.
Визит необычного посетителя — наиболее таинственное и загадочное место в книге, переломный пункт в развитии событий (вот уж где, вероятно, был повод разгуляться фантазии кинематографистов!). Именно с этого момента в сюжете возникает некое ядро, некий энергетический центр, который, как мы теперь понимаем, совершенно целенаправленно генерирует романное действие.
Итак, заглянув в книгу и «зачав от духа», понимая, что в одиночку с бременем, свалившимся на него, не справиться, Пернат обращается за помощью к архивариусу (профессия, очевидно, маркирует приобщенность к сфере памяти) Гиллелю, живущему по соседству. После чего Гиллель становится его духовным вождем, наставником, а дочь Гиллеля Мириам — «дамой сердца новообращенного». Интересно, что Гиллель — единственный, на кого не распространяются «чары Голема», кто может судить об этом феномене отстранение, ибо для него это — пройденный этап.
Приход незнакомца одновременно знаменует полифоническое вступление «темы Голема», причем это сразу же осуществляется в аспекте «двойничества». Так, Пернат, пытаясь вспомнить внешность гостя, сам вдруг начинает ощущать себя им (движемся, как он, принимает его внешний облик). Парадоксальность положения в том, что книгу, вызвавшую у Перната душевное смятение, приносит тот, кто и должен быть преодолен и отринут в результате всех этих катаклизмов. Но внимательнее вчитываясь, в текст, мы понимаем, что никакого парадокса здесь нет, ибо принесший книгу — всего лишь одна из ипостасей натуры самого Перната. Он по-настоящему был подготовлен к восприятию вести, и тогда эта весть материализовалась.
Затем следует целый ряд инициаций. В частности, Мириам посвящает его в этику и эстетику «чуда». Кабалистический тезис: в материальный мир «скорлуп», как бы для совершения еще одного «штрафного круга», возвращается только та душа, которая не обрела своей половины. Именно в Мириам Пернат начинает видеть возможную напарницу для «бегства» в трансценденцию.
Позже, во время дружеской вечеринки, приятель Перната и владелец небольшого театра марионеток Цвак рассказывает легенду о Големе, проявляя новые грани этого образа. Он вспоминает, как покойная жена Гиллеля однажды повстречала Голема, и у нее было такое ощущение, словно она встретила частицу собственной души. Художник Фрисляндер во время рассказа Цвака вырезает из чурбана голову Голема, которую затем выбрасывает в окно, при этом Пернат теряет сознание. Вполне очевидная и недвусмысленная подсказка!
Спустя какое-то время Пернат обнаруживает, что из его теперешнего жилища есть лабиринтоподобный ход, ведущий к дому (не пуповина ли?), в котором находится комната «без двери и с одним окном», где, по преданию, останавливался в период своих воплощений Голем. Пернату кажется, что все это он уже когда-то видел, герой выходит из состояния полной амнезии, в голове брезжут воспоминания.
Таким образом, путь к Голему — это путь к себе. Голем воплощает, впитывает все инкарнации, предшествовавшие протагонисту. Он видит лица своих предков, и они сливаются в лицо Голема. «Трансцендентность «Я»,— пишет А. Дугин в послесловии к «прометеевскому» изданию, — которое передается не по генетической цепи, но непосредственно из духовного мира, занимая на время место в кукольном преходящем теле, прадревним ростком которого является тленная и пустая форма».
Позже, попав по ложному обвинению в тюрьму, Пернат оказывается в одной камере с убийцей и насильником Ляпондером, которого, с одной стороны, можно поставить в уже означенный ряд «инициирующих» фигур, а с другой — ничто не мешает нам видеть в нем опять-таки одну из ипостасей сознания самого Перната. Ляпондер — то, чем мог бы стать Пернат в случае полной ассимиляции «крови гетто», безусловного приятия «стези смерти» и «пути плоти». Чтобы услышать голоса Гиллеля и Мириам, Пернат использует соседа по камере в качестве медиума. Ляпондер фактически пустая оболочка, «големическая амальгама», лишь ретранслирующая чужую духовность и не способная продуцировать собственную. В то же время это не примитивный уголовник, себя Ляпондер также причисляет к категории лиц, «укушенных змеем духовного царства», видя в своей судьбе определенное мессианское предназначение. Ларошфуко когда-то сказал, что зло, как и добро, знает своих героев. Люди типа Ляпондера тоже проявляют «големичность» человеческого существования, спускаясь в онтологические бездны Зла. Здесь есть своя диалектика.
Вот космология Мейринка: человек находится между противоборствующими принципами, стремясь к эзотерическому, оккультному знанию, наделяющему его способностью присоединиться к силам добра. Но есть и иной путь — путь зла, также имеющий своих адептов и рассчитанный на тех, кто принял «зерна рока» (Ляпондер, Хароусек, Вассертрум). Большинство людей, однако, по словам Гиллеля, «не идут никаким Путем, ни путем жизни, ни путем смерти. Вихрь носит их как солому». Пернату стоило большого труда преодолеть естественный человеческий конформизм и выбрать более тернистый «путь жизни».
Выйдя на свободу, Пернат обнаруживает, что гетто разрушено, в том числе и его дом. Он снимает комнату в единственном уцелевшем здании — том самом, где квартировал Голем (последний оплот монстра и он же первая ступень в царство свободы). Под Рождество в доме вдруг появляется двойник Перната в белом одеянии и с короной на голове, вспыхивает пожар, Пернат вылезает в окно — вдоль трубы тянется канат трубочиста; в одном из окон, кажется ему, он видит Гиллеля и Мириам; падает, хватается за подоконник, но не удержаться: камень гладкий, как кусок сала.
В кульминационном эпизоде к буддистскому и кабалистическому пластам добавляются христианский (событие происходит в канун Рождества) и алхимический: огненный синтез мужского и женского начал и означает в герметической традиции получение философского камня, явление Мессии. Сцена — метафора «алхимического брака» Перната и Мириам. Камень, за который, как утопающий за соломинку, хватается агонизирующая «големическая» оболочка протагониста — последний, самый последний камень, «камень-Гаутама», элиминирующий Голема. И это, собственно говоря, конец сна и замыкание круга, разрешающая кода. Но это и первый камень, разочаровавший в начале повествования «птицу души» Перната, души, еще не вкусившей истинного знания;
Затем повествователь просыпается в гостинице. И зовут его вовсе не Пернат, Вот висит чужая шляпа, которую он по ошибке обменял в соборе. Рассказчик идет в еврейский город, в кафе Лойзичек встречает несколько старых посетителей, сообщающих какую-то невнятицу: что Пернат выдавал себя за Ляпондера; что женился на красивой смуглой еврейке; что живет «у стены последнего фонаря».
Герой идет по «улице алхимиков», которую замыкает дом. Садовая стена изображает культ Озириса, ворота представляют самого бога: Гермафродит из двух половин, образуемых створками дверей. Ворота раскрываются, он видит Перната и Мириам, ему кажется, что он стоит перед зеркалом. Слуга возвращает ему шляпу: Пернат просит извинить, что не приглашает в дом, — таков давний и строгий закон. Хозяин не надел вашей шляпы, так как заметил, что она обменена, и выражает надежду, что его шляпа не причинила вам головной боли сегодня ночью.
Что ж получается, «Голем» — сон, гигантская галлюцинация? Вот и «рамочный повествователь» — весьма традиционный литературный прием, да и завязка интриги типично романтическая: надо всего лишь продать свою тень, заполучить три золотых волоска или, наконец, по ошибке взять чужую шляпу — и мир тут же превращается в фантасмагорию! Но что-то не так. Что же?
Все дело в снятии оппозиции «рамочный повествователь» — «герой». Не случайно рассказчику при виде Перната и Мириам кажется, что он стоит перед зеркалом. Зеркало — в философском смысле — аналог эха и метафора «снятия», а в психоаналитическом — символ подсознания. Речь, в сущности, идет о человеческом сознании вообще, конкретный же носитель здесь имеет чисто периферийное значение. «Дело в шляпе», а не в голове, — да простит нас читатель за такой неуклюжий каламбур!
Пафос европейского модерна (недаром М. Брод определил творчество Мейринка как «модернизм тюп plus ultra») начала нашего столетия — в обращении к проблемам человеческого сознания, в большей степени именно сознания, а не психологии (вспомним высказывание Кафки: «Психология в последний раз!»), «сознание» шире, чем «душа», менее детерминировано, более синтетично. «Улисс» Джойса — тотальный театр сознания, в котором психологизированию не досталось даже роли статиста, а Блум в такой же степени Одиссей, как и какой-нибудь «мистер X.». В связи с этим наблюдается следующая вещь: с одной стороны — стремление к первичным монадам, первоэлементам (будь то физика элементарных частиц, структурная лингвистика, психоанализ Фрейда или теория архетипов Юнга), а с другой? Например, дефиниция «Эдипов комплекс» настолько широка, что как бы уже ничего и не определяет.
Если гетто представить как модель цивилизации, а в Големе увидеть некое архаичное «первотело» (пародию на Адама), то «големизация» в данном случае равна антропоморфизации, и наоборот: Гетто порождает Голема, Голем тоже в долгу не остается. Дурная бесконечность. Выход или в «Гермафродите», то есть в возвращении в утопическое состояние до вкушения от древа познания добра и зла и даже далее — когда «вторая половина» еще не «актуализовалась», или в «пробуждении в нирване», что, в общем-то, наверное, одно и то же. Гиллель называет Перната Енохом — так звали третьего сына Адама, обретшего утраченный отцом рай. Кстати, «Гермафродит» в качестве идеала выступает только в «Големе», в остальных романах Мейринка к «братству истинных адептов» допускаются исключительно мужчины, женщины же олицетворяют зло.
Материальный мир по Мейринку — вечно буксующее колесо. У бабки Розины был поклонник, который сошел с ума и вырезал из черной бумаги силуэты, причем у него выходило всегда одно и то же лицо. В Розину влюблен глухонемой Яромир, занятый тем же ремеслом. Предки Цвака были кукловодами, и хотя он получил лучшее воспитание, чем они, Цвак все равно вернулся к обшарпанному ящику с марионетками. Куклы «превратились в его мысли, обитали в его мозгу». И перед глазами Перната возникла ужасная картина, свидетелем которой он однажды был: «кукла с разбитым черепом, шатаясь, ходила по кругу».
Это в мире физическом, но и набор архетипов тоже ограничен, число комбинаций не бесконечно, надо готовить более гетерогенные смеси (Восток, кабалистика, европейская традиция), дабы избежать «инцестуальных связей» уже в архетипическом плане. Не случайны опасения, высказывавшиеся в свое время некоторыми писателями и критиками: «Улисс» — конец литературы, последняя книга.
Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнаванья миг.
Не об архетипах ли это сказано? Но замкнутый мир, без проветривания, без санации, неизбежно порождает энтропию, эпидемии, кровосмешение и вырождение. (Хронологически более близкий нам Маркес рассказал об этом в романе «Сто лет одиночества»: прекрасная Ремедиос улетела из Макондо на простынях, прервав «кармическую цепь».)
Отсюда всего лишь шаг до абсурда. Мейринк его не делает, формулу абсурда выведет другой пражанин — Кафка. Речь идет о некоем «метаапокалипсическом» мышлении (которое можно также определить как «синдром Голема» — и в экзистенциальном, и в эстетическом аспектах): не «конец света», во вечно длящееся «изгнание из рая». Возвращение не исключается, но что, если, вернувшись к праистокам жизни, мы обнаружим не «Гермафродита», но Голема и таким образом убедимся в великом «праобмане», которого боятся многие и многие? У Кафки есть мысль о том, что зло сразу воспринимается всеми чувствами, так как передвигается при помощи корней и по этой причине в выкорчевывании не нуждается. Почему появление Голема вызывает в гетто панику? Потому что каждый видит в нем апелляцию к бренной и греховной ипостаси своей собственной натуры, напоминание о смерти.
Впрочем, стоит ли так серьезно? Вот Кафка рассказал жуткую историю о превращении человека в насекомое. Может, и впрямь необходимо появление человека, который бы перевел стрелки, вывел состав из тупика, дав возможность перевести дыхание и рассмеяться? Я имею в виду Набокова с его «энтомологическим остроумием»: мол, описал скарабея (с навозом жук работает, фактура-то «големическая!»), мог бы, дескать, Грегор спокойно улететь в форточку. И Галлер в «Степном волке» Гессе видит главную свою задачу в том, чтобы «научиться смеяться»: «волчье» плюс «филистерское» («големическое»?) катализируя друг друга, «снимают» саму проблему абсурдного дуализма.
Спасается ли Пернат? Имя протагониста — «Атанасиус» — в переводе с греческого означает «бессмертный» и «я» Перната, по идее, обретает бессмертие, когда, выйдя за пределы себя, осознает всю цепь воплощений, всех «колец сознания». С другой стороны, он живет у «стены последнего фонаря», в некоем пограничье, и контакт с посюсторонним миром окончательно не утрачен, хотя чужую шляпу примерять ему уже вроде бы и ни к чему (взять взял, но надеть не захотел). А что же его alter ego, не допущенное в парадиз? Перед нами — «последний человек», «человек-мост». Что, если старика Ницше перефразировать следующим образом: «Человеческое, слишком человеческое... и есть големическое»?
Л-ра: Литературное обозрение. – 1992. – № 5-6. – С. 65-69.
Произведения
Критика