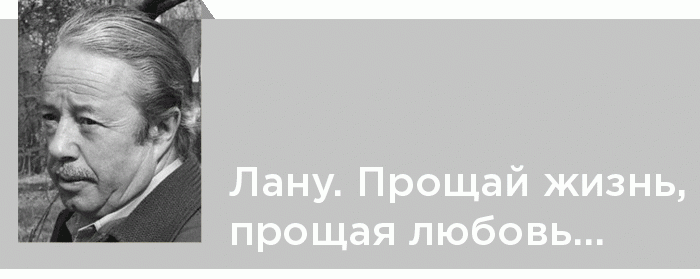Арман Лану. Ночь на островах Лерен

«Милый друг III» стоял на якоре в маленькой гавани Муан. Сухопутная публика, для которой все, что связано с морем, отмечено некой печатью аристократизма, склонна полагать, будто общество морских путешественников отличается изысканностью, однако это далеко не всегда соответствует действительности. Со стоянкой нам повезло, ибо найти летом место в крохотном порту аббатства чрезвычайно трудно, зато очень не повезло с соседями, настоящими морскими плебеями… Покачиваясь в гавани борт о борт с ними, уже невозможно было грезить, как, скажем, Дафна Дю Морье, о неземных существах, ведущих по морям сверкающие корабли! Вдобавок ко всему жара стояла невыносимая.
Вместе с мальчиками — пятнадцатилетним Оливье и семнадцатилетним Филиппом — мы отправились осматривать остров. Едва мы свернули с дороги на тропинку, как в нос нам ударили мощные испарения горячей лесной земли, заглушавшие все остальные запахи. Луны не было, но восход ее возвещало молочно-белое свечение над горизонтом, озарявшее нам путь. Вдалеке монастырский колокол отсчитывал отмеренное нам кем-то время.
На юге Сент-Онора соседствует с островом Сент-Маргерит, где, как напомнил мне мой сосед Ален Деко, томился некогда в заточении таинственный узник Железная Маска. С западного берега нашего острова видны прожекторы Канна, Пор-Канто, Круазет, освещенная башня Сюке и все огни той цивилизации, в которой звезды экрана заняли место принцев и князей начала века, унаследовав заодно и их космополитизм. Город-«кинозвезда» полыхает всего в двух тысячах метров, но отсюда, с земли черных монахов, он кажется удаленным на тысячу лет.
Стараясь не споткнуться о корни и острые камни, встречая на каждом шагу руины, где сквозь ладан христианства просачивается аромат предшествующих религий — анимистических верований, кельтских и финикийских богов, поклонения светоносной Изиде, — мы шли, ощущая свою нереальность и не нарушая покоя влюбленных пар, ничуть не более реальных, чем мы. Внезапно я заметил исходивший от земли зеленовато-голубой свет. Оказалось, что светятся рыбные останки, следы чьего-то пикника, — гниющие объедки, преображенные магией душной ночи в морских светлячков.
На южном берегу ночная феерия продолжалась. Все вокруг — деревья и руины — казалось каким-то темно-молочным. Острые камни, торчащие из воды, скалили на нас свои клыки подобно морским львам. Вдруг Филипп остановился.
Впереди, где-то возле самых стен, охраняющих от людских взоров таинственный город, который в темноте казался огромным, высилась, буквально вырастая из моря, желтая, точно окуренная серой, башня, всплывающая на фоне пепельно-темной синевы воды и воздуха.
Это были развалины крепости, некогда окружавшей аббатство. Мы стояли здесь на якоре в прошлый раз, двадцать седьмого августа, когда застряли из-за шквала. Уж это был шквал так шквал! Порвал грот, но не унес его, так как грот был хорошо закреплен, а превратил в тряпку… Я угадывал чисто сухопутный, почти суеверный страх Филиппа перед этой золотой башней лигурийского Иса, восставшей из вод, быть может, лишь на одну ночь.
Романтический дух этих мест упорно витал над нами: стоило тяжелому колоколу аббатства пробить полночь, как в монастыре замелькали странные огоньки.
Вокруг монастырей всегда распространяется много всяких россказней, причем по богатству воображения житель Средиземноморья ничуть не уступает бретонцу. Разве не ходят здесь слухи, будто кое-кто из этих смиренных монахов в грубых одеяниях был некогда прославлен в миру? Разве не шепчут люди, что своих покойников, где бы те ни скончались, монахи доставляют обратно на остров? Разве не говорят, будто баркас аббатства перевозит порой весьма странные грузы? Ореол легенды, неизменно окружающий монастыри, сливался для нас с ореолом пляшущих огоньков. Дети явно находились под впечатлением, так как Оливье внезапно остановил меня жестом. В пятнадцать лет он все еще чувствовал себя индейцем на тропе войны. Мы замерли. Перед нами открывался вид на бухту, представляющую собой неправильный четырехугольник, в котором не хватало лишь одной, самой короткой, стороны на юге. Длинной стороной служил монастырь, одной из коротких — стоящая в море башня, а второй длинной стороной — цепочка обрывистых скал и рифов, коварно притаившихся под водой. Все вместе образовывало неглубокую естественную гавань — прекрасное пристанище для судов с небольшим водоизмещением. Просторная лодка дремала на своем отражении неподалеку от берега, когда внезапно что-то встревожило моего сына.
В полной тишине из монастыря вышла странная процессия. Впереди шествовали двое монахов в капюшонах. За ними три человека несли тяжелый продолговатый тюк, чуть провисающий в середине и завернутый во что-то белое, похожее на парус. Еще один человек стоял в стороне и наблюдал — в его позе чувствовалось высокомерие.
Погрузить ношу на лодку оказалось не просто, так как лодке было не подойти близко к берегу. После двух неудачных попыток ее подвели кормой к башне. Пока один из моряков заводил швартовы, двое других, по пояс в воде, поднесли тюк. Стоявший в лодке склонился за борт, принимая груз. Неверный, тусклый свет не позволял больше ничего разглядеть. Человек, который держался в стороне, взглянул на монахов, стоявших рядом с ним на берегу, поклонился и решительно вошел в воду. Чья-то рука помогла ему влезть в лодку. Послышался ритмичный плеск весел. Когда лодка вышла на фарватер, монахи вернулись в монастырь.
— Что они делают? — спросил Филипп. — В гавани Муан им было бы намного проще!
— Проще! — сказал я. — Зато беспокойнее.
Мы двинулись дальше и, дойдя до самой восточной точки острова, сели на камни прямо напротив Сен-Ферреоля, соседнего островка, окруженного едва выступающими из воды рифами. Луна уже успела подняться высоко, и свет ее стал еще белее. Я был уверен, что сейчас мы увидим, как лодка причалит к островку, выгрузит тюк и уплывет. Так и случилось.
— Я сплаваю туда. Хочу взглянуть своими глазами. Вы со мной?
Дети решительно отказались, и я вошел в теплую воду.
— Ой, папа! — воскликнул Оливье. — Смотри, ты весь в звездах!
Руки мои захватывали вместе с водой светящийся планктон — мириады морских светлячков. За каждым моим пальцем тянулись Млечные Пути. Я долго и осторожно плыл, выискивая щели между подводными камнями, и наконец выбрался на освещенный луной островок. Камни, лишайники, морская пенка кололи босые ноги. Вершина острова возвышалась над водой метра на три-четыре. Если не считать лишайников, вся растительность ограничивалась несколькими хвойными деревьями, лохматыми, источенными водяной пылью — и все-таки вызывающе зелеными.
Островок был пуст.
Ни лодки, ни тюка, ни людей. И только где-то вдали, на западе, опалом светилась башня.
В гавани Муан все было по-прежнему. «Неземные существа» базарными голосами поносили друг друга. Мы улеглись, но мальчики никак не могли заснуть.
— Все это очень странно, — сказал я. — В Ницце в 1840 году умер от холеры Паганини, прославленный генуэзский композитор и скрипач. Церковники отказались его хоронить. Ницца принадлежала в те времена Пьемонту, и генуэзское духовенство, которое заправляло там, было убеждено, что великий виртуоз состоял в сговоре с дьяволом… Сын перевез тело во Францию, надеясь, что Марсель окажется более терпимым. Но и оттуда ему пришлось отплыть ни с чем. Тогда он вспомнил про Сент-Онора. Ему было отказано в погребении на самом острове, однако дозволено перевезти покойника на Сен-Ферреоль. И тело Паганини, который обвинялся в том, что его рукой водил дьявол, пять лет гнило под солнцем и брызгами, и навещали его только чайки. Как раз там, куда я плавал. Да, да, пять лет потребовалось сыну Паганини, чтобы добиться разрешения перевезти тело отца на его родину, в Геную… Вот какая история.
Из чрева роскошной соседней яхты, сотрясая воздух, вырвался крик: «Шлюха!»…
— А при чем тут лодка? Лодка, которую мы только что видели? — спросил Филипп.
— Не знаю. Я не знаю ничего. Или ужасно мало! Я знаю только, что сегодня то самое число, день в день, когда тело великого Паганини было перевезено с Сент-Онора на островок.
— Или, точнее, «ночь в ночь», — сказал Оливье, не лишенный чувства юмора. — Мы отправимся туда завтра. Когда рассветет.
Белая дама с острова Поркероль
В январе 1888 года Мопассан в сопровождении своего слуги Франсуа Тассара и щенка африканской борзой возвращался из второго путешествия по Алжиру. Перед отъездом он купил в Марселе новую яхту, так как старая, первоначально называвшаяся «Шпага», стала ему тесновата. «Шпага» была черной, а эта, словно по контрасту, — ослепительно белой. Она стояла на якоре в Марселе, у набережной Фратерните.
Мопассан вызвал к себе «капитана» Бернара и его родственника, «матроса» Раймона. Моряки тщательно осмотрели белоснежную «Цыганку» — двухмачтовое быстроходное судно с пятью парусами, выстроенное в 1879 году в Англии, на верфях Лимингтона.
Просторная яхта с кают-компанией на десять человек, салоном и каютой писателя была символом богатства, приобретенного Мопассаном за десять лет, или, выражаясь языком налоговых инспекторов, безусловным признаком достатка.
Моряки обследовали корпус и трюмы.
Набор корпуса — шпангоуты и стрингеры — был в прекрасном состоянии.
— Крепенькая, как орех, — объявил Бернар.
Ги считает, что осадка маловата.
— Главное, чтобы у этой «Цыганки» глаз не был дурной!
Моряки перекрестились.
— Отлично! Завтра в шесть утра отплываем. А вы, Бернар, будьте добры, займитесь новым названием.
Так же как и старая, эта яхта будет называться «Милый друг» — поразительно, как этот человек слился воедино с игрой собственного воображения, со своим прославленным персонажем, со своим успехом.
Восемнадцатого января, перед рассветом, они поднялись на борт. Маленький охрипший буксирчик, гудя из последних сил, тащил яхту за собой, пока они не оказались напротив замка Иф.
— Ну, кто кого, Монте-Кристо! В чем дело, Бернар? Что-то не ладится?
«Капитан» хмурится.
— Море неспокойно, сударь. Зыбь большая, а ветра-то нет. Лучше вернуться, пока не поздно…
— Разве это зыбь? В Этрета я видал и похлеще!
— У Средиземного моря нрав сволочной! — отвечает Бернар с южным акцентом, вырывая из глубины гортани слова, как вековые деревья.
Господин де Мопассан нетерпелив в своих желаниях, касается ли дело женщин или путешествий, — прямая противоположность человеку благоразумному!
— Курс на восток! Я встану на руль!
Подняты грот, фок и бизань. Топсель и штормовой фок Бернар из осторожности не поднял.
У него есть опыт. Мистраль может налететь в любую минуту.
— Не нравится мне эта волна без ветра! — ворчит Бернар. — По мне, уж лучше хороший шторм!
— Святая Зоэ, — причитает Раймон. — Да ведь мы искушаем судьбу!
Хлопают обвисшие паруса, яхту качает. Бельгиец Франсуа, славный малый, полусекретарь, полунаперсник, а заодно и камердинер, и повар, имеет вид весьма плачевный.
— В вас нет морской жилки, Франсуа, — заявляет Ги. — Выпейте бокал шампанского! Помогает от морской болезни!
Не без труда миновав мыс Круазет, яхта, качаясь на волнах, лавирует между побережьем и островами Жарр и Риу. Занимается день, и в дымке, голубоватой, как на картинах Моне, проступают изрезанные красивейшими бухтами берега.
— Ну и море, как будто не Средиземное, а Северное!
— Тысяча чертей! — бранится бородатый «капитан». — Теперь еще и туман на нашу голову!
Так «Милый друг II» принял крещение шампанским и туманом.
Вскоре выяснилось, что площадь парусов маловата да и состояние их неважное. Погода явно не благоприятствовала путешественникам. В какой-то момент богатырю Раймону даже пришлось прыгнуть в шлюпку и, налегая изо всех сил на весла, буксировать яхту в сторону моря, подальше от скал, на которые их несло. Наконец подул лу гаргалл, и мореплаватели, подавая вялые звуковые сигналы, пристали к берегу в Касисе и позавтракали на судне. Затем Мопассан, неутомимый любитель пеших прогулок, отправился по своему обыкновению побродить по горам.
Ночь они провели в гавани и на рассвете снова вышли в море. На сей раз счастье им улыбалось. Они миновали узкий фарватер. Бриз был крепкий, и «Милый друг» шел ходко.
— Это судно не любит штиля, вот и все, — сказал Бернар.
— Так же как и его владелец, — отозвался довольный Ги.
Второй день путешествия оказался чудесным, и господин де Мопассан полюбил свою новую яхту. В два часа пополудни, оставив позади остров Дез-Амбьез, Тулон и рыбачьи сети полуострова Жьен, яхта гордо входила в гавань Поркероля.
Пока Раймон и Бернар пополняли запасы пресной воды, а Франсуа покупал цветную капусту, сливки и молоко — меню, подходящее в равной степени и для его больного желудка, и для диеты хозяина, — Мопассан в серой шляпе, в пиджаке, помахивая тростью, отправился осматривать остров.
К вечеру Ги возвратился с торжествующим видом и, оглядев закупленный Франсуа провиант, сказал:
— Отлично! Я тоже вернулся не с пустыми руками. Я нашел сюжет для новеллы. Право, такие вещи случаются только со мной.
До 1900 года Поркероль был вроде Параду Золя: кругом полная дикость и неуемное буйство пышной островной растительности. Настоящая Полинезия! От разопревших зарослей подымался одуряющий запах смолы — тот самый запах, который Ги восемью годами раньше вдыхал на Корсике, когда впервые открыл для себя юг Франции.
Мопассан долго шел по южному склону острова, намереваясь выйти к морю со стороны мыса Медес, как вдруг перед ним возникла одетая во все белое дама.
— Да, да, именно так! — повествовал он своим красивым, напоминавшим виолончель голосом, которым сам упивался. — Я не оговорился, это была именно дама, элегантная, хотя и поблекшая, лет пятидесяти, седая, с кокетливой прической. В свое время она явно была обворожительна. Весь ее туалет напоминал пятидесятые годы. Я уж подумал, не привиделось ли мне это во сне.
Когда она подошла ближе, я отступил в кусты, чтобы дать ей дорогу, и поклонился.
— Я понимаю ваше удивление, сударь, — сказала она. — Увидеть здесь женщину, да еще одну, в столь уединенном месте! За долгие годы, что я живу на острове, вы второй парижанин, которого я встречаю. И не говорите мне, будто вы не из Парижа… Как ваше имя, сударь?
— Ги, Ги де Мопассан.
— Ах вот как! А что вы здесь делаете?
— В поисках моря блуждаю по зарослям.
— Как все мужчины! — заметила она, улыбнувшись уголками губ. — Идемте в эту сторону. Там сейчас будет дорога, она как раз выведет нас к морю. Мне приятно познакомиться с вами…
— Но вы не сказали, как вас зовут, сударыня!
— Простите, я не могу себя назвать. К тому же мое имя вам ничего не скажет…
— Но это несправедливо!
— Несправедливо, однако прошу вас, не настаивайте.
— Вы давно здесь живете?
— Около двадцати лет.
— Одна?
— Со служанкой, в этих непролазных дебрях. Мое единственное развлечение — смотреть на корабли. Я видела, как причалил ваш. Но не могла разглядеть название.
— Я купил его совсем недавно. И назвал «Милый друг».
— Красивое название!
— Вам никогда не бывает здесь страшно?
— Иногда бывает. Зимой, когда шторм, с моря доносятся всякие таинственные звуки. Да что там! Я привыкла!
— Однако, сударыня, мне до сих пор непонятно, что держит вас здесь!
— А вам это интересно?
— Таково уж мое ремесло.
— Ах вот как!.. Вы… журналист?..
— Я писатель.
— Извините, пожалуйста. Вы, вероятно, знамениты. Я давно бросила читать книги. Когда Наполеон III правил нашей дорогой Францией, я жила в Париже, бывала при дворе. Состояла в дружеских отношениях с Рикором, личным доктором императора, с вашими коллегами Октавом Фейе и Проспером Мериме, с Жюлем Симоном, с Тьером… Я предвидела, предчувствовала катастрофу… Однажды я попыталась открыть глаза императору… Меня не пожелали слушать.
— Вы были республиканкой?
— Не знаю. Мне просто было жутко. И тогда я это написала.
— И вас арестовали.
— Но я не успокоилась. Мне виделся Седан…
Мопассан остановился и с изумлением поглядел на кроткую увядшую женщину, шедшую рядом с ним.
— Что с вами, сударь? — спросила она. — Вы побледнели…
— Я участвовал в войне с Пруссией… Мне тогда только-только исполнилось двадцать лет… Простите меня, мадам…
— Вы выглядите моложе своих лет.
— Я родился в пятидесятом. Так что во время битвы при Седане мне было ровно двадцать…
— Боже мой, сударь, как все это странно! Значит, это ради вас я писала, ради вас и ваших друзей!
Повергнутый в замешательство речами своей загадочной спутницы, Мопассан глядел, как она машинально подбрасывает носком камешки на дороге.
— Наполеон III не был таким уж дурным человеком, — продолжала она. — Все его недостатки были результатом болезни. У него один мелкий камешек всегда увлекал за собой целый обвал.
При намеке на болезнь императора она засмеялась тихим, тревожным смехом и продолжала:
— Меня приговорили к пожизненной ссылке. Зная, какую любовь я питаю к своей родине, он дозволил мне остаться на французской земле при условии, что я никогда не покину остров… и никогда никому не открою своего имени…
— Но он умер пятнадцать лет назад, сударыня, и у нас давно Республика!
— Уж это-то я знаю!
— Вы политическая ссыльная! Ваш друг господин Тьер устроил бы вам торжественную встречу, вернись вы в Париж!
— Я знаю, сударь. Но я поклялась!
— Врагу!
— Я должна сдержать клятву.
Она покачала прелестной седой головкой, словно упрямая состарившаяся девочка.
— Вы знаете острова Лерен? Остров Сент-Маргерит?
— Я как раз туда направляюсь.
— Так вот, я младшая сестра Железной Маски, вот и все.
Она искоса и не без лукавства взглянула на красавца собеседника, чьи усы вздрагивали от запахов розмарина, смолы и водорослей, и добавила:
— Вы хороший писатель, господин де Мопассан.
— О, сударыня, вы меня разыгрывали! Вы знали!
— Да, знала! Простите мне эту шутку. Так редко представляется возможность пошутить! Позвольте спросить вас… Меня очень интересует…
— Да?
— По-прежнему ли ваш «Милый друг» пользуется таким огромным успехом?..
— Признаться, да, сударыня… Уже три года…
В салоне «Милого друга II» Мопассан, потягивая маленькими глотками чай, заканчивал свой рассказ:
— Мы подошли к морю. С утеса был виден порт и наша яхта. «Прощайте, сударь. Спасибо за приятную прогулку, и счастливого плавания «Милому другу»…» Вот вам, друзья, и крестная, которой нам так не хватало! Я же сказал, что подобные вещи случаются только со мной!
Мопассан так и не написал эту новеллу. Ее записал Франсуа Тассар, слуга, страдавший морской болезнью. А жаль, ибо этот невероятный сюжет, столь удачно связанный с морем, как нельзя лучше подходил Мопассану тех лет, последних лет.
Назавтра, в девять часов утра, «Милый друг» покидал Поркероль. Был штиль. Полное безветрие. Паруса полоскали. Наконец погода смилостивилась, и их наполнил слабый ветерок.
А на берегу, на фоне густой зелени, еще долго виднелась неподвижная белая фигурка.
Дар песков
Пьеру Деаэ
В начале сентября 1955 года я ехал из Испании окольной дорогой. Так бывало каждый год: казалось, какой-то могучий трос тянет мою машину назад и вынуждает меня пробираться кружным путем вдоль множества диких, почти безлюдных прудов. Тогда еще не было и в помине ни Гранд-Мотт, ни автострады Солнца, и от Кадакеса приходилось ехать по тем первозданным местам, которые прославил в своей книге «Золотой пруд» мой друг Гастон Бессет. Мне нравилась эта бахрома лагуны, протянувшейся от скал Раку к древнему Провансу с его прославленными Арлем, Эксом, Авиньоном, хотя я предпочитал длинный, навевающий истому пляж, распростершийся, словно разомлевшая нимфа, от мыса Агд, где покоится ее голова, до порта Сет, омывающего ее ноги.
Никогда еще машина не шла так медленно. Направляясь в Париж, я всем сердцем ощущал то, что Мак-Орлан называл «безрадостным возвращением», — это был путь на Север, к холоду, к жизненным заботам, к мрачной зиме и, может быть, к какой-то непоправимой беде. Я еще смутно надеялся побывать на Морском кладбище, чтобы спросить у Поля Валери, по-прежнему ли стрела Зенона неподвижна в полете; но даже это паломничество становилось невозможным, так велика была сила, сдерживающая мои колеса. Холм в Сете вырисовывался своим аттическим профилем, но в то утро меня явно не влекло к кладбищам, даже к тем, что прославлены в литературе… Кладбища подождут, они на то и существуют…
Мы (ибо я ехал не один) остановились, чтобы в последний раз искупаться. Вода отливала бирюзой, а пустынный пляж был усеян белыми ракушками, словно бусинками брошенного и рассыпавшегося ожерелья Венеры, что вышла из пены морской. Птицы висели над морем, как в первые дни творения.
В ту пору я изнывал от какой-то смутной тоски. Депрессии. Но тогда это словечко не вошло еще в моду. Я только что закончил роман, который озаглавил «Ночь приходит с востока», где рассказал одну подлинную историю, излив в ней давно накопившуюся горечь. Подумать только! В 1955 году написал роман о войне! Я заранее страдал от подстерегавшей меня за Севеннами стужи, встречи с Севером и с предместьем, с пышно-мертвенной осенью и ранними сумерками, с жизненными неурядицами и даже собственным возрастом, который казался мне весьма преклонным. Позади сорок два года! А главное, меня не оставляло чувство, что я неправильно живу. Та женщина, что купалась с детьми, так и осталась для меня чужой… Словом, душа у меня была не на месте.
Лежа на спине, я размышлял на эти зловещие темы и сквозь смеженные веки чувствовал золото горячих лучей; я почти парил над землей, едва прикасаясь к ней, как вдруг ощутил что-то в правой руке. В мою ладонь лег какой-то предмет. Я повернулся на бок и посмотрел на то, чем невольно завладела моя рука — или что привлекло мою руку. Это был продолговатый, с изящным утолщением камень красноватого цвета, как обожженная глина античных светильников. Зернистый и будто отполированный, он был из какого-то восхитительного вещества.
Странный предмет! Я сел. Жизнь снова возвращалась ко мне. Но пусть не гневается Роже Кайуа, то не был камень. И не творение рук человеческих. Это было нечто вроде окаменевшего моллюска, быть может, одна из тех фиолетовых, пропитанных йодом раковин, что в портах на набережных продают моряки, открывая их своим заскорузлым пальцем и навязчиво протягивая их вам.
Несомненно, я был первым человеком, с которым встретился этот предмет. И в моем обществе он как будто чувствовал себя вполне уютно. В этом продолговатом, с утолщением посредине камне угадывался изысканный профиль юной женщины древности — танцовщицы или весталки.
Никогда еще я не встречал камня ready-made, обладающего такой выразительностью. Невысокий выпуклый лоб с едва заметной ложбинкой меж бровями, нос своенравной богини, рот с чуть потрескавшимися губами, изящная линия подбородка — все черты этого лица плавно переходили в высокую прическу. Можно было различить даже глаз: миндалевидная впадина настойчиво вызывала в памяти тот магический глаз древних египтян, который мореплаватели рисовали на носу своих кораблей, чтобы он помог им вернуться в родной порт. В этой впадинке холодной белизной поблескивала роговица. С бьющимся сердцем я сжал ладонь. Камень стал моим.
Та, что была моей спутницей жизни, играла с детьми, не подозревавшими об этом потрясении. Я разжал ладонь и снова, на сей раз с затаенным страхом, посмотрел на камень. Пока еще я видел профиль только с правой стороны. А если с левой он ни на что не похож? Я перевернул этот природой созданный барельеф. И снова увидел профиль, теперь более четкий, изогнутый, без изысканно-кокетливого глаза. Необычайная женственность странного предмета словно стала древнее на несколько тысячелетий. Какое ужасное слово «предмет» для определения этой этрусской женщины, карфагенской жрицы, дочери Финикии или спутницы праматерей, сестры Изиды, вышедшей из плодоносного чрева морского!
Я поднес находку к уху и легонько встряхнул. Она ответила мне легким и веселым шепотом замурованной в ней маленькой белой ракушки. Венера Агдийская могла говорить.
Об этой находке я ничего не сказал чужой своей спутнице. Она бы высмеяла меня. Я молча опустил камень в карман шортов.
Наутро я проезжал через Алискан. Табличка гласила: «Вход на кладбище запрещен». Хороший совет живым. Тем более что я только что заново родился. Я стал другим, начал новую жизнь. Книга, внушавшая мне страх, была романом «Майор Ватрен», а через несколько недель я встретил женщину с профилем Венеры Агдийской.
И единственная разница между этим выброшенным волнами камнем и его безупречно сделанной бронзовой копией состоит лишь в том, что в бронзе нет поющей ракушки. Должен же я был что-то сохранить для себя!
Произведения
Критика