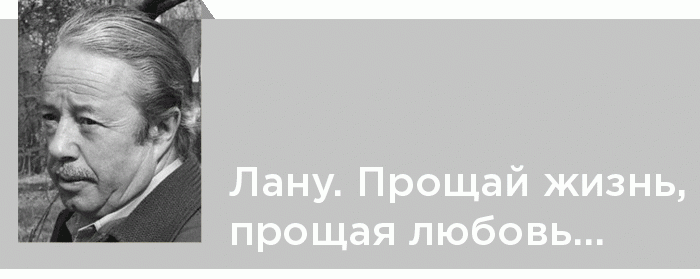Арман Лану. Светлые глаза

Минул вот уже десяток лет, а я все еще прекрасно помню этого человека. Пожалуй, я никогда его не забуду. Просто не смогу его забыть. А ведь что, собственно, между нами произошло? Что-то тайное удалось перехватить, какое-то волнение заметить, угадать драму, вот и все. Просто повстречался мне человек. Но какой человек…
Прежде всего глаза у него были слишком светлыми. С тех пор как подростком я увидел бесцветные глаза шефа полиции в «Трехгрошовой опере», мерцающие, пугающие, странные, я сторонюсь водянистых глаз. За ними кроются малоприятные тайны.
Малоприятные. Чреватые вопросами. Ставящие под сомнение социальную стабильность и все, казалось бы, так прочно нами усвоенные представления о приличиях, о табу. Именно это и смущало в незнакомце, закрепляло его в памяти по законам некоего малоисследованного процесса обработки фотографий. Было просто не по себе от этого прозрачного стекла его зрачков, от этого добела отмытого фарфора белков.
Я так и вижу его. Остается теперь, чтобы и вы его увидели. Это гораздо труднее: слова ускользают, хотя в том, чтобы находить нужные слова, и состоит мое ремесло. А все потому, что я мгновенно понял в тот единственный раз, когда видел этого человека: он по ту сторону всяких слов, по ту сторону волшебного фонаря для нас, больших детей, по ту сторону рассказа, в который мне так трудно его заманить.
Попробуем, однако, сыграть в эту игру.
Ему наверняка перевалило за пятьдесят. Плотный, загорелый, большой, с тяжелыми кулаками в карманах куртки-канадки, сутуловатый, но не от немощи, а, наоборот, от избытка силы, он смотрел, как крутится под жалобные дребезжащие звуки маленькая старомодная карусель с облезлыми лебедями, зайцами, похожими на тех, что рисовал Бенжамен Рабье, с подновленными пожарными машинами, жалкая маленькая карусель, в заезженном круге которой возвышалась белая деревянная лошадь с красным седлом, настоящий рыцарский конь, оказавшийся здесь, безусловно, случайно.
Где это было? Это вспомнить много легче. Я возвращался к себе домой на велосипеде из Парижа в Шель через Порт-де-Пантен. Там, где теперь современный мост и ярко освещенная автострада с новым великолепным покрытием, вырисовывался тогда пейзаж, в котором было одновременно что-то от полотен Утрилло и от металлических конструкций, бывших в моде в 80-х годах прошлого века. Усовершенствование дороги оставило от этого ландшафта лишь несколько прежних названий. Короче говоря, это было на перекрестке старой страсбургской дороги и перпендикулярно отходящей от нее дороги на Сен-Дени возле Пон-де-ля-Фоли.
Поодаль, на широкой обочине, где трава была вся в проплешинах от колес велосипедов, человек со слишком светлыми глазами стоял и смотрел, как крутятся на карусели мальчишки и девчонки, маленькие бедняки из предместий между Роменвилем с его лысыми холмами и Плэном, где алчным вампиром рыскал некогда знаменитый убийца Тропманн.
Конечно, карусели — примитивные игрушки, но сколько воспоминаний связано с ними… На этой карусели за минувшие полвека покаталось, должно быть, немало Больших Мольнов из старых предместий. Карусель прибыла из департамента Сена-и-Марна. Выцветшими золотыми буквами на ней был написан адрес: Барбанегр. Экут-с’иль-пле.
Напоминала ли человеку со слишком бледными глазами эта карусель так же много, как и мне? Думаю, да. Без устали глядел он на ее нескончаемый бег на месте и наверняка вспоминал о чудесах своего детства.
И вдруг началось действие, немой фильм, словно показывали старую, в царапинах киноленту.
Хорошо одетая женщина, тревожась за свое гарцующее чадо, толкнула человека со светлыми глазами. Он не обратил на это внимания. Тогда другая, одетая бедно, тоже толкнула его. Он опять ничего не заметил. Первая ограничилась тем, что косо на него посмотрела. Вторая проворчала:
— Не можешь оторваться, урод. На мальчишек тебе глазеть мешают!
Человек в куртке остановил свой холодный взгляд на той, что была беднее, и она прикусила язык. Отодвинулась, злобно показав желтые зубы.
Человек опять смотрел на карусель, а я смотрел на него.
Нет, он был не очень хорошей рекламой для аттракциона, устроенного здесь, между перестраивающимися дешевыми домами и невзрачным шоссе, по которому мчались автомобили, уносясь подальше от этой бедной воскресной окраины.
Никаких других развлечений тут не было: ни тира, где стрелок получает в награду собственную фотографию, на которой он запечатлен метким охотником, ни качелей, которые так любят девушки из народа, ни скачущих гусениц, ни автоскутеров, хотя и сталкивающихся то и дело друг с другом, но столь же безопасных и надежных, как нерасплывающиеся оксидированные краски высшего качества, какими стоило бы изобразить эту сценку: женщины самых разных сословий, облепившие карусель, которая выделяется на блеклом фоне выцветших красных домов и синей автострады, и, конечно же, приросший к месту человек.
— Ну и глаза у этого типа! — говорит вторая матрона, вновь обретая дар речи.
У нее в голове, конечно, скандальная хроника.
«Таких людей к детям близко нельзя подпускать, мамаша Вуез. Вот что я вам скажу». Именно так она и думает, как пить дать. А тут и в самом деле к человеку в канадке идет беленький мальчик с взлохмаченной головкой цвета меда. Он в рваной кофте, на голых ногах прихотливым узором размыта пыль.
Между ними происходила какая-то игра в недомолвки, мальчишка как зачарованный медленно, неровными шагами приближался к человеку в куртке, во всем этом было нечто необъяснимое и таинственное.
Теперь мне кажется поразительным, что у мальчика тоже были светлые глаза. Сколько ему было лет? Семь? А может, девять? Или восемь? Поди угадай при том чудовищном питании, которое получают дети пригородных кварталов… Во всяком случае, мальчик был не шестилетний.
Мужчина и мальчик совсем по-разному смотрят на карусель. Для мужчины — это вихрь утраченных воспоминаний, для мальчика же — прошу простить меня, что я с такой осторожностью подбираю слова, — но, право, на нем как будто было написано: «Это — счастье».
Человек в куртке словно сбрасывает с себя оцепенение, краем глаза глядит на парнишку, удивляется, наклоняется к нему, улыбается. Глаза его на секунду вспыхивают ослепительно ярко, потом гаснут. Эта вспышка определенно подозрительна, очень подозрительна. Мальчишка не выпускает изо рта свой грязный палец. Прохожие, особенно женщины, наши славные женщины, поглядывают на них. Среди мамаш растет беспокойство. «Этого допустить нельзя». Нельзя допустить? Чего именно? Сказать точнее они не могут, но — нельзя, тут они руку готовы дать на отсечение.
Может, они и правы? Ведь откуда-то берутся дурные люди. Те, о которых пишут в газетах! А этот человек, с его добела отмытыми глазами, и впрямь похож на преступника.
На площади, где проносящиеся мимо автомобили беспрерывно подстегивают бег карусели, как мальчишки подгоняют волчок, мужчина и ребенок глядят на карусель, и они уже трижды видели сходивших с круга ребят, и хозяин с огромным животом, получая с них деньги, искоса поглядывал на странную пару, не решаясь вмешиваться — разумеется, из-за глаз!
И вот мужчина кладет руку на плечо белокурому малышу, который лишен предрассудков в отличие от этих достойных мамаш. Он наклоняется, что-то говорит мальчику на ухо. Я ведь уже упоминал, что все происходило как в немом кино. Видимо, он о чем-то спрашивает, потому что парнишка уверенно кивает в знак согласия, несколько раз опуская голову. Он поднимает ногу, как аист, и подпрыгивает на месте, а мужчина лезет в карман и протягивает ему деньги. Мальчик взбирается на помост и очень быстро идет к большой белой лошади с красным седлом, роскошному скакуну во главе кавалькады.
Вот видите, это же совсем простая история! А вы что себе вообразили? Славный человек, лет пятидесяти, одинокий, в воскресное утро у Пон-де-ля-Фоли. Начало лета, стоит влажная жара, солнце будто в дымке, и вас прошибает пот. Мужчина увидел мальчишку, похожего, быть может, на него самого, — мальчишку без гроша в кармане, обалдевшего от зависти к своим более везучим приятелям, оседлавшим счастье. Он понял ребенка. Он дал ему несколько су. Все очень хорошо.
Все и было бы очень хорошо, если бы не эти чертовы непроницаемые глаза, в которых, как в стеклах, отражается бледное небо предместий, и если бы не эта ранняя оранжерейно-тепличная жара.
Всякий раз теперь, когда карусель делает круг, мальчишка, пролетая мимо мужчины, смеется во весь рот. У него не хватает одного зуба. Молочного. Всякий раз, когда у моих детей выпадает зуб, наутро они находят под подушкой подарок, который, в обмен на молочный зуб, им приносит маленькая мышка. Для мальчика, сидящего сейчас на лошади, маленьких мышек не существует, есть только зияющая дыра в розовом рту.
А вокруг нас растет беспокойство.
Я подхожу ближе и чувствую, как накаляется атмосфера. Беспокойство охватывает и меня. Я тоже не могу отделаться от него из-за этих глаз.
— Видели, мамаша Вуез! Такие ни перед чем не остановятся!
Эту ядовитую реплику отпустил кто-то рядом со мной. Карусель все вертится. И малыш без всякого стеснения, не подозревая о нашем беспокойстве, тратит деньги мужчины, который улыбается ему. Улыбается открыто, как человек, который и понятия не имеет о том, какая гроза надвигается на Пон-де-ля-Фоли, на карусель из Барбанегра в эту несусветную жару. Но именно от этой улыбки напряжение растет. Ребенок спускается, слегка пошатываясь, он смеется, берет за руку своего нового друга. Жест исполнен такой чистоты, что трогает меня до слез. Я даже сам не понимаю, почему я так разволновался в эту минуту, увидев проявление обыкновенных человеческих чувств. Надо держать себя в руках.
К бистро «У Пон-де-ля-Фоли», где хранят традиции, не ведая о существовании таковых, прилепилась единственная здесь кондитерская лавчонка. Мужчина и ребенок покупают нугу и огромный ком розовой сахарной ваты — о, этот сладкий запах утраченных лет! Я иду следом за ними. Карусель продолжает крутиться за моей спиной. Музыкальный механизм без конца прокручивает «Пока мы живы, есть надежда» — песенку, не очень подходящую для детского слуха, но какой спрос может быть в таких кварталах? «Мамаша Вуез, этого нельзя допустить!» — слышится возмущенный голос.
Сознание толпы выражено. Они не допустят. Мужчину и мальчика, которые идут совершенно не торопясь, сопровождает тихий гул голосов: одна кумушка шепчет что-то на ухо другой, та — третьей… У автострады мужчину останавливают два жандарма из патрульной службы движения, предупрежденные негодующими мамашами. Светлоглазый человек не особенно удивлен. Он привык. Он спокойно показывает свои документы. Скорее взволнованы жандармы, они в нерешительности разводят руками, советуются друг с другом, поглядывая на мужчину и его маленького спутника, у которого нос перепачкан сахарной ватой, и ведут их в участок в двухстах метрах отсюда. Женщины торжествуют. «Я ведь вам говорила, мамаша Вуез! Глаза-то у него какие».
Как жарко на этих пригородных пустырях!
Я пошел вслед за ними — за мальчиком, мужчиной и жандармами.
Сначала на меня набросился розовощекий молодец, несколько смягчившийся при виде моих документов. «Ну ладно, — сказал сержант. — Раз мсье все видел, может, он нам и объяснит, в чем дело». Объяснить? Я бы и сам хотел, чтобы мне объяснили. И почему я здесь, в этой караулке с линялыми флагами? Не знаю. Только знаю, что не мог бросить и ребенка, и этого человека, а они оба сейчас оборачиваются ко мне, и в их светлых глазах, кажущихся еще более светлыми здесь, в полумраке караульного помещения, вспыхивает любопытство.
В участке пахнет кожей. Под плакатом, говорящим о том, как безопасно проходить военную службу в танковых частях, белокурый мальчишка, сидя верхом на стуле, болтает ногами. Сержант обращается к начальнику, говорит, вслушиваясь в звуки собственного голоса. Его доводы туманны, какие у него претензии, не ясно… Светлоглазый человек непонимающе глядит на сержанта, затем, как бы в ответ, протягивает свой бумажник.
Начальник открывает его, он злится, потому что сегодня воскресенье, потому что скоро полдень, потому что жарко, а особенно потому, что у этого человека такие светлые глаза и он не отводит их, а смотрит прямо в лицо. Начальник шарит в бумажнике. Документы падают один за другим на некое подобие прилавка, отполированного множеством рук. Служебное удостоверение водителя грузовика. Справка с места жительства. Карточка избирателя, удостоверение личности, профсоюзный билет. Приходится признать — все в полном порядке.
Начальник морщит лоб, на который свисают жидкие волосы. Ему тошно, рушатся все его представления о служебных обязанностях, ставится под сомнение его опыт образцового жандарма. Это просто невыносимо. Невозможно сформулировать, в чем состоит дело! Тогда он вновь вдохновляется гневом. Требует объяснений от подчиненных, а те и не знают, что сказать. Ну, вроде как скандал этот тип устроил. Да они сами знают не больше, чем эти двое — ребенок и мужчина.
Начальник раздраженно поворачивается ко мне:
— Ну а вы, вы же все видели!
Я излагаю, насколько могу ясно, это «темное дело», рассказываю, что я, собственно, видел. Начальник надменно хмурится. С языка у него срывается проклятье. Поди разберись, кому оно адресовано! Площади Пон-де-ля-Фоли, карусели и ее владельцам, этим проклятым подозрительным предместьям, женщинам, североафриканским рабочим, нищете, а быть может и вообще всему свету… Метафизический беспорядок в голове у стража порядка — это трогательно, почти душераздирающе. Никто уже не понимает, зачем мы здесь, в огромном помещении, где полно мух и воняет кожей.
И вдруг, когда начальник возвращает водителю грузовика бумажник, из него выпадает фотография. Человек в куртке рывком бросается к ней, но жандарм опережает его. Профессиональная хватка. Успел. Как ловкий шериф из вестерна. Инспектор явно доволен собой. Отстраняется, вглядывается, не торопясь, в фотографию, вздрагивает. Торжественная улыбка на его лице сменяется изумлением. Он долго смотрит на белобрысого мальчишку и на мужчину. Слышно, как жужжат мухи.
В открытые окна издалека доносятся истошно-громкие звуки вконец заезженного механизма. Патетический голос, кажется, это Эдит Пиаф, поет: «Пока мы живы, есть на… есть на… есть на…» Мне уже больше не хочется, как пять минут назад, быть далеко отсюда. Я — с ними, со всеми, с людьми, которые предчувствуют, что сейчас произойдет нечто очень важное, неуловимо прекрасное, и через минуту, быть может, все они будут горды тем, что они — люди.
Надо признаться, неловкость, испытанная нами недавно на площади, не идет ни в какое сравнение с тем стыдом, который сейчас переживаем мы здесь. Жгучий стыд обволакивает нас, как нездоровая жара на Пон-де-ля-Фоли. Начальник, пунцово-красного цвета, отирает лицо. В его голосе, когда он наконец обращается к водителю грузовика, странным образом сочетаются строгость и ласка.
— Давно ли… у вас… давно ли вы его потеряли… — произносит он в конце концов.
У меня перехватывает дыханье.
— Семнадцать лет назад, — говорит человек со светлыми глазами. — Утонул в Уазе. Ему было бы двадцать четыре… как вашему сержанту.
Розовощекому явно не по себе.
Как им всем хотелось бы оказаться сейчас за стойкой бистро «У Пон-де-ля-Фоли»!
— С ума сойти, до чего они похожи, — задумчиво говорит начальник. — Это же… это же… это же… это…
Он замолкает, показывает карточку сержанту. Он делает это так, будто раскрывает ему секреты ремесла. Парень краснеет, как рак, а пожилой, запинаясь и снова беря себя в руки, обращается к шоферу сиплым голосом:
— Простите меня, мсье Донадье. Ведь перестраховаться никогда не мешает, правда? А мальчик, вот тот, ну, малыш ваш… Ну, белобрысенький-то, его Жаном зовут. Да ничего страшного! Если бы так кончались все подобные дела!
Он доволен «подобными делами». Он вновь осмелел. Он откашливается, сплевывает, голос его прочищается.
— В общем, знаете, мсье…
Он опять произносит «мсье» с оттенком уважения.
— Короче, маленький Жан — он почти беспризорный. Не повезло ему. Отец умер, а мать пьет… Не просыхает его мамаша, проститутка она.
Человек в канадке спокойно смотрит на начальника своими большими светлыми глазами, они сияют так, что мне становится больно.
И он говорит до странности слабым голосом, плохо вяжущимся с крепкой фигурой, а кулаки его, словно свинцовые, падают вниз:
— А что, если… если бы маленький Жан пошел с кем-нибудь, кто… кто хорошо зарабатывает и… любит карусели?
— Да, — отвечает начальник, которого теперь едва слышно. — Да. Можно бы… даже запросто, мсье Донадье. Неплохо придумано. Мать так мало им занимается. Вы имеете в виду себя?
— Да, — твердо говорит мужчина.
— Ну что же, тогда идите в мэрию… В воскресенье утром там открыто. Должно быть, они еще не ушли… Мы вас проводим…
Пауза. Боже мой, что это, у начальника ком в горле застрял! Он резко поворачивается на каблуках и выходит, хлопая дверью.
Мальчик улыбается.
Глядя на его сжатые коленки, я вижу, что сейчас он сидит на большой белой лошади с красным седлом, на рыцарском коне с Пон-де-ля-Фоли. Человек в куртке выпрямляется во весь свой рост. Берет за руку сияющего ребенка. И только тогда влага затуманивает его эмалевые глаза.
Произведения
Критика