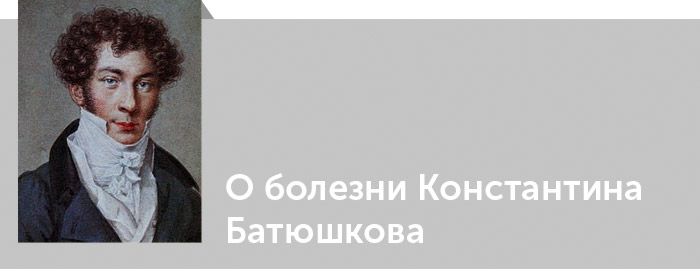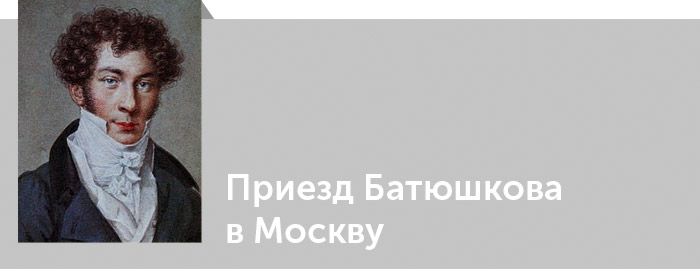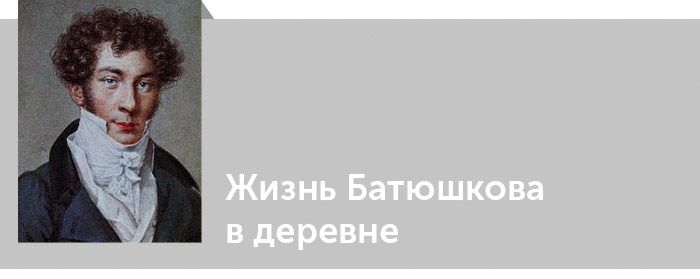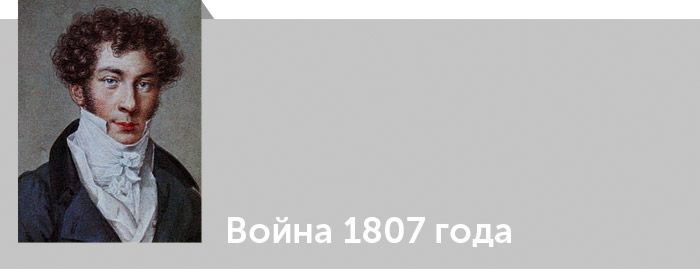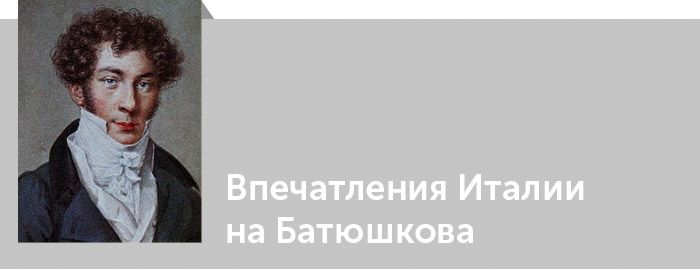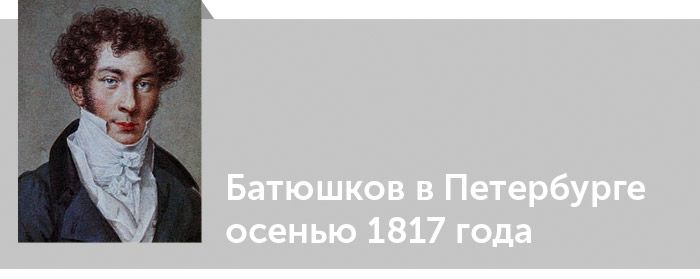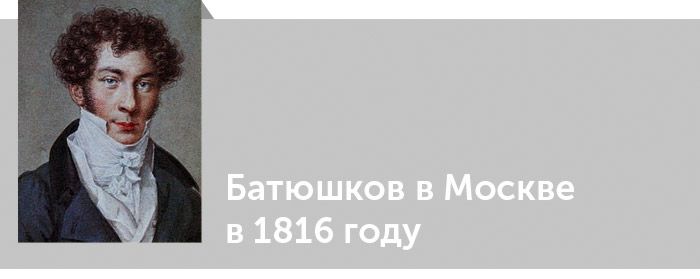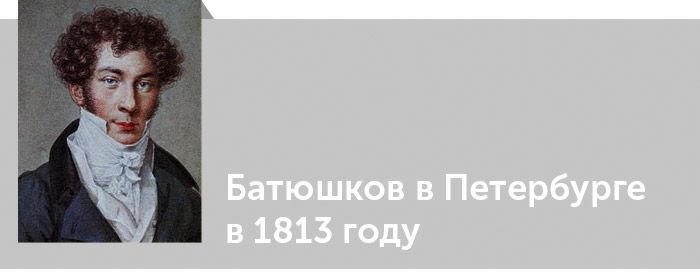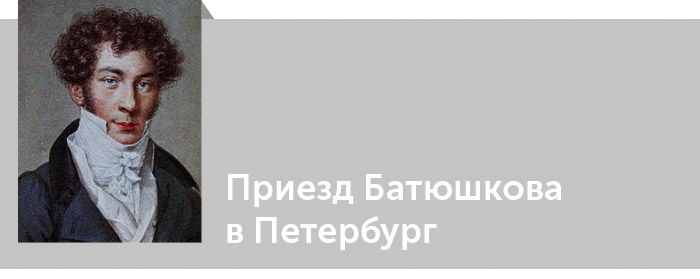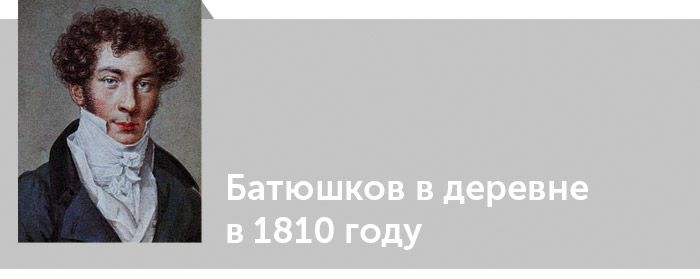Батюшков, его жизнь и сочинения. Батюшков в деревне в первой половине 1815 года

Глава IX. Батюшков в деревне в первой половине 1815 года
Батюшков в деревне в первой половине 1815 года. - Пребывание в Каменце-Подольском во второй половине того же года. - Тяжелое душевное состояние. - Нравственный переворот и победа над собою. - Переписка с Жуковским. - Произведения Батюшкова в прозе и стихах, написанные в Каменце. - Отъезд Батюшкова в Москву
Батюшков еще по зимнему пути мог приехать в Хантоново. Повидавшись с его обитательницами, он навестил и старика отца в его Даниловском. Посещение это произвело на сына самое тяжелое впечатление. "Я был у батюшки, - писал он Е.Ф. Муравьевой, - и нашел его в горестном положении: дела его расстроены, но поправить можно ему самому. Шесть дней, которые провел у него, измучили меня" {Соч., т. III, с. 310}.
Не лучше, впрочем, шли дела и в Хантонове, где хозяйничала Александра Николаевна, и не такому беззаботному и непредусмотрительному человеку, как ее брат, было распутывать сложную сеть экономических неурядиц. Тем не менее все настоящее пребывание Константина Николаевича в Хантонове было посвящено хлопотам по хозяйству; даже с Гнедичем он переписывался на этот раз не столько о литературных делах, сколько о закладе сестрина именья в опекунский совет. Вопрос о переводе Батюшкова в гвардию по-прежнему оставался нерешенным и также возбуждал его беспокойство. По этому делу Константин Николаевич писал и к Дашкову, и к Муравьевой, и к Оленину, но дело не двигалось, а Алексей Николаевич даже не отвечал ему. К концу своего отпуска Батюшков, не получив увольнения от службы, увидел себя в необходимости ехать в Каменец-Подольск, где жил Бахметев и где находилась его штаб-квартира. "Если перевод в гвардию не удастся, - писал Батюшков своей тетке, - Бог с ним! Я перенесу это огорчение без дальних усилий. Но признаюсь вам, что мне приятнее бы было получить два чина при отставке, одним словом - то, что я заслужил. Неудачи по службе меня отвратили от нее совершенно" {Соч., т. III, с 317.}. Самолюбие его еще раз было сильно уязвлено, и хотя он собирался нести свою скучную службу в Каменце "en veritable chevalier", но в то же время находил, что служба эта не совсем лестная. "На счастие, - писал он Гнедичу, - я права не имею, конечно; но горестно истратить прелестные дни жизни на большой дороге, без пользы для себя и для других. Всего же горестнее быть оторванным от словесности, от занятий ума, от милых привычек жизни и друзей своих. Такая жизнь - бремя!" {Там же, с. 318, 319.}
В июле 1815 года Константин Николаевич находился уже в Подолии. Заранее решив, что пребывание в Каменце для него все равно что ссылка, Батюшков никак не мог помириться с жизнью провинциального города, куда его закинули обстоятельства. Он любовался его живописною стариной, был доволен, что находится в теплом климате, "в царстве зефиров и цветов", но чрезвычайно тяготился отсутствием людей, которые были бы ему по душе. "Рассеяния никакого! - жаловался он в одном из писем к тетке. - Мы живем в крепости, окружены горами и жидами. Вот шесть недель, что я здесь, и ни одного слова ни с одною женщиной не говорил. Вы можете судить, какое общество в Каменце! Кроме советников с женами и с детьми, кроме должностных людей и стряпчих, двух или трех гарнизонных полковников, безмолвных офицеров и целой толпы жидов, - ни души!" {Соч., т. III, с. 343.} Бахметев принял Батюшкова ласково; но Константин Николаевич, по-видимому, не находил особенного удовольствия в обществе болезненного старика, хотя и виделся с ним беспрерывно. У нашего поэта мелькнула было мысль съездить на Черное море, чтобы купаться, но намерение это не могло быть осуществлено {Там же, с. 333.}. Едва ли не единственным человеком в Каменце, с которым Батюшков мог вести приятную и занимательную беседу, был местный губернатор, граф К.-Фр. де-Сен-При; у этого любезного, доброго, честного и хорошо образованного французского эмигранта, оставшегося на русской службе и по восстановлении Бурбонов, Константин Николаевич охотно проводил вечера и пользовался его библиотекой; но и то было случайное знакомство, не освященное старою приязнью и действительною общностью интересов. Такой же случайный характер имела встреча его в Каменце с Хр. Ив. Герке: он напомнил Батюшкову Жуковского и Тургенева, так как был их товарищем по Московскому благородному пансиону {Соч., т. III, с. 337, 343, 347.}.
Таким образом, одинокая жизнь Константина Николаевича на далекой окраине России волей-неволей сосредоточивала его мысль и заставила его углубиться в самого себя; этому, впрочем, вполне соответствовало то душевное состояние, которое он принес с собою в Каменец.
С глубокою раной в сердце Батюшков оставил Петербург, и не на радость побывал он в родной семье, где встретил лишь новые огорчения. В Каменце то чувство, которое он старался затушить в себе отъездом из столицы, вспыхнуло с новою силой:
Напрасно я спешил от северных
степей,
Холодным солнцем освещенных,
В страну, где Тирас бьет излучистой струей,
Сверкая между гор, Церерой позлащенных,
И древние поит народов племена!
Напрасно! Всюду мысль преследует одна
О милой, сердцу незабвенной,
Которой имя мне священно,
Которой взор один лазоревых очей
Все неба на земле блаженства отверзает,
И слово, звук один, прелестный звук речей,
Меня мертвит и оживляет!1
1 Там же, т. I, с. 223, 224.
Порою казалось ему, что счастие разделенной любви для него не утрачено, и он со страстным призывом обращался к любимому существу:
Друг милый, ангел мой,
сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают,
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места!
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком,
Забудем имена Фортуны и честей...
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.
Последние дары Фортуны благосклонной,
Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат
Пальмиры севера огромной!2
2 Соч., т. 1, с. 221.
Но такие мечты поэта бывали непродолжительны, и вместо них снова являлась горечь сомнения, более мучительного, чем самая разлука:
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви - холодными словами!3
3 Там же, с. 225.
Вдали от всего, что было дорого его сердцу, поэт себя не узнавал
...Под новым бременем печали.
Теряя надежду на взаимность, он утрачивал веру и в последнее свое богатство, в свой талант:
Нет, нет, мне бремя жизнь! Что
в ней без упованья
Украсить жребий твой
Любви и дружества прочнейшими цветами,
Всем жертвовать тебе, гордиться лишь тобой,
Блаженством дней твоих и милыми очами,
Признательность твою и счастье находить
В речах, в улыбке, в каждом взоре,
Мир, славу, суеты протекшие и горе,
Все, все у ног твоих, как тяжкий сон, забыть!
Что в жизни без тебя! Что в ней без упованья,
Без дружбы, без любви - без идолов моих!..
И муза, сетуя, без них,
Светильник гасит дарованья4.
4 Соч., т. 1, с. 228, 229.
Состояние духа Батюшкова было близко к отчаянию. А между тем из Петербурга до него достигали только безотрадные вести и приходили незаслуженные упреки. Там не умели объяснить себе причины, почему он воздержался от решительного шага. Упорное молчание Оленина в ответ на его письма доказывало, что он на него сердится; Гнедич также писал Батюшкову очень редко {Там же, т. III, с. 335, 337.}; даже Е.Ф. Муравьева, умная, благородная женщина, с горячим сердцем, любившая Константина Николаевича как родного сына, даже она находила в его поступках непонятную непоследовательность. "Вы меня критикуете жестоко, - писал ей Батюшков из Каменца, - и везде видите противоречия. Виноват ли я, если мой рассудок воюет с моим сердцем? Но дело о рассудке: я прав совершенно. Ни отсутствие, ни время меня не изменили. Если Всевышний не отнимет от меня руки Своей, то я все буду мыслить по-старому, не пожертвую никем для собственных выгод... Если Михайло Никитич любил меня, как ребенка, если он поручал меня вам, то он же не требует ли от меня еще строже пожертвований? Нет, не пожертвований, но исполнения моего долга по всей силе". Чтобы быть более понятным и убедительным, но в то же время не сказать ничего лишнего, Батюшков распространялся об ограниченности своего состояния, которое не позволяет ему жениться, о препятствиях со стороны отца, о своем непостоянном характере, но затем нечаянным намеком все-таки проговаривался об истинной причине, почему он не решился просить руки любимой им девушки: "Не иметь отвращения и любить - большая разница. Кто любит, тот горд". И затем прибавлял: "Что касается до службы, до выгод ее, то Бог с ними, с ней! Для чего я буду теперь искать чинов, которых я не уважаю, и денег, которые меня не сделают счастливым? А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить под одною кровлею в нищете, без надежды?.. Нет, не соглашусь на это, и согласился бы, если б я только на себе основал мои наслаждения! Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут одни только злые сердца. Оставим это на произвол судьбы! Жизнь - не вечность, к счастью нашему: и терпению есть конец!" {Соч., т. III, с. 341-342.}
Итак, вопреки самым дружеским советам Батюшков твердо стоял на своем решении. Но откуда же у этого слабохарактерного, капризного человека, который до сих пор так легко поддавался своим прихотям, взялась душевная сила, чтобы противостоять влечению своей страсти? Попытаемся найти ответ в его собственных признаниях {Разумеем две замечательные статьи, написанные Батюшковым в бытность в Каменце: "Нечто о морали, основанной на философии и религии" и "О лучших качествах сердца".}.
До сих пор Батюшков считал целью жизни счастье и искал его в наслаждениях ума и сердца, души и тела. Так его учили любимцы его - Гораций, Монтань, Вольтер; так проповедовала господствовавшая в XVIII веке философская школа, которой он был верным последователем. Опыт жизни показал ему цену этого учения. Если и прежде в стихах его и особенно в письмах прорывались иногда жалобы на недостижимость столь желанного благополучия, то теперь, когда молодость была прожита, он приходил к горькому сознанию, что жестоко обманулся в своем идеале. "Где же, - спрашивал он себя теперь, - сии сладости, сии наслаждения беспрерывные, сии дни безоблачные, сии часы и минуты, сотканные усердною Паркою из нежнейшего шелка, из злата и роз сладострастия?.. Где и что такое эти наслаждения, убегающие, обманчивые, непостоянные, отравленные слабостью души и тела, помраченным воспоминанием или грустным предвидением будущего? К чему ведут эти суетные познания ума, науки и опытность, трудом приобретенные?" {Соч., т. III, с. 133.} Вопросы эти оставались без ответа или приводили к ответу отрицательному.
Не один и не первый из людей своего века Батюшков испытал это смутное состояние души, порожденное разладом между идеалом и действительностью. Предчувствованный Руссо, намеченный Гетевым "Вертером", тип разочарованного человека уже воплотился в Шатобриановом "Рене" и увлекал тогда многие умы. Батюшков не остался чужд этому соблазну: еще в 1811 году он сознавался, что "любит этого сумасшедшего Шатобриана... а особливо по ночам, тогда, когда можно дать волю воображению!" {Там же, т. III, с. 130; ср. с 135.} В этом характере, который представлен французским писателем с очевидным сочувствием, наш поэт мог находить оправдание своим собственным слабостям: как Рене, он был непостоянен и, подобно ему, объяснял свою неустойчивость тем, что всегда стремился к совершенному, высшему благополучию. "Раздражаемый своею фантазией, Рене презирает все обыкновенное: на действительность он смотрит свысока, как на призрачный мир, к которому не стоит прилагать своих сил и способностей. От жизненной прозы он уходит в себя и живет среди своих несбыточных грез, мечтаний и химер" {Шахов. Французская литература в первые годы XIX века М., 1875, с. 137.}. Таков был и Батюшков в годы своей молодости, когда, в погоне за каким-то неосуществимым счастьем, на призывы своих друзей заняться простыми житейскими делами он отвечал, что не рожден для таких скучных и бесполезных занятий. Но с тех пор изменилось очень многое. Над Россией промчалась гроза неприятельского нашествия, которая, затронув интересы всех и каждого, пробудила неслыханное патриотическое воодушевление. Мы уже знаем, как отозвались эти события на нашем поэте, как они подняли энергию его духа и поколебали его прежние космополитические убеждения; каковы бы ни были его впечатления по возвращении в отечество из славного заграничного похода, но теперь он стал ближе к своему родному, к коренным основам русской жизни. Как большинство своих современников, в "чудесных событиях" победы над Наполеоном и в его низложении он видел теперь непосредственное вмешательство Высших Сил. Тогда и в его сердце проник опять луч света из того мира, который он забывал ради обманувшей его людской мудрости. Совсем новый строй мыслей слышится теперь в его речах: "Человек есть странник на земле, говорит святой муж; чужды ему грады, чужды веси, чужды нивы и дубравы; гроб - его жилище вовек. Вот почему все системы и древних, и новейших недостаточны! Они ведут человека к блаженству земным путем и никогда не доводят; систематики забывают, что человек, сей царь, лишенный венца, брошен сюда не для счастья минутного; они забывают о его высоком назначении, о котором вера, одна святая вера, ему напоминает. Она подает ему руку в самых пропастях, изрытых страстями или неприязненным роком; она изводит его невредимо из треволнений жизни и никогда не обманывает, ибо она переносит в вечность все надежды и все блаженство человека. Лучшие из древнейших писателей приближались к сим вечным истинам, которые Святое Откровение явило нам в полном сиянии" {Соч., т. II, с. 135, 136. То же говорил он тогда и в стихах своих, см.: послание "К другу" (кн. П.А. Вяземскому). - Соч., т. I, с. 237.}.
Это-то пробуждение религиозных инстинктов в душе Батюшкова и было тою великою, неодолимою силой, которая помогла ему стойко выдержать борьбу с порывом пламенной страсти, овладевшей его существом. У любви, когда она не встречает сочувствия, пробуждается особая чуткость, которая разоблачает пред нею печальную истину; с той минуты, как Батюшков понял, что его любовь не находит себе полного ответа, он решился отказаться от всякой мысли о браке, несмотря на дружеские убеждения близких, говоривших о другой стороне: стерпится - слюбится. Поступить иначе значило, по его понятиям, поступить против совести и погубить зараз и любимое существо, и себя самого: "Я не могу, - говорил он, - постигнуть добродетели, основанной на исключительной любви к самому себе. Напротив того, добродетель есть пожертвование добровольное какой-нибудь выгоды, она есть отречение от самого себя" {Там же, с. 144.}. Возвышенное настроение, давшее ему твердость пожертвовать влечениями своей страсти и с покорностью перенести новый удар судьбы, вконец разрушавший его мечты о счастье, выразилось во всей полноте в следующем превосходном стихотворении, которым завершается душевная борьба, пережитая поэтом вдали от близких ему людей:
Мой дух, доверенность к Творцу!
Мужайся, будь в терпеньи камень!
Не Он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови меч врага,
И град свинцовый отражала?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды, и глад, и непогоду
И силу - в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру стезею потаенной
И в буре пламенных страстей
Мой был вожатый неизменной?
Он, Он! Его все дар благой!
Он нам источник чувств высоких,
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!
Все дар Его, и краше всех
Даров - надежда лучшей жизни!
Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?5
5 Соч., т. I, с. 233, 234.
Это вдохновенное обращение к
Божественной благости начинается стихом, взятым у Жуковского6, и не случайно: в
том настроении, в каком чувствовал себя теперь Батюшков, мысль его естественно
обращалась к тем из его близких, кто был чист душой и помыслами, а таковы по
преимуществу были Жуковский и Петин. Памяти этого последнего, товарища трех
походов, "погибшего над Плейсскими струями", Батюшков посвятил две
написанные в Каменце статьи, и в одной из них он сам объясняет, какой смысл
имела для него память об этой светлой личности: "Я ношу сей образ в душе,
как залог священный; он будет путеводителем к добру; с ним неразлучный, я не
стану бледнеть под ядрами, не изменю чести, не оставлю ее знамени. Мы увидимся
в лучшем мире; здесь мне осталось одно воспоминание о друге, воспоминание,
прелестный цвет посреди пустыней могил и развалин жизни" {Соч., т. II, с.
189.}. Что касается Жуковского, то автор "Певца в стане русских воинов"
стал теперь для нашего поэта типом литературного деятеля, способного
удовлетворить высокому значению национального поэта, и вместе с тем явился
другом-руководителем в его нравственной жизни.
6 Из "Певца в стане русских воинов":
А мы?.. Доверенность к Творцу!
Что б ни было, Незримый
Ведет нас к лучшему концу
Стезей непостижимой!
"Вера и нравственность, - писал Батюшков все в той же статье, из которой мы извлекли уже много данных для истории его духовного перерождения, - вера и нравственность, на ней основанная, всего нужнее писателю. Закаленные в ее светильнике, мысли его становятся постояннее, важнее, сильнее, красноречие убедительнее; воображение при свете ее не заблуждается в лабиринте создания; любовь и нежное благоволение к человечеству дадут прелесть его малейшему выражению, и писатель поддержит достоинство человека на высочайшей степени. Какое бы поприще он ни протекал с своею музою, он не унизит ее, не оскорбит ее стыдливости и в памяти людей оставит приятные воспоминания, благословения и слезы благодарности - лучшая награда таланту" {Там же, с. 138-139.}. Жуковский в понятиях Батюшкова в значительной мере удовлетворял этому идеалу писателя. В былое время друзья-поэты резко расходились во взгляде на жизнь и поэзию; но когда в сознании Батюшкова совершился внутренний переворот, он лучше понял возвышенный идеализм Жуковского. Еще вскоре по возвращении из-за границы, полный самых разнообразных впечатлений и охваченный новым приливом давно таившейся в нем любви, Константин Николаевич просил у Жуковского совета: чем ему наполнить пустоту душевную и чем принести пользу обществу {Соч., т. II, с. 304.}; после же того, как наш поэт вышел победителем из тяжелой борьбы между слепою страстью и нравственным долгом, он еще сильнее почувствовал уважение к Жуковскому как поэту и человеку. "Благодарю тебя, милый друг, - писал ему Константин Николаевич из Каменца, - за несколько строк твоих из Петербурга и за твои советы из Москвы и Петербурга. Дружба твоя - для меня сокровище, особливо с некоторых пор. Я не сливаю поэта с другом. Ты будешь совершенный поэт, если твои дарования возвысятся до степени души твоей, доброй и прекрасной, и которая блистает в твоих стихах: вот почему я их перечитываю всегда с новым и живым удовольствием, даже и теперь, когда поэзия утратила для меня всю прелесть... Ты много испытал, как я слышу и вижу из твоих писем, но все еще любишь славу, и люби ее!" {Там же, т. III, с. 304.} Жуковский действительно много пережил и выстрадал душою с тех пор, как расстался с Батюшковым: и ему любовь, хотя была освещена полною взаимностью, принесла больше горя, чем радости; но в чистоте и возвышенности своего чувства он нашел такую крепость духа, которая не допустила его до отчаяния и сохранила прозрачную ясность его души и благородную энергию для деятельности. Ответы Жуковского на письма Батюшкова не сохранились, но можно с уверенностью сказать, что в них выражалась вся та деятельная и живительная сила дружбы, на которую была способна его прекрасная душа. В порывах своего уныния Батюшков не раз повторял, что горе жизни убило в нем талант. Василий Андреевич постоянно ободрял его, настойчиво побуждал к труду, говорил о нравственном значении поэтического творчества, приглашал ехать вместе в Крым - словом, истощал все усилия, чтобы поднять упавший дух своего друга. И все это Жуковский делал в то время, когда и у него было очень тяжело на сердце: с переселением в Петербург ему предстояла полная перемена жизни и приходилось расставаться с дорогими связями молодых лет; утешая Батюшкова, Жуковский в то же время в письме к родным применял к себе его слова, что "воображение побледнело" в новой обстановке {Рус. Архив, 1864, с. 459; ср.: Соч. Батюшкова, т. III, с. 345.}. Дружеские увещания оказались не бесплодными для нашего поэта: наплыв новых идей в его голове требовал исхода, и в декабре 1815 года Батюшков уже мог порадовать Василия Андреевича известием о новых своих произведениях; слова его были прямым ответом на советы друга. "Я готов бы отказаться вовсе от муз, - писал он, - если бы в них не находил еще некоторого утешения от душевной тоски", и затем сообщал перечень целого ряда статей в прозе, написанных в Каменце. "Это все, - объяснял Батюшков, - намарано мною здесь от скуки, без книг и пособий: но может быть, от того и мысли покажутся вам (то есть друзьям) свежее {Соч., т. III, с. 357, 359.}. Очевидно, Батюшков придавал особенное значение этим статьям своим, и он не ошибался в их оценке: в числе их были те этюды о нравственных вопросах, которыми он засвидетельствовал решительную перемену в своем миросозерцании. Не оказался прав Константин Николаевич и в своих жалобах на утрату поэтического таланта: под влиянием горя и последовавшего за ним душевного просветления его дар в поэзии не только не угас, а, напротив, сказался рядом глубоко прочувствованных стихотворений, в которых сила поэтического выражения и фактура стиха достигают высокого совершенства {В Каменце Батюшковым написаны, между прочим, следующие пьесы: "Таврида", "Разлука", "Пробуждение", "Воспоминания", "Мой гений" (Соч., т. I, с. 221-230). Эти именно стихотворения были сообщены Батюшковым чрез князя Вяземского Жуковскому в особой тетради, которая сохранилась в бумагах последнего. Ныне эта рукопись, по завещанию К.Н. Батюшкова, хранится в Императорской Публичной Библиотеке.}. Все эти элегии имеют тесную связь между собою, так как возникли из одного настроения и изображают его с одинаковою искренностью. Когда впоследствии, по выезде из Каменца, Батюшков сообщил друзьям этот цикл своих поэтических произведений, они встретили их с восторгом. Жуковский написал Батюшкову письмо, которое тот принял "с неизъяснимою радостью, с восхищением"; наш поэт, как ни был самолюбив, пришел даже в смущение от похвал друга; объясняя свое душевное состояние, в котором элегии были написаны, он говорил: "С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло, росло с летами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли" {Соч., т. III, с. 403.}. Словами этими поэт каялся в суетных увлечениях своей юности, когда за порывами веселости переживал тягостные минуты отчаяния, и выражал неподдельную радость, что для него наступило духовное обновление, которое давало ему новые силы для плодотворной деятельности.
Пробуждение этих сил Батюшков почуял еще в своем одиночестве на юге России и с той минуты пребывание в Каменце, вдали от дружеского поощрения, стало ему невыносимо. В конце 1815 года он решился оставить и Подолию, и самую службу, которая не принесла ему выгод. Пред новым, 1816 годом он подал в отставку, а в ожидании ее взял отпуск и отправился в Москву.