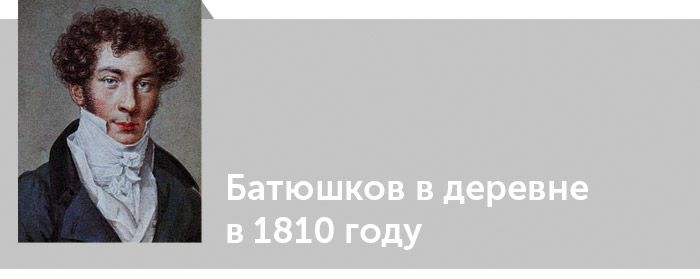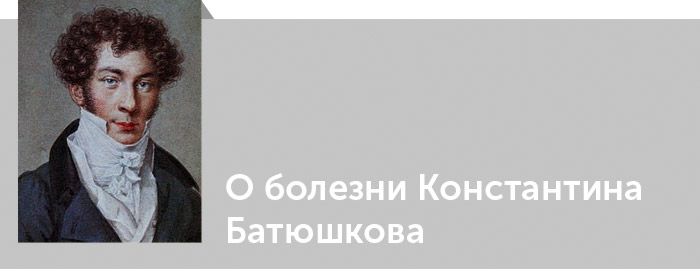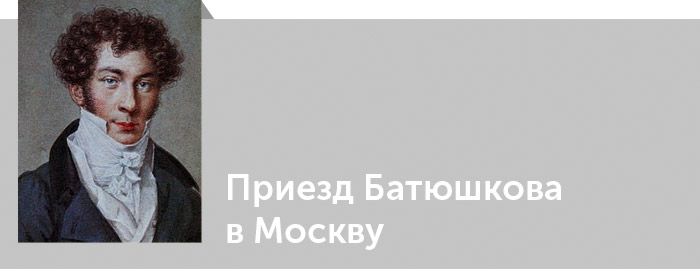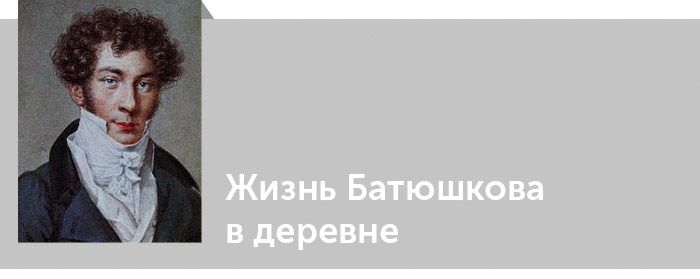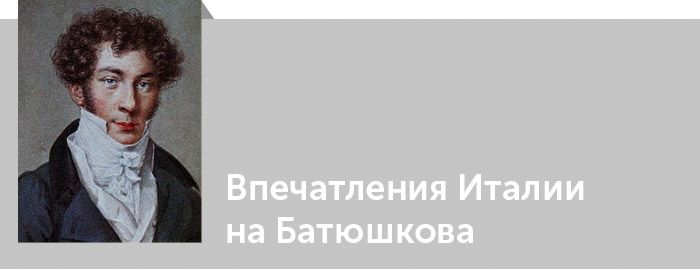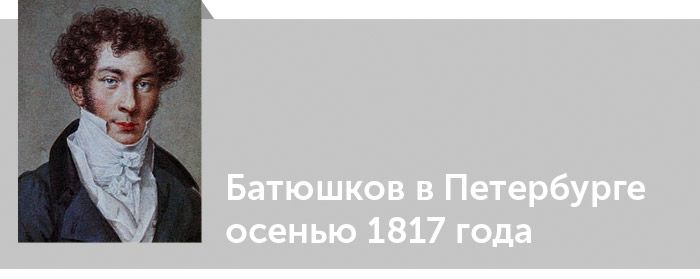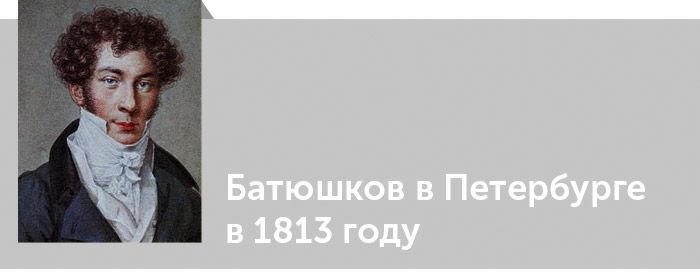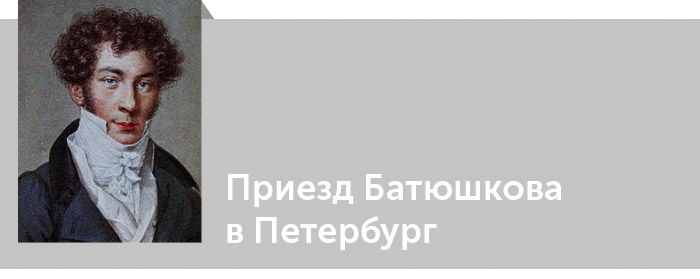Батюшков, его жизнь и сочинения. Батюшков в Москве в 1816 году
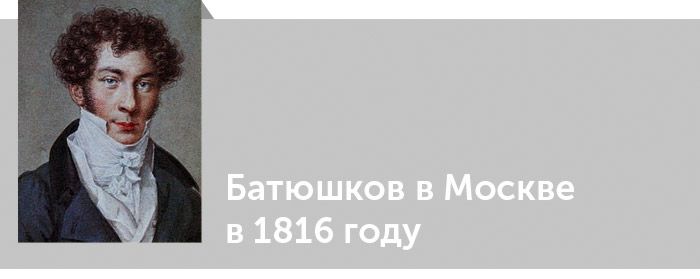
Глава X
Батюшков в Москве в 1816 году. - Перемена в его характере. - Пребывание Батюшкова в деревне в 1817 году. - Литературные занятия. - "Вечер у Кантемира" и "Речь о легкой поэзии". - Историческая элегия. - "Умирающий Тасс". - Заслуги Батюшкова относительно русского стиха. - Настроение поэта под впечатлением творчества
Москва в 1816 году далеко еще не оправилась от страшного Наполеонова погрома. Среди возобновленных зданий еще возвышались обгорелые развалины и чернели пустыри, печальные следы великого пожара. Но общественная жизнь уже вошла в свою колею, хотя и несколько изменилась в своем характере: городское население обеднело, да и самый состав его был уже не совсем тот, что прежде; иные умерли, другие покинули столицу. Батюшков чувствовал потребность освежиться в шумной суете столичной жизни, когда после полугодового пребывания в глухом Каменце-Подольском и после испытаний "труднейшего", как он говорил {Соч III, с. 351.}, года своей жизни приехал в Москву. Он остановился у И.М. Муравьева-Апостола и рад был возобновить с ним занимательные и поучительные беседы. "Хозяин мой ласков, весел, - писал он Гнедичу, - об уме его ни слова: ты сам знаешь, как он любезен" {Там же, с. 379; ср. с. 365.}. С удовольствием возобновил Батюшков и свои разнообразные и многочисленные московские знакомства - светские и литературные. Но теперь рассеяния света уже не привлекали его, как в былое время. Прежде он любил говорить, что образованное светское общество есть лучшая школа для писателя, и действительно, сам он в свои молодые годы успел прекрасно воспользоваться воспитательным влиянием той просвещенной среды, в которой жил. Но теперь, когда его поэтическое призвание вполне определилось, а опыт жизни дал ему тяжелые уроки, отношения писателя к обществу представились ему в ином виде. Постоянное обращение в людской толпе утратило интерес в его глазах; еще в Каменце сложилось у него убеждение, что дар творчества "требует всего человека", то есть сосредоточения в самом себе, и что писатель крепнет духом и силами, если он умеет уединиться со своим трудом от влияния толпы и пренебречь пустыми обязанностями света: "Жить в обществе, - говорил он теперь, - носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы есть требование истинно суетное" {Там же, т. II, с. 120, 121.}. Этого убеждения не поколебали в Константине Николаевиче и приятности московской жизни; проведя несколько месяцев в столице, он в дружеском письме к Жуковскому выражал сожаление, что их общий приятель, даровитый Вяземский, еще сохранил способность увлекаться светскою суетой. "Вяземский, - писал наш поэт, - истинно мужает, но всего, что может сделать, не сделает. Жизнь его - проза; он весь - рассеяние. Такой род жизни погубил у нас Нелединского. Часто удивляюсь силе его головы, которая накануне бала или на другой день находит ему счастливые рифмы и счастливейшие стихи" {Соч., т. III, с. 404.}. "Я желал бы его видеть в службе или за делом, - говорил он немного позже в другом письме, тоже к Жуковскому, - менее с нами праздными, а более в прихожей у честолюбия" {Там же, с. 448.}.
Из этого охлаждения к светским развлечениям не следует, однако, заключать, чтобы нравственное перерождение Батюшкова сделало его аскетом или мизантропом, чтоб он стал избегать людей; он только стал строже в выборе тех, с которыми сходился, - зато еще теснее сближался с теми, кто был ему дорог. К тому же вскоре по приезде в Москву Батюшкова постигло нездоровье, продолжавшееся с кое-какими перерывами несколько месяцев; это обстоятельство, надолго удержавшее его в древней столице {Там же, с. 388, 389.}, заставляло его отказываться от частых выездов и побуждало еще более замкнуться в тесном кругу, состоявшем по большей части из представителей литературного мира.
Карамзины, Пушкины, Вяземские - вот те лица и те семьи, среди которых всего охотнее, по-прежнему, появлялся Константин Николаевич. К этому избранному кругу прибавим еще И.И. Дмитриева, который, оставив министерский пост, возвратился доживать свой век в Москве и здесь на покое собирал у себя разных лиц, преимущественно литературного круга. Все более и более проникался Батюшков уважением к Карамзину при виде той энергии, с которою Николай Михайлович продолжал свой великий труд среди всеобщего равнодушия толпы и тайного злорадства тех, кто считал себя вправе быть судьей в литературе. "Карамзин, - говорил Батюшков, - избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений: тайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной" {Соч., т. III, c. 357.}. В 1816 году были окончены восемь томов "Истории государства Российского", и автор собирался везти их в Петербург для представления государю. "Карамзин, - писал Батюшков Тургеневу по этому случаю, - скоро будет у вас. Он здесь ходит
Entre I'Olympe et les abimes,
Entre la satire et I'encens.
Что же будет у вас! История его делает честь России. Так я думаю в моем невежестве. Ваши знатоки думают иначе. Бог с ними!" {Там же, с. 357.} Он живо интересовался, как будет принят труд Карамзина в Петербурге, и горячо обрадовался, когда узнал об его успехе. В это пребывание в Москве Батюшков ближе познакомился и с супругою Николая Михайловича. "Я часто ее вижу, - писал он Жуковскому, - и всегда с новым удовольствием: умная, добрая, редкая женщина" {Там же, с. 383, 385.}. С своей стороны, Екатерина Андреевна оценила нашего поэта; когда во второй половине 1816 года Карамзины переселились на житье в Петербург, она вспоминала о его приятном обществе в следующих словах своего письма к Жуковскому: "Mes melleurs арзамасцы me manquent: le prince Pierre, vous et Batuchkof; quand vous serez reunis, je ne me croirai plus en pays etranger; je tiens a vous par 1'amitie et des souvenirs" {Рус. Архив, 1869, с. 1384, 1385. Жуковский жил тогда в Дерпте; le prince Pierre - кн. П.А. Вяземский.}.
Отношения между Батюшковым и Вяземским, разумеется, оставались самыми дружественными. Приятели не видались с тяжелой поры Отечественной войны, и Вяземский уже давно лелеял мысль о дружеской встрече: еще в 1815 году он надеялся привлечь Батюшкова в свое Остафьево, а затем, ожидая его приезда из Каменца, приготовил ему комнаты в своем доме {Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. III, с. 99; Соч. Батюшкова, т. III, с. 352.}; возвращение Батюшкова в Москву князь приветствовал задушевным посланием {Оно сохранилось только в записной книжке Батюшкова (Соч., т. III, с. 290-292).}. Еще другое обращение Вяземского к своему приятелю Тибуллу, которое также приурочивается к описываемому времени, находится в застольной песне, посвященной князем Петром Андреевичем своим друзьям {Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. VIII, с. 509. Песня это написана, во всяком случае, не ранее 1813 года, ибо в ней упоминается о Бородине, и не позже 1817, когда Вяземский уехал из Москвы в Варшаву на службу.}. Песня эта служит памятником тех дружеских собраний, на которых Вяземский соединял своих приятелей в 1816 году, как и в более ранние времена. Со своей стороны Батюшков сохранял прежние чувства к Вяземскому: с ним первым он поделился тем прекрасным циклом своих элегий, в которых во время одинокой жизни в Каменце излил свои сердечные страдания {Соч., т. III, с. 404.}, и ему же посвятил он одно из лучших своих стихотворений того времени, по содержанию составляющее прямое дополнение к этим элегиям. В этом послании поэт обращается к другу с вопросом:
что прочно на земли? Где постоянно жизни счастье?
вспоминает веселые дни вместе проведенной молодости, перечисляет утраты, понесенные ими с той поры, и приходит к заключению, что
все суетно в обители сует.
Он не нашел ответа на свой вопрос ни в скрижалях истории, ни в учениях мудрецов, и ум его терзался сомнениями; тогда-то, говорит он, -
Я страхом вопросил глас совести моей...
И мрак исчез, прозрели вежды,
И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.
Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен,
Ногой надежною ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.
Мы уже знаем, какая внутренняя борьба подняла духовный взор нашего поэта до этих высоких созерцаний. Друг его был окружен счастьем от колыбели, почти юношей занял видное место в обществе и рано узнал светлые радости семейной жизни - словом, в годы своей молодости не изведал тех душевных испытаний, которые выпали на долю нашего поэта; но он, конечно, сумел оценить значение того внутреннего перерождения в душе Батюшкова, о котором последний говорил ему в своих стихах.
С переменою душевного расположения сильно изменился самый характер Батюшкова: прежде в нем было много живости и веселой насмешливости; теперь, как сам замечал, он стал тих, задумчив и молчалив; эпиграммы, на которые он был неистощим во время оно, уже не лились с его пера; к сатире он даже чувствовал отвращение {Соч., т. III, с. 360, 410.}. Прежними насмешками он нажил себе врагов в Москве между литераторами, не принадлежавшими к карамзинскому кругу. И теперь он сохранял о них очень невысокое мнение {Там же, с. 382, 408.}, но по внешности готов был относиться к ним более мирно. Он видался с Каченовским и охотно печатал свои произведения в его журнале; слушал публичные лекции Мерзлякова и отзывался о них с одобрением {Там же, с. 383; Полн. собр. соч. С.Т. Аксакова, т. IV, с. 24; Аксаков неверно приурочивает свою встречу с Батюшковым к 1815 году.}; сделался даже членом университетского Общества любителей словесности. Пять лет тому назад ему отказали в звании члена; теперь он был избран вместе с Жуковским и в забавных выражениях извещал своего друга об оказанной им обоим чести {Там же, с. 132, 383: "Я знаю, что ты не будешь спать от радости: ты член здешнего общества". Избрание обоих состоялось в чрезвычайном заседании Общества 26 февраля (Труды, ч. VIII. с. 33).}. Избрание свое он пожелал ознаменовать вступительною речью, которая и была прочтена в одном из заседаний. Почет, оказанный Константину Николаевичу, несомненно, был приятен его самолюбию, и он счел приличным отплатить за него несколькими любезностями более видным из представителей Общества, но вместе с тем не мог не заявить независимости своих убеждений, распространившись в своей речи о заслугах таких писателей, на которых смотрели косо в университетском кругу. Речь эта возбудила толки, не имевшие, впрочем, неприятных последствий для нашего поэта {Там же, с. 401.}.
Таким образом, жизнь Батюшкова в Москве текла мирно и покойно. Кроме постоянного нездоровья, его тревожила только та медленность, с которою решался вопрос о его отставке. Наконец в апреле он узнал, что может снять военный мундир {Соч., т. III, с. 387.}, и отнесся к этому известию без раздражения, хотя отставка и не сопровождалась ни давно обещанным орденом, ни производством в чин. Теперь он мог вздохнуть свободно и с нескрываемым удовольствием писал Гнедичу: "Я ни за чем не гоняюсь и если бы расквитался с долгами, наделанными в службе, и не имел бы домашних огорчений, то был бы счастлив и весел" {Там же, с. 389.}. Даже чувство подавленной любви тихо замирало в его сердце, и когда Александра Николаевна и Е.Ф. Муравьева затрагивали в своих письмах этот тяжелый для Батюшкова вопрос, он отвечал на их намеки почти без горечи. "Твои советы насчет известного дела напрасны, милый друг, - писал Константин Николаевич сестре еще в марте, - невозможное невозможно. Я знал это давно и все предвидел. Спокойно перенесем бремя жизни, не мучаясь и не страдая: вот все, что можем, а остальное забудем" {Там же, с. 381.}. Еще яснее выражался он в письме к тетке от 6 августа: "Все, что вы знаете, что сами открыли, что я вам писал и что вы писали про некоторую особу, прошу вас забыть, как сон. Я три года мучился, долг исполнил и теперь хочу быть совершенно свободен. Письма мои сожгите, чтобы и следов не осталось: прошу вас об этом. С вашими то же сделаю, там, где говорите о ней. Теперь дело кончено. Я даю вам честное слово, что я вел себя в этом деле как честный человек, и совесть мне ни в чем не упрекает. Рассудок упрекает в страсти и в потерянном времени. Не себе, а Богу обязан, что Он спас меня из пропасти" {Там же, с. 392.}.
Батюшков не спешил покидать Москву для деревни: сперва он не решался ехать туда в ожидании отставки, а потом возобновившаяся болезнь, ревматизм, удержала его в столице вблизи скорой помощи врачей {Соч., т. III, с. 388, 397.}. Несомненно, впрочем, и то, что он по-прежнему боялся деревенского одиночества и предпочитал оставаться в непосредственном общении с людьми, у которых были те же интересы, какие занимали и его самого. Так Константин Николаевич прожил в Москве до декабря и только в самом конце 1816 года отправился в Хантоново, чтобы - как он говорил - провести там зиму и весну "во спасение души, тела и кармана" {Там же, с. 386; ср. с. 413.}. Здесь встретили его обычные хозяйственные заботы и затруднения; но как ни были они противны ему, он с летами научился покоряться необходимости и потому даже к деревенским хлопотам относился теперь без раздражения. "Недавно приехал в мою деревню, - писал он Вяземскому в январе 1817 года, - и не успел еще оглядеться. Все разъезжал семо и овамо. Теперь начинаю отдыхать, раскладываю мои книги и готовлю продолжительное рассеяние от скуки, то есть какое-нибудь занятие. Если здоровье позволит, то примусь за стихи" {Там же, с. 413.}. Очевидно, и в деревенской обстановке он сохранял мирное расположение духа и душевную бодрость. Вместе с тем потребность творчества росла в нем все сильнее и сильнее. Еще в марте 1816 года он писал Жуковскому из Москвы: "Здоровье мое час от часу ниже, ниже, и я к смерти ближе, ближе, а писать - охота смертная!" {Там же, с. 383.} То же мог бы он повторить и теперь: болезни не давали ему покоя и в деревне, но мысль и воображение деятельно работали.
И в 1816 году в Москве и в следующем, во время пребывания в Хантонове, Батюшков много занимался литературными трудами. Внешним побуждением к тому служило его решение издать отдельною книгой собрание своих произведений, на что он был вызван старым приятелем своим Гнедичем; внутренний двигатель поэт нашел в определенном сознании своих творческих сил, встретивших полное признание со стороны лучших ценителей своего времени. Мы уже знаем, что похвалы Жуковского пьесам, написанным в Каменце, Батюшков принял "с радостью неизъяснимою, с восхищением"; благодаря за них друга, он извещал его: "Я разгулялся и в доказательство печатаю том прозы, низкой прозы; потом - стихи. Все это бремя хочется сбыть с рук и подвигаться вперед, если здоровье и силы позволят" {Соч., т. II, с. 403, 404.}. Законное чувство уверенности в силе своего таланта слышится в этих словах. Он окончательно убедился теперь, что верно избрал путь для его разработки, и не без гордости мог сказать о себе: "Я не люблю преклонять головы моей под ярмо общественных мнений. Все прекрасное мое - мое собственное. Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не брожу: иду своим путем" {Там же, т. III, с. 416, 417.}. Таким образом, сознание поэтом своей полной зрелости предшествовало изданию предпринятого им сборника своих сочинений. Оглянемся же на те из его произведений, которые написаны им в эту зрелую пору и послужили лучшим украшением его книги.
Из прозаических статей, написанных Батюшковым в позднейший период его деятельности, замечательнейшая, без сомнения, "Вечер у Кантемира". Автор возвращается в ней к вопросу, уже прежде занимавшему его, - об отношении России к европейскому просвещению. Он изображает Кантемира в беседе с Монтескье и аббатом Вуазеноном: оба француза высказывают сомнение в том, чтоб европейское просвещение, начала которого посеяны в России Петром Великим, могло прочно утвердиться в стране, где самый климат не благоприятствует умственной культуре; они еще готовы признать, что русские люди могут усвоить себе кое-какие технические знания, но решительно не допускают предположения, чтобы в русских можно было "вдохнуть вкус к изящному, к наукам отвлеченным, умозрительным". Очевидно, излагая в таком отрицательном смысле взгляд даже умных иностранцев, Батюшков имел в виду и тех своих соотечественников, которые в поклонении западной образованности доходили до полного отрицания способности к самостоятельному развитию в своем народе. Ответ Кантемира своим собеседникам раскрывает воззрение самого автора: "Вы знаете, - говорит Кантемир, - что Петр сделал для России: он создал людей... Нет, он развил в них все способности душевные, он вылечил их от болезни невежества, и русские под руководством великого человека доказали в короткое время, что таланты свойственны человечеству. Не прошло пятнадцати лет, и великий монарх наслаждался уже плодами знаний своих сподвижников: все вспомогательные науки военного дела процвели внезапно в государстве его. Мы громами побед возвестили Европе, что имеем артиллерию, флот, инженеров, ученых, даже опытных мореходцев. Чего же хотите от нас в столь короткое время? Успехов ума, успехов в науках отвлеченных, в изящных искусствах, в красноречии, в поэзии? Дайте нам время, продлите благоприятные обстоятельства, и вы не откажете нам в лучших способностях ума... Петр Великий, заключив судьбу полумира в руке своей, утешал себя великою мыслию, что на берегах Невы древо наук будет процветать под сению его державы и рано или поздно, но даст новые плоды, и человечество обогатится ими" {Соч., т. II, с. 228-230.}. Таким образом, и теперь, как прежде, Петровская реформа, а не вся прошлая жизнь России, представлялась Батюшкову исходною точкой для ее дальнейшего развития: иначе он и не мог думать, потому что не знал своего родного прошлого. Зато теперь он уже вполне ясно сознавал, что Россия может и должна развивать просвещение самостоятельно и что только этим путем она внесет свой вклад на общее благо человечества.
На твердой почве этих общих принципов стоит Батюшков и в своей речи о влиянии легкой поэзии на язык, речи, которая также относится к 1816 году. Основная мысль ее - указать, что язык, как выражение образованности, и словесность имеют беспрерывное развитие. Батюшков проводит параллель между Петром Великим и Ломоносовым: что первый совершил для русской гражданственности, то же сделано вторым в области литературы: "Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу. Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам. Он возвел в свое время язык русский до возможной степени совершенства, возможной - говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной. С просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностью и людскостью" {Там же, с. 238.}. В новейшее время великие победы вознесли Россию на верх могущества и показали миру ее высокое политическое значение; сообразно с тем - заключает Батюшков - должны развиться и ее духовные силы; поэтому от имени Общества, среди которого сказана речь, он обращается к писателям со следующим призывом: "Несите, несите свои сокровища в обитель муз, отверзтую каждому таланту, каждому успеху; совершите прекрасное, великое, святое дело, обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия!" {Соч., т. II, с. 244.} В исторической части своей речи Батюшков сделал краткий обзор развития русской литературы от Ломоносова до своего времени и отдал дань своего убеждения прежним деятелям на поприще словесности, но он не скрыл своего убеждения, что эти деятели уже не могут служить образцами и что, в сущности, все развитие нашей литературы, которое приведет ее к зрелости и оригинальности, принадлежит еще будущему времени. К изложению исторического очерка новой русской литературы Батюшков намеревался возвратиться еще раз и предполагал дать ему довольно обширное развитие. В июне 1817 года он сообщит Вяземскому, что хочет "написать в письмах маленький курс для людей светских и познакомить их с собственным богатством" {Там же, с. 453.}. Намерение это, однако, не было исполнено, и в записной книжке 1817 года сохранился только план очерка, указывающий на общую точку зрения автора и на особые мнения его по отдельным вопросам; если первая известна нам из других его сочинений и писем, то о частностях было бы неосторожно судить по слишком коротким намекам.
Речь о "легкой поэзии" составляет как бы апологию интимной лирики; наш поэт избрал этот предмет для публичного обсуждения, конечно, потому, что большая часть его стихотворений, написанных в молодости, относится к этому роду. Но мы знаем, что еще с 1813 года он начал искать других, более широких задач для своего творчества. Однако даже патриотическое воодушевление того времени не облеклось в его поэзии в классическую форму оды; как у Жуковского "Певец в стане русских воинов" по своему настроению скорее примыкает к балладе, чем к торжественной лирике, так и наш поэт остается на почве элегии даже в пьесе, вызванной таким громким событием, как переход через Рейн. Так, у обоих поэтов ясно обнаруживается колебание старых поэтических форм, - зато у обоих поэтическое выражение выигрывает в искренности. Грустный элегический оттенок господствует у Батюшкова в большей части стихотворений поздней поры, даже в пьесах, заимствованных у других писателей. Это было естественным следствием его душевного состояния и вместе с тем художественным расчетом поэта. Мы уже познакомились с циклом тех превосходных элегий, которые были внушены ему второю несчастною любовью. Последние отзвуки этой сердечной боли еще слышны в двух пьесах 1816 года, хотя и не оригинальных; так, взятая у Парни элегия "Мщение" содержит в себе скорбное обращение к милой, которая позабыла своего друга, а "Песнь Гаральда Смелого" - сетование храброго воина, любовь которого отвергнута очаровавшею его девой. Эта "Песнь", столь замечательная по яркости красок, по силе и сжатости языка, заслуживает внимания еще в одном отношении; вместе с пьесами (оригинальными и переводными) "Переход через Рейн", "Пленный", "Тень друга", "На развалинах замка в Швеции", "Гезиод и Омир - соперники", "Умирающий Тасс" она представляет образцы особого рода элегии, которую принято называть историческою или эпическою. Ряд названных стихотворений, написанных Батюшковым на пространстве трех-четырех лет, свидетельствует, что в данное время этот род сделался для него любимою поэтическою формой. Указывая Жуковскому на эти свои пьесы, Батюшков именно говорил, что он желал ими расширить область элегии {Соч., т. III, с. 448.}. Если вообще элегия есть жалобная песнь, поэтическое выражение печали по утраченном идеале, то элегией историческою или эпическою должно назвать такое лирическое стихотворение, где идеал воплощается в каком-нибудь достопамятном событии или лице, о котором скорбное воспоминание возбуждает вдохновение поэта. Когда на исходе XVIII века во всех европейских литературах начало обнаруживаться пресыщение от псевдоклассицизма с его парадною торжественностью, поэтическое творчество стало искать новых путей и обратилось за пособиями для своего обновления, между прочим, к преданиям старины и к безыскусственной народной поэзии. Одною из первых попыток в этом роде были так называемые песни Оссиана, будто бы собранные Макферсоном у шотландских горцев. Шиллер находил в этих песнях высокие образцы именно элегического настроения {В статье "О наивной и сентиментальной поэзии".}. Г-жа Сталь, проводя в своей книге "De la litterature" параллель между южною и северною поэзией, отметила это свойство как преобладающее в сей последней. Идеи, высказанные в этом сочинении, имели влияние на Батюшкова, хотя он и был воспитан на образцах древнего классицизма: грустные оссиановские мотивы попадаются еще в ранних его произведениях; еще в 1809-1810 годах он переводит отрывки из поэмы Парни "Isnel et Aslega", заимствующей содержание из древнескандинавского мира, который стал привлекать к себе внимание новых поэтов наряду с Оссианом. У того же Парни явилась мысль освежить элегию новыми красками. Когда молодые поэты обращались за указаниями к этому любимейшему элегисту своего времени, он имел обычай говорить им: "Поэзия изнашивается, ее нужно оживлять новыми образами. Изображайте иные нравы, иную природу". Сохранивший нам это свидетельство Мильвуа, современник Батюшкова, воспользовался советом Парни и написал несколько элегий с историческою или эпическою подкладкой. В особом этюде об элегии он настаивает на том, что подобные стихотворения принадлежат именно к элегическому роду. "Если, - говорит он, - выводимые поэтом лица заменяют его собственную личность, то это лишь придает стихотворению более драматическую форму; если изображаемое действие совершается далеко от нас, то получает для нас интерес новизны, подробности его становятся разнообразнее и сохраняют в себе нечто первобытное, освежающее воображение и обновляющее творчество. Литераторы, рассматривавшие эти пьесы, - продолжает Мильвуа, обращаясь к своим собственным произведениям, - благосклонно признали в них соблюдение местных красок (couleur locale) и некоторую приятность: они возражали только против отнесения пьес к разряду элегий; но признаюсь, я мало придаю значения названию. Позволяю себе заметить, что нововведение может быть непривлекательно лишь тогда, когда оно странно, что в данном случае оно заключается только в рамке стихотворения и что, наконец, нечего выдумывать новое название для элегии нового рода, если она все-таки остается элегией" {Этюд Мильвуа об элегии обыкновенно печатается при собрании его стихотворений, передаем его слова в несколько вольном переводе, чтобы сделать смысл их более ясным.}. Для оправдания своей теории Мильвуа ссылался, впрочем, на пример древности; поэты новых литератур подражали обыкновенно любовным элегиям Тибулла и Проперция; он же задумал воспроизвести тип первоначальной элегии греческой и относительно характера сей последней ссылался на следующие слова аббата Бартелеми: "Прежде чем изобретено было драматическое искусство, поэты, которым природа дала чувствительную душу, но отказала в эпическом таланте, изображали в своих картинах то бедствия какого-либо народа, то несчастия какого-нибудь лица древности, то оплакивали смерть родственника или друга и в том находили себе утешение" {Barthelemy. Voyage du jeune Anacharsis en Grece, chap. LXXX.}. Применяясь к такому характеру древнегреческой элегии, Мильвуа написал несколько пьес, которые называет античными элегиями. "Проникая в сущность произведений великих художников, - говорит он, - я пытался воспроизвести наивные красоты их созданий или, если позволено так выразиться, то благоухание древности, которое от них исходит".
Батюшков внимательно следил за явлениями французской литературы; ему были известны и стихотворения Мильвуа, и его теоретические рассуждения, и без сомнения, Константин Николаевич имел их в виду, усвоивая задачу исторической элегии своему творчеству. Он позаимствовал у Мильвуа одну из лучших его пьес в этом роде: "Combat d'Homere et d'Hesiode", и нужно сказать, что в превосходной передаче русского поэта эта "античная элегия" несравненно выше, чем в подлиннике. На этот раз Батюшков, вопреки своему обычаю, держался оригинала довольно близко, но бледным образам Мильвуа он придал поразительную яркость и вялый стих его заменил сжатым и гармоническим стихом своим. Стихотворение "Гезиод и Омир - соперники" представляет собою блестящую картину античной жизни, освещенную высокою нравственною мыслью.
Образцов исторической элегии Батюшков искал, впрочем, не у одного Мильвуа. Занявшись с 1813 года немецкою словесностью, он познакомился, между прочим, с произведениями Маттисона. Талант этого писателя встретил в свое время сочувственный отзыв Шиллера, и весьма возможно, что из его статьи о Маттисоновых стихотворениях впервые узнал о них Батюшков. Шиллер находил в этом поэте уменье рисовать сельские сцены и изображать картины природы, но желал, чтоб он вложил в грациозные образы своей фантазии и в музыку своих стихов более глубокий смысл, чтобы нашел для своих пейзажей фигуры и вывел бы на сцену человека. Батюшков остановился на том из стихотворений Маттисона, где отчасти сделана подобная попытка. Его "Элегия, написанная на развалинах древнего замка" пользовалась в свое время большою известностью; но позднейшая критика справедливо признала в этом стихотворении слишком много аффектации в оплакивании преходимости всего земного {W. Menzel. Geschichte d. Deutschen Dichtung, 9-s В., § 4; W. Scherer. Geschichte d. Deutschen Litteratur, 13-s Кар.}. Подражая пьесе Маттисона, Батюшков отнесся к ней очень свободно; он почти совсем устранил излияния немецкого поэта на отвлеченную тему, но, как бы осуществляя указание Шиллера, чрезвычайно счастливо воспользовался теми намеками Маттисона, которые давали повод к созданию живых образов. Между тем как немецкий поэт переносит свои мечтания в рыцарские века Германии, Батюшков обращается со своими воспоминаниями к далеким временам скандинавского севера, которые уже давно занимали его воображение, и в мотивах "северной поэзии" находит материалы для создания целого ряда живых сцен из быта отважных ценителей моря.
Черты той же северной поэзии воспроизведены Батюшковым в "Песне Гаральда Смелого", но на этот раз в красках еще более ярких и более верных исторической действительности, потому что почерпнуты в непосредственном источнике. Здесь не место разбирать, кто настоящий автор Гаральдовой песни; во всяком случае, не подлежит сомнению, что это - памятник древности, восходящий по крайней мере к XIII веку. Замечательно то сильное выражение нежной страсти, которым отличается эта песнь; в этом отношении она напоминает лирику уже поздних рыцарских времен, и именно по такому своему характеру она в особенности могла быть доступна пониманию Батюшкова. Он знал ее по французскому переводу в "Датской истории" Малле или, всего вероятнее, по русскому переложению НА. Львова, сделанному на основании того же Малле. Наш поэт не заботился о близкой передаче подлинника, но все характерные черты его (например, в 4-й строфе) сохранил, по крайней мере, по существу, если не в точных выражениях. Уже эта попытка приблизиться к простоте древней песни свидетельствует о новых живых стремлениях в творчестве нашего поэта.
На мысль переложить в стихи песнь Гаральда навело Батюшкова чтение книги Маршанжи "La Gaule poetique" {Соч., т. III, с. 371.}. Сочинение это составляет одно из характерных явлений своего времени. В период империи во французском обществе, уже утомленном Наполеоновым деспотизмом, начало пробуждаться сочувствие к старинным рыцарским временам, которые рисовались воображению только своею поэтическою и живописною стороною, как пора благородных стремлений, самоотверженных подвигов и возвышенной, мечтательной любви. Выразителем этих стремлений был не один Шатобриан; вслед за ним пошли другие писатели, и числе их Маршанжи, который в своей "Gaul poetique" сделал попытку пересказать поэтические предания старинной французской жизни. Батюшков, еще будучи во Франции, подметил эти признаки возрождающихся симпатий к средним векам, которые впоследствии послужили одним из главных элементов для образования французского романтизма {Соч., т. II, с. 72; ср. с. 407 и 408.}; поэтому понятно, что при чтении книги Маршанжи в 1816 году он мог вспомнить о скрашенной рыцарским характером песне скандинавского витязя, любовь которого была отвергнута русскою княжной.
С возникновением интереса ко временам рыцарства и к поэзии трубадуров стали входить в моду романсы, в которых обыкновенно воспевалась любовь к какому-нибудь храброму воину, отправившемуся в далекие страны искать себе чести и славы; довольно много романсов встречается между стихотворениями Мильвуа, и также с грустным элегическим оттенком. Батюшков отозвался и на этот новый поэтический призыв: еще в 1812 году, под впечатлениями начинающейся войны, он написал романс "Разлука"; относящаяся к 1814 году пьеса "Пленный", содержание которой также находится в связи с военными обстоятельствами того времени, составляет нечто среднее между романсом и эпическою элегией. Для нас утрачен внутренний смысл того настроения, которое могло вызвать подобные пьесы; сентиментальный их характер, вообще не свойственный нашему поэту, кажется нам даже приторным; но, очевидно, стихотворения эти отвечали идеальным стремлениям некоторой части тогдашнего общества и выраженное в них чувство находило себе отклик в молодых сердцах: романс Константина Николаевича пользовался большим успехом в свое время.
К числу исторических элегий нашего поэта следует отнести еще две пьесы: "Переход через Рейн" и "Тень друга". Обе находятся в связи с событиями последних войн наполеоновской эпохи. Первая, написанная под впечатлением одного из главных моментов гигантской борьбы, соединяет в себе воспоминания о героических временах германской древности с выражениями патриотического чувства и благодарности Провидению, которое привело русские войска для победы на берега великой германской реки. Вторая элегия изображает то грустное раздумье, которое наступило для Батюшкова по окончании войны, когда после радостных ощущений победы он яснее и глубже почувствовал тяжесть утраты, понесенной им в лице друга его Петина. Элегией "Тень друга" начинается ряд тех скорбных песен, в которых поэт раскрыл нам свое душевное состояние после военного времени и по возвращении в отечество. Последним звеном в этой цепи поэтических произведений служит знаменитая элегия "Умирающий Тасс". Хотя содержание ее взято не из сферы личной жизни поэта, но в изображение смерти Тасса он вложил столько им самим пережитого и выстраданного, что по внутреннему смыслу пьеса эта является вполне выражением личности самого автора в позднюю эпоху его поэтического творчества.
Мы знаем уже, что Константин Николаевич от самых молодых лет питал глубокое, почти благоговейное чувство и к поэзии Тасса, и к личности самого поэта. Тасс хотя и прославился эпическою поэмой, но по свойству своего дарования он, в сущности, лирик, и притом с элегическим оттенком; нота нежного чувства преобладает в его поэме; разнообразные, мастерски рассказанные любовные эпизоды совершенно заслоняют собою основную тему ее - освобождение Святого Града из-под власти неверных. Эти-то эпизоды, составляющие лучшие части Тассовой поэмы и дающие автору повод изобразить целый ряд женских характеров, без сомнения, и привлекли к ней первоначально особые симпатии Батюшкова; но когда впоследствии мысль его сделалась строже и серьезнее, он стал искать в "Освобожденном Иерусалиме" красот другого рода: в своей прозаической статье о Тассе, написанной уже в 1815 году, он не без натяжки настаивает на том, что описания битв в знаменитой поэме не уступают подобным же картинам, встречающимся у Виргилия и Гомера {Соч., т. II, с. 152.}. В этот же позднейший период изучения "Освобожденного Иерусалима" Батюшков обратил внимание на религиозное настроение его автора. Набожность воспитанного иезуитами Тасса, конечно, не была похожа на наивное христианское воодушевление, отличающее настоящий средневековый эпос; но это различие совершенно ускользало от понимания Батюшкова, и Тасс являлся в его глазах великим художником, который умел сочетать в своем творчестве классическое понимание красоты с миросозерцанием искренно верующего христианина. С этим идеальным представлением о Тассе как поэте соединялось высокое понятие о нем как о человеке. В биографию Тасса очень рано были вплетены разные предания романического характера; его мечтательная любовь к Элеоноре д'Эсте, претерпенные им гонения, его помешательство как печальное следствие несчастий, наконец - приготовленное ему венчание в Капитолии и смерть, постигшая его почти накануне этого торжества. Все эти исключительные обстоятельства его жизни, так охотно и без критической проверки подхваченные его старинными биографами, сделали Тасса в общем мнении типическим представителем тех великих своими дарованиями несчастливцев, которые погибают прежде времени в борьбе с несправедливостью беспощадной судьбы. В воображении Батюшкова Тасс всегда рисовался в этом поэтическом образе. "Торквато был жертвою любви и зависти", - говорил он еще в то время своей молодости, когда, по совету Капниста, предпринял было перевод "Освобожденного Иерусалима" {Соч., т. I, с. 50, прим. 3-е.}. Еще тогда Константин Николаевич написал восторженное послание к Тассу, пьесу детски слабую в литературном отношении, но уже выражающую сейчас указанный взгляд на итальянского поэта. Пьесу эту Батюшков не решился перепечатать в 1817 году, когда предпринял издание своих сочинений; но вместо нее этот сборник украсился новою элегией - "Умирающий Тасс". Тесная внутренняя связь между двумя стихотворениями не подлежит сомнению и делает весьма вероятным предположение, что позднейшая элегия вызвана была более ранним посланием: собирая свои произведения ранних лет, Батюшков подвергал их исправлениям; при этом юношеское послание не удовлетворило его своею слишком несовершенною формой, но его содержание возбудило вдохновение поэта к созданию новой прекрасной пьесы.
В конце февраля и в начале марта 1817 года Батюшков сообщал Гнедичу и Вяземскому, что начал писать большую элегию на тему о смерти Тасса, а в апреле она была уже окончена и отправлена в Петербург для печати {Там же, т. III, с. 419, 428, 439.}. "Перечитал все, что писано о несчастном Тассе, напитался "Иерусалимом"", - прибавлял он в письме к Вяземскому, и затем, немного времени спустя, обращался к Жуковскому с такими словами: "Понравился ли мой "Тасс"? Я желал бы этого. Я писал его сгоряча, исполненный всем, что прочитал об этом великом человеке... Воскреси или убей меня. Неизвестность хуже всего. Скажи мне, чистосердечно скажи: доволен ли ты мною?" {Там же, с. 446, 447.}
Мы только отчасти знаем, что именно было прочитано Батюшковым касательно жизни Тасса: это - главы, посвященные ему в "Histoire litteraire d'ltalie" Женгене и в сочинении Сисмонди о литературах южной Европы. Но, разумеется, еще раньше знакомства с этими учеными трудами Батюшков читывал старинные биографии итальянского поэта, и собственно по ним составилось у него представление о "певце Иерусалима". Он знал также, что "живопись и поэзия неоднократно изображали бедствия Тасса" {Соч., т. I, с. 258.}; он мог, например, знать плохую элегию Лагарна: "Les malheurs et le triomphe du Tasse"; но читал ли он известную трагедию Гете, это мы не можем утверждать положительно. Наконец, из сочинений самого Тасса Константин Николаевич был знаком преимущественно с "Освобожденным Иерусалимом"; из других его произведений знал он лишь несколько канцон, и то едва ли не по отрывкам, приведенным у Женгене и Сисмонди. Вот весь тот внешний материал, из которого возник "Умирающий Тасс", и, конечно, только собственное творчество нашего поэта могло создать на основании таких бедных пособий тот цельный образ, который мы находим в его произведении; поэтому-то Батюшков и мог, извещая Гнедича о начатой элегии, сказать ему: "И сюжет, и все - мое. Собственная простота" {Там же, т. III, с. 419.}. Образ страдальца Тасса сложился в душе нашего поэта по его собственному подобию.
В жизни своей, исполненной треволнений, Батюшков охотно находил черты сходства с обстоятельствами несчастной судьбы своего героя. Еще в молодые годы, когда Гнедич советовал Константину Николаевичу не бросать начатого перевода "Освобожденного Иерусалима", последний однажды, в минуту хандры среди деревенского одиночества, писал своему петербургскому другу: "Ты мне советуешь переводить Тасса - в этом состоянии? Я не знаю, но и этот Тасс меня огорчает. Послушаем Лагарма в похвальном его слове Колардо: "Son ame (1'ame de Colardeau) semblait se ranimer un moment pour la gloire et la reconnaissance, mais ce dernier rayon allait bientot s'eteindre dans la tombe... II avait traduit quelques chants du Tasse. Y avait-il une fatalite attachee a ce not?" {Соч., т. III, с. 64.} Ранняя утрата матери, ограниченность состояния, столкновения с литературными неприятелями, служебные неудачи, оскорбившие честолюбие нашего поэта, наконец, - любовь, которой он не нашел ответа и удовлетворение, все это действительно такие обстоятельства его жизни, которым нетрудно указать аналогии в биографии Тасса (в том виде, в каком последняя была известна Батюшкову). Но сближение можно вести и далее: в личном характере обоих поэтов, русского и итальянского, несомненно, было много общего: оба они были люди с страстною и нежною душой, склонные к горячим увлечениям и порою легкомысленные; оба, по выражению Батюшкова, "любили славу", болезненно раздражались при порицаниях и жадно упивались похвалами; оба, наконец, не обладали выдержкой и твердостью воли. В этом-то недостатке энергии характера и заключалась коренная причина тех неудач и горьких разочарований, которые оба поэта испытали в своей жизни; но, разумеется, им трудно было сознаться в своей слабости, и в несчастиях своих они видели только гонение судьбы {Впрочем, Батюшков вообще хорошо понимал свой характер, он не пощадил себя в том замечательном очерке своей личности, который набросал в своей записной книжке 1817 года (Соч., т. II, с. 347-350). Тут он указывает на двойственность своего характера, на отсутствие в нем цельности, а эта особенность не есть ли прямое следствие слабого развития воли?}. Прибавим еще одну важную черту, которою характеризуется их жизнь. Обиды, испытанные Тассом, довели его до состояния мрачной меланхолии, граничившей почти с помешательством; у Батюшкова также бывали тяжелые периоды хандры, которая - казалось ему - должна разрешиться потерею сознания {Соч., т. II, с. 51.}; воспоминание о горестной участи матери, быть может, подсказывало ему это предчувствие.
Таковы были внутренние основы тех глубоких симпатий, которые привязывали нашего поэта к Тассу и в силу которых легендарный образ "певца Иерусалима" с ранних лет стал избранником его сердца и излюбленным предметом его вдохновения. Его юношеское послание к Тассу было написано в ту пору его жизни, когда житейские невзгоды впервые проникли в радостный мир его надежд и поколебали его веру в светлое будущее; неопытный поэт не нашел в себе тогда достаточно творческих сил, чтоб изобразить страдания своего любимого героя. С тех пор он не только испытал глубокое разочарование в своих личных привязанностях, но и утратил веру в ту философию наслаждения, усомнился в том миросозерцании, которыми думал некогда определить свой жизненный путь. Влагая теперь в уста умирающего Тасса горькие воспоминания о прошлом, в котором он был и с тех пор,
От самой юности игралище людей,
...добыча злой судьбины,
Все горести узнал, всю бедность бытия, -
Батюшков действительно высказывал свои собственные сетования, те самые, которые мы так часто встречали в его письмах к друзьям; но что в переписке лишь случайно срывается с его пера, то в элегии облекается в цельный поэтический образ; что юноша поэт не сумел выразить в своих еще нескладных стихах, то теперь, в произведении зрелого художника, само собою сказывается высоким лирическим порывом, и личность несчастного Тасса, безвременно погибающего с надеждой найти успокоение лишь в ином, лучшем мире, является как бы воплощением усталой, измученной жизненною борьбой души нашего поэта, обращающей к Провидению свои последние упования.
"Кажется мне, лучшее мое произведение, - говорил Батюшков в письме к Вяземскому, извещая его, что пишет элегию на тему о смерти Тасса. {Соч., т. II, с. 428.} Несколько месяцев спустя, когда пьеса уже была отослана в печать, он опять повторял, что доволен своею элегией, но притом прибавлял: "Мне нравится более ход и план, нежели стихи". Смысл этой последней оговорки может быть объяснен из следующих слов поэта в одном из его тогдашних писем к Гнедичу: "Я смешон, по совести. Не похож ли я на слепого нищего, который, услышав прекрасного виртуоза на арфе, вдруг вздумал воспевать ему хвалу на волынке или балалайке? Виртуоз - Тасс, арфа - язык Италии его, нищий - я, а балалайка - язык наш, жестокий язык, что ни говори" {Там же, с. 457.}. Так сильно чувствовал Батюшков трудность освободиться от тех сухих, условных и нескладных форм, которыми еще опутывалась русская поэтическая речь в его время. В другом письме его, от 1816 года, находим еще одно важное признание в том же смысле: "Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостоверяю, что язык наш не терпит славянизмов, что верх искусства - похищать древние слова и давать им место в нашем языке" {Соч., т. II, с. 409, 410; ср.: там же, с. 70.}. Карамзину удалось привести в равновесие главные стихии нашего литературного языка - народную и церковно-славянскую - только в заключительном произведении своей литературной деятельности, в "Истории государства Российского"; из вышеуказанных слов Батюшкова видно, что он ставил себе ту же задачу, и в позднейших созданиях своего творчества он также достигает успешного ее решения: слова свободно льются с его пера; каждая мысль, каждый образ находят себе соответствующее живое, меткое и сильное выражение. В этом смысле есть правда в цветистых словах Блудова: "Слог Батюшкова можно сравнить с внутренностью жертвы в руках жреца: она еще вся трепещет жизнью и теплится ее жаром" {Мысли и замечания - в приложении к сочинению Е.П. Ковалевского: Граф Блудов и его время. 2-е изд., с. 267.}. Желание выработать себе свободный гармонический стих издавна составляло страстную мечту нашего поэта: к этому вопросу, в связи с языком, он постоянно возвращается в своих письмах. "Отгадайте, на что я начинаю сердиться? - писал он однажды Гнедичу еще в 1811 году. - На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы? Что за щ, что за ш, ший, щий, при, тры! О варвары! А писатели? Но Бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и на его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что слово, то блаженство" {Соч., т. III, с. 164, 165.}. Слова эти очень замечательны как указание, где, в какой словесности Батюшков искал образцов для гармонии стиха. Написанные почти в то же время подражания Петрарке и Касти представляют, между прочим, образцы того, как Батюшков старался передать по-русски звучные стихи итальянских поэтов: еще тогда опыты его выходили очень удачны, по крайней мере в отношении техники. В 1815 году, в статье об Ариосте и Тассе, он снова возвращается к мысли о музыкальности итальянского языка: "Язык гибкий, звучный, сладостный, язык, воспитанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии, среди бурь политических и потом при блестящем дворе Медицисов, язык, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными, - этот язык сделался способным принимать все виды и все формы. Он имеет характер, отличный от других новейших наречий и коренных языков, в которых менее или более приметна суровость, глухие или дикие звуки, медленность в выговоре и нечто принадлежащее Северу" {Соч., т. II, с. 149.}. Впрочем, это преклонение пред итальянским языком не доходило у Батюшкова до крайности: в 1817 году, вскоре по окончании "Умирающего Тасса", он заносит в свою записную книжку такое замечание: "Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию, и странно было бы русскому, или итальянцу, или англичанину писать для французского уха и наоборот. Гармония. Мужественная гармония не всегда прибегает к плавности. Я не знаю плавнее этих стихов:
На светло-голубом эфире
Златая плавала луна..
и пр.
и оды "Соловей" Державина. Но какая гармония в "Водопаде" и в оде на смерть Мещерского:
Глагол времен, металла звон!1
1 Соч., т. II, с. 340.
Очевидно, счастливые опыты
последних лет раскрыли нашему поэту в русском языке такие свойства и силы,
такой благодарный материал для создания гармонического стиха, каких он и не
подозревал прежде. Действительно, в своих исторических элегиях и вообще в поэтических
произведениях своей позднейшей поры Батюшков успел почти вполне преодолеть те
трудности, которые так долго смущали его. В этих пьесах поэтическая речь (в
смысле подбора слов) и в особенности гибкость, упругость и гармония стиха
достигают такого совершенства, какого еще не знала до тех пор русская поэзия2.
{2 Относительно выработки русского стиха важные заслуги Батюшкова, вместе с Жуковским, были верно оценены П.А. Плетневым еще в 1822 году. Приводим его слова:
"Чистота, свобода и гармония составляют главнейшие совершенства нового стихотворного языка нашего. Объясним каждое из них порознь. Употребление собственно русских слов и оборотов не дает еще полного понятия о чистоте нашего языка. Ему вредят, его обезображивают неправильные усечения слов, неверные в них ударения и неуместная смесь славянских слов с чистым русским наречием. До времен Жуковского и Батюшкова все наши стихотворцы более или менее подвержены были сему пороку: язык упрямился; мера и рифма часто смеялись над стихотворцем - и побеждали его. Под именем свободы языка здесь разумеется правильный ход всех слов периода, смотря по смыслу речи. Русский язык менее всех новейших языков стесняется расстановкою слов; однако ж по свойству понятий, выражаемых словами, и в нем надобно держаться естественного словотечения:
Живи - и тучи пробегали
Чтоб редко по водам твоим.
("Водопад", строфа 71).
Или:
Сия гробница скрыла
Затмившего мать лунный свет.
("На смерть графини Румянцовой", строфа 6).}
Всякий согласится, что подобная расстановка слов, при всех совершенствах поэзии, стихи делает запутанными. Жуковский и Батюшков показали прекрасные образцы, как надобно побеждать сии трудности и очищать дорогу течению мыслей. Это имело удивительные последствия. В нынешнее время произведения второклассных и, если угодно, третьеклассных поэтов носят на себе отпечаток легкости и приятности выражений. Их можно читать с удовольствием. Круг литературной деятельности распространился, и богатства вкуса умножились. - Наконец, несколько слов о гармонии. Прежде всего, надобно отличать гармонию от мелодии. Последняя легче достигается первой: она основывается на созвучии слов. Где подбор их удачен, слух не оскорбляется, нет для произношения трудности - там мелодия. Он еще имеет высшую степень, когда слиянием звуков определительно выражает какое-нибудь явление в природе и, подобно музыке, подражает ей. Гармония требует полноты звуков, смотря по объятности мысли, точно так, как статуя - определенных округлостей, соответственно величине своей. Маленькое сухощавое лицо, сколько бы черты его приятны ни были, всегда кажется нехорошим при большом туловище. Каждое чувство, каждая мысль поэта имеют свою объятность. Вкус не может математически определять ее, но чувствует, когда находит ее в стихах или уменьшенною, или преувеличенною, и говорит: здесь неполно, здесь растянуто. Сии стихотворческие тонкости могут быть наблюдаемы только поэтами. В числе первых надобно поставить Жуковского и Батюшкова" (Сочинения и переписка П.А. Плетнева. СПб., 1885, т. 1, с. 24-25).
Те же мысли неоднократно высказывал впоследствии Белинский, замечая притом, и совершенно справедливо, что стих именно Батюшкова, а не Жуковского, был ближайшим предшественником и подготовителем Пушкинского стиха (см., например, Соч Белинского, т. VI, с. 49 и т. VIII, с. 256).
По своей художнической натуре Батюшков не мог не чувствовать, что для своего времени он был первым мастером русского стиха, мастером, которому уступал место и даровитейший из его сверстников - Жуковский. В 1814 году, разбирая в письме к Тургеневу еще не напечатанное послание Жуковского к императору Александру, Батюшков замечал: "Я стану только выписывать дурные стихи; моя критика не нужна, он сам почувствует ошибки: у него чутье поэтическое" {Соч, т. III, с 300.}. Этим-то чутьем сам Константин Николаевич обладал в высшей степени и берег его как Божий дар, как последнее сокровище своей оскуделой радостями жизни. Жалуясь в одном из писем к Вяземскому из деревни в 1817 году на свои болезни, на утомление и на горе, "от которого нигде не уйдешь", он говорил: "Все вредит стихам и груди моей" и прибавлял: "Бог с нею, - только бы хорошо писалось!" {Там же, с. 429.} Чувствуя в Жуковском и в самом себе действительное призвание поэта, он строго отличал себя и своего друга от остальных деятелей словесности. "Во всем согласен с тобою насчет поэзии, - писал он ему однажды. - Мы смотрим на нее с надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть людей принимают за поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы" {Там же, с. 356.}. Поэтому-то даже к суждениям Гнедича Батюшков относился несколько критически, хотя и признавал за ним способность понимать прекрасное. Еще из ранних писем Константина Николаевича к другу его молодости видно, как горячо он спорил с ним о способах поэтического выражения. Когда Гнедич сообщил Батюшкову свои замечания на "Умирающего Тасса", Константин Николаевич с жаром отстаивал те стихи, которые подсказало ему вдохновение. "Под небом Италии моей, именно моей, - писал он. - У Монти, у Петрарка я это живьем взял, quel benedetto моей! Вообще итальянцы, говоря об Италии, прибавляют моя. Они любят ее, как любовницу. Если это ошибка против языка, то беру на совесть". Или еще: "Изрытые пучины и гром не умолкал - оставь. Это слова самого Масса в одной его канцоне; он знал что говорил о себе" {Соч., т. III, с. 455, 456.}. Твердая уверенность самосознающего таланта слышна в этих словах: так же как "певец Иерусалима", Батюшков знал, что писал, когда создавал своего "Умирающего Тасса"; он чувствовал теперь всю полноту своих творческих сил и понимал, что его созревший талант идет по верному пути и имеет право на общественное признание.
Того удовлетворения, какое испытывает художник в момент творчества, Батюшков, быть может, никогда не переживал сильнее, чем в то время, когда в деревенском уединении оканчивал "Гезиода и Омира", писал "Тасса" и исправлял свои прежние пьесы для приготовляемого издания. К этому непродолжительному, но плодотворному периоду его творческой деятельности вполне применяется то, что в своей статье о поэте и поэзии он говорит вообще о "сладостных минутах вдохновения и очарования поэтического" {Там же, т. II, с. 118, 119.}. Забывая домашние беспокойства, пренебрегая своими болезнями, он всецело и с горячим увлечением отдавался художественному труду. Он не только оканчивал и отделывал задуманное и написанное прежде, - темы и планы новых произведений беспрестанно рождались в его голове: то собирался он написать сказку "Бальядера", то желал изобразить Овидия в Скифии - "предмет для элегии счастливее самого Тасса", то составлял планы для поэм: "Рюрик", "Русалка" {Там же, т. III, с. 417, 439, 453, 454, 456.}. В бумагах князя П.А. Вяземского сохранился набросок плана для "Русалки", а в одном из тогдашних писем Батюшкова к Гнедичу встречается просьба прислать сборники русских сказок и былин, которые понадобились нашему поэту, без сомнения, как материал для задуманного произведения. Судя по этим указаниям, можно догадываться, что Константин Николаевич имел в виду написать поэму из русского сказочного мира, вроде той, какую вскоре дал русской литературе великий преемник нашего поэта в своем "Руслане". Но все это осталось в одних предположениях. Печатание сборника сочинений Батюшкова уже было начато в Петербурге в январе 1817 года {В письме к Гнедичу от 27 февраля 1817 г., из деревни, Батюшков говорит о рукописи своих стихотворений как об отосланной уже в Петербург (Соч., т. III, с. 419).}, и даже пьесы, оконченные им в марте и апреле ("Переход через Рейн", "Умирающий Тасс"), могли быть включены в него только как дополнение. Поэтому, прежде даже, чем печатаемый сборник вышел в свет, Константин Николаевич стал думать о том, что со временем предпримет новое издание своих стихов, сделает в них новые исправления и к прежним пьесам присоединит то, что будет им вновь написано {Соч., т III, с. 438.}. Как бы то ни было, но поэтический труд среди деревенского уединения доставил Батюшкову высокое наслаждение и, казалось, снова мирил его с жизнью. Ему стала мила даже та простая сельская обстановка, в которой совершался этот труд, и в мае 1817 года он писал Гнедичу: "Я убрал в саду беседку по моему вкусу, в первый раз в жизни. Это меня так веселит, что я не отхожу от письменного столика, и веришь ли? - целые часы, целые сутки просиживаю, руки сложа накрест" {Там же, с. 441.}. Это тихое и мирное настроение, возвратившееся в душу поэта под влиянием вдохновения, ясно выразилось в небольшой, изящной пьесе "Беседка муз" {Там же, т. 1,с. 273, 274.}, которую он написал тогда и еще успел отправить в Петербург для включения в печатаемый сборник. Поэт умолял муз:
...душе усталой от сует
Отдать любовь утраченну к искусствам,
Веселость ясную первоначальных лет
И свежесть - вянущим бесперестанно чувствам.
Пускай забот свинцовый груз
В реке забвения потонет,
И время жадное в сей тайной сени муз
Любимца их не тронет.
Пускай и в сединах, но с бодрою душой,
Беспечен, как дитя всегда беспечных граций,
Он некогда придет вздохнуть в сени густой
Своих черемух и акаций.