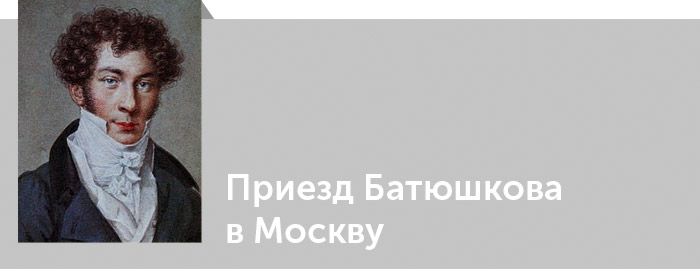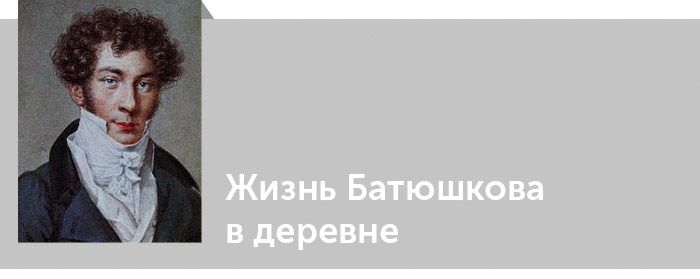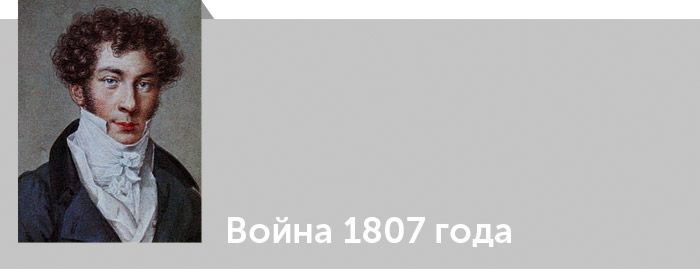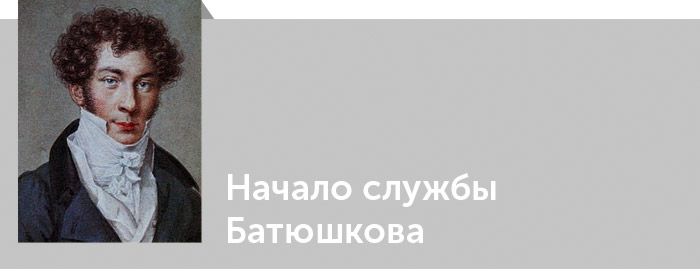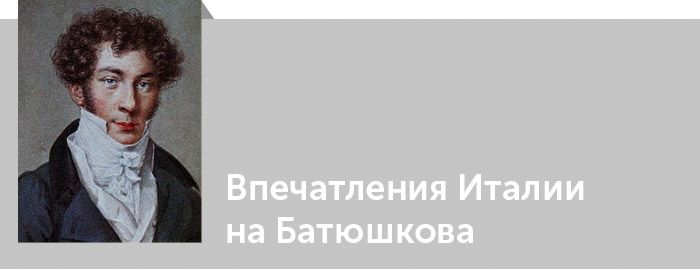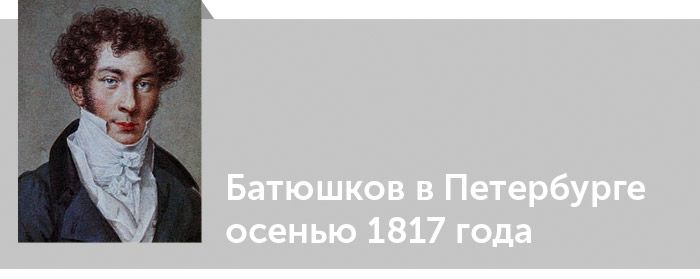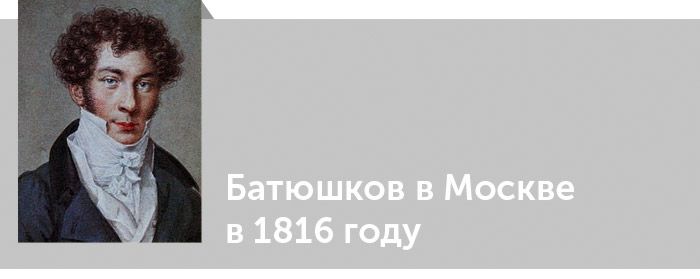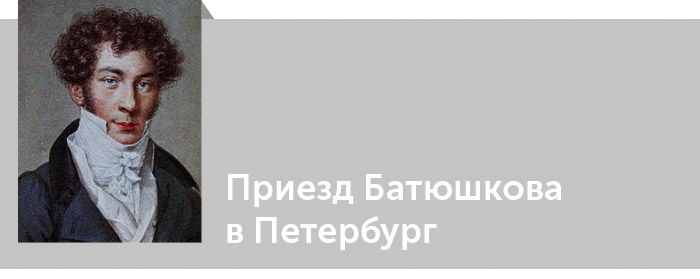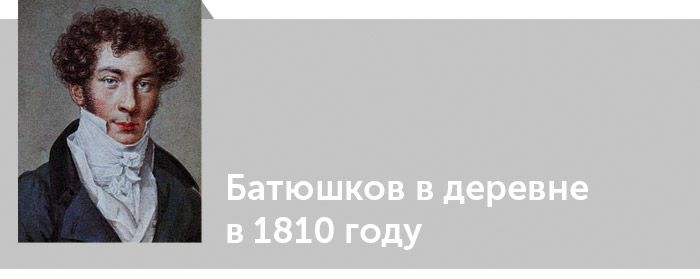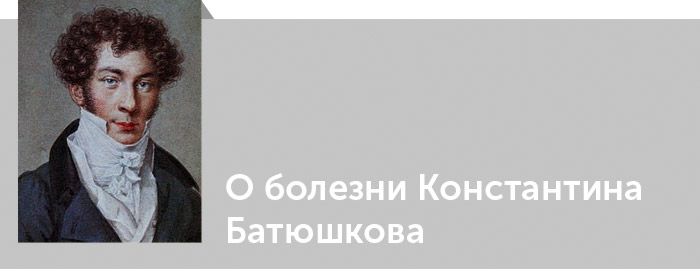Батюшков, его жизнь и сочинения. Батюшков в Петербурге в 1813 году
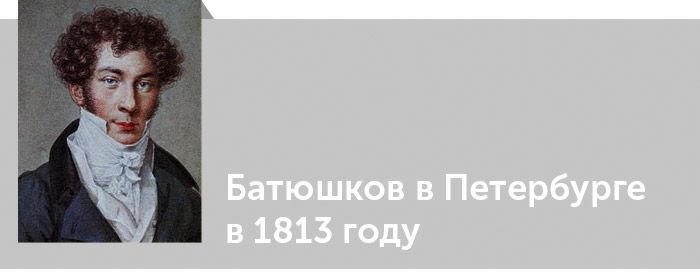
Глава VIII
Батюшков в Петербурге в 1813 году. - Впечатления Отечественной войны в Петербурге. - Отъезд Батюшкова за границу. Участие в военных действиях. - Вступление в Париж. - Заграничные впечатления Батюшкова. - Возвращение его в Петербург. - Культурные вопросы в русском обществе в 1814 году и отношение к ним Батюшкова. - А.Ф. Фурман
Когда в феврале 1813 года Батюшков приехал в Петербург, он застал там общество в напряженном состоянии, под впечатлением известий с места военных действий. Но это было уже не смутное, полное неизвестности волнение прошлого года, а бодрое ожидание грядущих событий, в благополучный исход которых легко верилось после того, как русский народ с таким единодушием, с такою энергией и беззаветным самоотвержением выдержал и одолел жестокую грозу неприятельского нашествия.
Петербург, однако, не видел врага лицом к лицу, и течение общественной жизни не было в нем прервано и потрясено так глубоко, как внутри России. Поэтому Константину Николаевичу показалось даже на первый взгляд, что на берегах Невы и теперь, после великих испытаний народного духа, все идет по-старому, и он уже готов был жалеть о тяжелых днях лихорадочной жизни в Нижнем Новгороде {Соч., т III, с, 219, 220.}. Его восторженный патриотизм все еще требовал удовлетворения, и в своем послании к Д.В. Дашкову, в это время написанном, на предложение возвратиться к прежним мотивам свой поэзии он отвечал следующими воодушевленными строками:
...пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь,
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, -
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!
Было бы, однако, несправедливо думать, что в Петербурге мало понимали внутреннее значение великой борьбы, славно законченной в пределах России и теперь смело перенесенной за ее рубежи, чтобы довершить поражение врага, покушающегося наложить свою тяжелую руку на независимость нашего отечества. Напротив того, такое понимание Батюшков мог встретить в людях особенно ему близких. Так, Оленин, давний враг галломании, не только выражал горячее негодование против недостойного просвещенной нации грабительства, которое дозволяли себе наполеоновские войска (негодование хотя и вполне справедливое и законное, но вскоре ставшее общим местом, подобно толкам о слепой подражательности французам), но и умел ценить самоотвержение, проявленное простыми русскими людьми в борьбе с врагом.
Еще глубже взглянул на дело А.И. Тургенев: еще в исходе октября 1812 года он написал князю Вяземскому замечательное письмо, в котором высказал свое воззрение на тогдашнее положение России и на ближайшие следствия войны, в ту пору едва начинавшей получать благоприятное для нас направление. "Война, сделавшись национальной, - писал Тургенев, - приняла теперь оборот, который должен кончиться торжеством Севера и блистательным отмщением за бесполезные злодейства и преступления южных варваров... Постоянство и решительность правительства, готовность и благоразумие народа и патриотизм его... все сие успокаивает нас насчет будущего, и если мы совершенно откажемся от эгоизма и решимся действовать для младших братьев и детей наших и в собственных настоящих делах видеть только одно отдаленное счастье грядущего поколения, то частные неудачи не остановят нас на нашем поприще. Беспрестанные лишения и несчастья милых ближних не погрузят нас в совершенное отчаяние, и мы преднасладимся будущим и, по моему уверению, весьма близким воскресением нашего отечества. Близким почитаю я его потому, что нам досталось играть последний акт в европейской трагедии, после которого автор ее должен быть непременно освистан... Сильное сие потрясение России освежит и подкрепит силы наши и принесет нам такую пользу, которой мы при начале войны совсем не ожидали. Напротив, мы страшились последствий от сей войны, совершенно противных тем, какие мы теперь видим. Отношения помещиков и крестьян (необходимое условие нашего теперешнего гражданского благоустройства) не только не разорваны, но еще более утвердились. Покушения с сей стороны наших врагов совершенно не удались им, и мы должны неудачу их почитать блистательнейшею победой, не войсками нашими, но самим народом одержанною. Последствия сей победы невозможно исчислить. Они обратятся в пользу обоих состояний. Связи их утвердятся благодарностью и уважением, с одной стороны, и уверенностью в собственной пользе - с другой" {Рус. Архив, 1866, с. 251, 252.}. Если Оленин основание наших успехов в борьбе с Наполеоном видел в искренней религиозности русского народа, "в природной простой нравственности, суемудрием не искаженной, в верности к царю не по умствованию, но по закону Божию" {Письмо Оленина к архимандриту Филарету. - Чтения в Беседе любителей русского слова. Чт. 13-е, с. 14.}, и признавал общественный строй России не нуждающимся ни в каких изменениях, то в рассуждениях Тургенева, напротив того, сквозит мысль о необходимости улучшить этот строй, и прежде всего позаботиться о быте крепостных людей. Таковы были идеи, на которые наводило мыслящие умы народное движение 1812 года; мы увидим вскоре, что эти стремления не остались без влияния на Батюшкова. В связи с возбуждением общественной мысли состоялось в 1812 году основание первого в России неофициального политического журнала: с октября месяца стал выходить в Петербурге "Сын Отечества". Издаваемый Н.И. Гречем, журнал пользовался особенным покровительством А.Н. Оленина и С.С. Уварова. Обращая в вышеупомянутом письме внимание Вяземского на это издание, Тургенев говорил, что назначение журнала - "помещать все, что может ободрить дух народа и познакомить его с самим собою". "Какой народ! - прибавил Тургенев. - Какой патриотизм и какое благоразумие! Сколько примеров высокого чувства своего достоинства и неограниченной преданности и любви к отечеству!" {Рус. Архив, 1866, с. 253.} "Сын Отечества" действительно нередко сообщал подобные примеры на своих страницах и вообще усердно служил своей задаче. Здесь, между прочим, печатались в 1813 и следующих годах те "Письма из Москвы в Нижний Новгород" И.М. Муравьева-Апостола, основные мысли которых, изустно им развиваемые в нижегородских беседах, так увлекали тогда Константина Николаевича.
Болезнь Бахметева долго испытывала терпение нашего поэта: в ожидании приезда "своего" генерала Батюшков сидел в Петербурге без дела и в неизвестности о том, что его ожидает. Только высочайшим приказом 29 марта 1813 года был он принят в военную службу с зачислением в Рыльский пехотный полк и с назначением в адъютанты к Бахметеву; но еще 30 июня оставался в ожидании его приезда и уже начинал жаловаться на то, что потерял в бездействии целую кампанию {Соч., т. III, с. 224, 231.}. Невольный досуг свой он наполнял чтением, между прочим, немецких книг, без сомнения с целью освежить в своей памяти знание той страны, где теперь шла война и куда ему предстояло ехать. Наконец, в начале июля, приезд Бахметева выяснил, что состояние его здоровья не позволит ему принять участие в военных действиях, и он дал Константину Николаевичу разрешение ехать без него в действующую армию.
Таким образом, только в исходе июля Батюшков оставил Петербург и через Вильну, Варшаву, Силезию и Прагу достиг Дрездена, где тогда находилась русcкая главная квартира. Здесь он представился главнокомандующему графу Витгенштейну и был отправлен им к генералу Н.Н. Раевскому, к которому имел рекомендацию от Бахметева {Соч. Д.В. Давыдова, 4-е изд., ч. 1, с. 21: Замечания на некрологию Н.Н. Раевского.}. Раевский оставил его при себе за адъютанта, и с ним Батюшков совершил кампании 1813 и 1814 годов.
В первый раз Константин Николаевич был в огне во время небольшого авангардного дела под Доной, в виду Дрездена, причем едва не попался в плен {Известие из письма Д.В. Дашкова к Д.Н. Блудову, от 15 октября 1813 г.; см. Отчет Имп. Публ. Библиотеки за 1887 г., с. 221.}, а затем участвовать в жарком бою близ Теплица (15 августа). Движение союзных армий из Богемии в Саксонию сопровождалось постоянными столкновениями с неприятелем, пока наконец не произошло 4 октября генеральное сражение под Лейпцигом. Здесь Батюшков находился подле Раевского, когда последний был ранен, и здесь же убит был друг нашего поэта, Петин. Рана Раевского оказалась не слишком опасною, и уже 5-го числа он, к радости Батюшкова, снова сел на коня; но смерть Петина была для Константина Николаевича тяжким ударом. "Петин, добрый, милый товарищ трех походов, прекрасный молодой человек, скажу более: редкий юноша!" Так писал Батюшков Гнедичу вскоре после его смерти. "Эта весть меня расстроила совершенно и надолго. На левой руке от батарей, вдали была кирка. Там погребен Петин, там поклонился я свежей могиле и просил со слезами пастора, чтобы он поберег прах моего товарища" {Соч., т. III, с. 236, 237.}.
Необходимость лечить рану заставила, однако, Раевского ехать в Веймар, куда последовал за ним и Батюшков. Здесь и во Франкфурте-на-Майне прожил он около двух месяцев. Во Франкфурте в это время было сосредоточено, под заведованием известного барона Штейна, управление землями, занятыми нашими войсками в Германии. При Штейне состоял Николай Иванович Тургенев, давно знакомый с Батюшковым и в свою очередь познакомивший его с Ал. Ив. Михайловским-Данилевским, своим сожителем по квартире. Батюшков посещал их почти каждый вечер, и время до поздней ночи проходило у них в оживленной и разнообразной беседе, для которой текущие события давали столь богатый материал {Рукописный журнал А. И. Михайловского-Данилевского в Имп. Публ. Библиотеке, 1813 год, с. 231--233.}. Только в декабре месяце Батюшков с Раевским возвратились в действующую армию, когда главная квартира ее находилась уже во Фрейбурге, в Брейзгау. В половине января отряд Раевского блокировал крепость Бельфор в южном Альзасе, затем перешел в Шампань, участвовал в жарком деле под Арсиссюр-Об и других сражениях, и, наконец, в решительном бою под стенами Парижа. "С высоты Монтреля, - рассказывает Константин Николаевич, - я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, влево Венсен, там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы подвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллерией; еще минута, и Париж засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. "Слава Богу! Мы увидели Париж со шпагою в руках!" "Мы отомстили за Москву!" - повторяли солдаты, перевязывая раны свои. 19 марта император Александр, король Прусский и вожди союзных армий поскакали в Париж. В свите государя находился и Раевский со своим адъютантом. "Ура гремело со всех сторон. Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо!" {Соч., т. III, с. 251, 252.}
Понятно, что военная одиссея нашего поэта не требовала подробного рассказа, хотя сам он, в письмах своих к Гнедичу и сестре, описал ее очень живо и последовательно. Мелкий офицер огромного войска, не обладавший никакими выдающимися военными талантами, он, конечно, не имел никакой самостоятельной роли в тогдашних событиях и только исполнял честно свой долг, и то не как воин по призванию, а как гражданин-патриот, который, говоря его словами, по своей воле "на деле всегда был готов пролить кровь свою за отечество" {Там же, с. 217.}. Патриотическое воодушевление, пробудившееся в нем при известии, что родной Москве угрожает неприятельское вторжение, не покидало его в течение похода до самого Парижа и придавало бодрость и твердость его духу. "Ни труды, ни грязь, ни дороговизна, ни малое здоровье не заставляют меня жалеть о Петербурге, и я вечно буду благодарен Бахметеву за то, что он мне доставил случай быть здесь" {Там же, с. 234, 235.}. Так писал Батюшков из-под Теплица, вскоре по приезде в армию, и то же воодушевление слышится в следующих радостных строках, писанных уже из самой столицы Франции. "Поверите ли? Мы, которые участвовали во всех важных происшествиях, мы едва ли до сих пор верим, что Наполеон исчез, что Париж наш, что Людовик на троне и что сумасшедшие соотечественники Монтескье, Расина, Фенелона, Робеспьера, Кутона, Дантона и Наполеона поют по улицам: "Vive Henri Quatre, vive ce roi vaIIIant!" Такие чудеса превосходят всякое понятие. И в какое короткое время и с какими странными подробностями, с каким кровопролитием, с какою легкостью и легкомыслием! Чудны дела Твоя, Господи!" {Соч., т. III, с. 238.}
Но поэт, литератор Батюшков оставался им и во время похода. Среди тягостей бивачной жизни, среди боевых столкновений мысль его нередко обращалась к предметам мирной образованности, наблюдательность и фантазия увлекались впечатлениями совершенно иной, не военной сферы; даже самые события войны и ее обстановка занимали его не столько по своему практическому значению и достигнутым результатам, а как пестрые, живописные картины, которые словно чудесною силою развертывались перед его поэтическим взором {Впоследствии Батюшков намеревался посвятить этому предмету особый литературный этюд (Соч., т. II, с. 288, примеч.); ср. также боевые сцены в элегии "Переход через Рейн" (Соч. , т. I, с. 179), описание боевых драк в послании к Н.М. Муравьеву (там же, с. 270, 271), воспоминание о русском казаке в Париже в повести "Странствователь и домосед" (там же, с. 216) и заметки о боевых сценах у Тасса (там же, т. II, с. 152--155).}; различные типы военных людей, от смешного мономана военного дела Кроссара до хладнокровного героя Раевского, служили ему предметами художнического наблюдения {Ср. заметки о Раевском, Кроссаре и Писареве в записной книжке 1817 г. и в письмах с похода (Соч., т. II, с. 327-331,356,357; т. III, с. 234-244).}, как прежде, в Нижнем Новгороде, лица внезапно обеднелых беглецов московских.
Пребывание за границей имело для Батюшкова большое образовательное значение. Подготовленный к знакомству с Западною Европой "Письмами русского путешественника", поэт наш, подобно Карамзину, с уважением смотрел на ее старую культуру и также старался уловить черты умственной жизни в посещенных им странах, хотя военные обстоятельства того времени представляли не много удобств для этих мирных наблюдений. Воспитанный на французский лад, Константин Николаевич в ранней юности приобрел некоторое предубеждение против немецкой литературы и мало изучал ее. Пребывание в Германии отчасти содействовало к разъяснению этого предрассудка. Проведя довольно долгое время в Веймаре, он не мог не вспомнить, что этот город, "германские Афины", как его называли тогда, был местопребыванием главных корифеев новой немецкой словесности. Гуляя по веймарскому саду, Батюшков думал, что "здесь Гете мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте; здесь Виланд обдумывал план "Оберона" и летал мыслью в области воображения; под сими вязами и кипарисами великие творцы Германии любили отдыхать от трудов своих" {Соч., т. II, с. 240. Предположение Батюшкова не совсем верно относительно Гете: "Вертер" написан им не в Веймаре, а во Франкфурте.}. Под этими впечатлениями Батюшков спешил сообщить Гнедичу о своей "новой страсти" - к немецкой литературе. Особенно полюбился ему теперь Шиллер, над сочинениями которого он прежде посмеивался; его "Дон-Карлоса" наш поэт видел на веймарском театре, и это блистательное произведение, так ярко выражающее высокий идеализм Шиллера и человечность его сердца, очень ему понравилось {Карамзин также видел "Дон-Карлоса" в Берлине и в "Письмах русского путешественника", в письме от 4 июля 1789 г., высказал свое мнение об этом произведении.}. Изучение Шиллера Батюшков продолжал и впоследствии. Сам быт немецкий показался Константину Николаевичу очень привлекательным; простота мелкой провинциальной жизни представлялась ему остатком древней патриархальности; в любви немцев к памятникам своей старины он находил "знак доброго сердца, уважение к законам, к нравам и обычаям предков" и противополагал эту любовь пренебрежению французов к своему прошлому, видя в том следствие "легкомыслия, суетности и жестокого презрения ко всему, что не может насытить корыстолюбия, отца пороков" {Соч., т. II, с. 62; ср. т. I, с. 177.}.
Новое увлечение Батюшкова было так велико, что он "сходил с ума" даже по "Луизе", известной идиллической поэме Фосса, и писал Гнедичу: "Надобно читать ее в оригинале и здесь в Германии" {Там же, т. III, с. 240.}. Сама по себе идиллия Фосса - произведение не высокого поэтического достоинства; у автора ее не было способности к самобытному творчеству, но он был отличный знаток классической древности и хорошо понимал наивное миросозерцание Гомера и Феокрита; в своей поэме он сделал попытку изобразить с античною простотой филистерские нравы сельских немецких пасторов; плавный стих и естественность изображения составляют едва ли не единственные достоинства его произведения, причем, однако, натурализм его доходит нередко до пошлости. Отзыв Батюшкова о "Луизе" тем не менее очень любопытен, как знамение его тогдашних симпатий, и главным образом потому, что он совпадает с суждением одного из лиц, мнения которого особенно ценились Константином Николаевичем. В одном из своих писем из Москвы в Нижний Новгород И.М. Муравьев-Апостол проводит параллель между французскою словесностью и другими литературами Западной Европы и, между прочим, говорит: "Ума много, а изящной природы во всей очаровательной ее простоте нет ни в одном (французском писателе). Везде натяжка: нигде нет цветов, которые мы видим в природе; наблюдатель строгий тотчас догадается, что картина простой сельской жизни писалась в парижском будуаре, а Феокритовы пастухи срисованы в опере с танцовщиков. И быть иначе не может! Французы осуждены писать в одном Париже; вне столицы им не дозволяется иметь ни вкуса, ни дарований: то как же им познакомиться с природою, которой ничего нет противопо-ложнее, как большие города. Напротив того, в Немецкой земле писатели редко живут в столицах; большая часть их рассеяна по маленьким городам, а некоторые из них целую жизнь свою провели в деревнях; зато они знакомее с природою и зато, между тем как Фосс начертал прелестную "Луизу" свою в Эйтине, подражатель приторного Флориана в Париже, смотря в окно на грязную улицу, описывает испещренные цветами андалузские луга или пышно рисует цепь Пиренейских гор, глядя с чердака на Монмартр". Мы уже знаем, какое сильное впечатление производили на Батюшкова в Нижнем Новгороде споры Муравьева с исключительными поклонниками французской словесности, и потому можем с уверенностью предположить, что под этим влиянием сложилось у нашего поэта суждение о "Луизе", да и вообще произошел поворот в его мнениях о немецкой литературе {Письмо Муравьева, из которого приведен отрывок, напечатано в "Сыне Отечества" 1813 г., No XLIV; этот нумер появился в Петербурге 30 октября, в тот самый день, когда Батюшков писал о "Луизе" Гнедичу из Веймара; следовательно, он мог иметь в виду только устное мнение Муравьева, а не высказанное в печати.}. В дальнейшем своем развитии такой поворот должен был расширить и сделать более правильными эстетические понятия Константина Николаевича, что и заметно по его позднейшим произведениям.
Итак, даже кратковременное пребывание в Германии прошло не бесследно для умственной жизни поэта. Точно так же оставило на нем заметный след и посещение Франции. Он ступил на ее почву еще полный негодования на те жестокости и варварство, которыми ознаменовалось в России нашествие Великой армии. Ему казалось тогда, что революция и тирания Наполеона совершенно исказили народный характер французов. Такие заключения были понятны и возможны в виду "пылающей Москвы". Но дальнейший ход событий и состояние Франции в 1814 году заставили Батюшкова думать несколько иначе. В первом же письме из Парижа, описав торжественное вступление туда союзных войск, Константин Николаевич прибавлял: "Все ожидают мира: дай Бог! Мы все желаем того. Выстрелы надоели, а более всего плач и жалобы несчастных жителей, которые вовсе разорены по большим дорогам" {Соч., т III, с. 256, ср. т. II, с 63.}.
Так, мало-помалу, чувство негодования стало сменяться у Батюшкова чувством жалости к французам. Не будучи проницательным политиком, он разделял общераспространенное тогда мнение, что Франция легко может возвратиться к старому порядку, если не вполне, то в значительной степени, и, во всяком случае, может успокоиться и не подвергнется новым потрясениям. При быстром повороте общественного мнения в побежденной стране воображение нашего поэта поражалось видом черни парижской "ветреной и неблагодарной", которая еще вчера славила императора, а нынче призывала спасителей - русских и требовала возвращения Бурбонов; и под этим впечатлением Батюшков применял к парижанам слова германского поэта: "О, чудесный народ парижский, народ достойный сожаленья и смеха! {Там же, с. 254.}
Ход нашего собственного просвещения был таков, что образованный русский человек начала нынешнего века, даже вооружившись против пороков французской культуры, оказывался заранее подкупленным в ее пользу. Русские офицеры, вступившие в Париж в 1814 году, мало-мальски образованные, увлекались блеском, внешним изяществом и свободой парижской жизни. Более просвещенные, или те, в которых таилось особое дарование, успевали вынести отсюда новые залоги для своего развития и дальнейшей деятельности. В таком положении оказался и Константин Николаевич. Едва вступив в пределы Франции, он уже почувствовал себя, так сказать, под влиянием той атмосферы, из которой было почерпнуто его образование. Еще во время похода по Лотарингии он счел долгом посетить замок маркизы дю-Шатле, приятельницы Вольтера, давшей ему здесь убежище в лучшие, трудовые годы его жизни, когда он занимался философией Ньютона, написал "Альзиру" и "Меропу", подготовлял "Век Людовика XIV" и задумывал "Essai sur les moeurs". В самом Париже, после нескольких дней отдыха, необходимого по окончании тяжелого похода, Константин Николаевич отдается столичным развлечениям и еще более - интересам литературы и искусства. Он любуется парижскими памятниками, посещает театры, осматривает музеи, закупает книги, присутствует в том знаменитом заседании Французской академии, где был император Александр и где, между прочим, Вильмен говорил ему приветствие и читал при нем отрывки из своего рассуждения о критике. Трагик Тальма и комик Брюне, г-жа Жорж и ее соперница г-жа Дюшенуа попеременно приводят Батюшкова в восхищение. В залах Лувра в то время были выставлены не только произведения искусства, в течение нескольких столетий собранные французскими королями, но и многие художественные сокровища, вывезенные Наполеоном из чужестранных, преимущественно итальянских музеев в качестве военной добычи; это обстоятельство делало тогдашний Париж художественным центром Европы, и благодаря тому Батюшкову удалось видеть здесь особенно много произведений искусства нового и древнего, в том числе подлинную статую Аполлона Бельведерского; она привела его в особенный восторг, который он высказал в письме к Дашкову живописным выражением: "Это не мрамор - Бог!" Оно было впоследствии усвоено Пушкиным. "Я чаще захожу в музей, - прибавляет Константин Николаевич, - единственно затем, чтобы взглянуть на Аполлона, и как от беседы мудрого мужа и милой, умной женщины, по словам нашего поэта, лучшим возвращаюсь" {Соч., т. III, с. 263. Под "нашим поэтом" Батюшков разумел И.И. Дмитриева, у которого есть почти такой стих в письме к Державину на случай кончины его первой супруги.}. Вообще посещение Парижа укрепило и развило в Батюшкове любовь к пластическим искусствам, зародыши которой таились в нем и прежде.
Социальные вопросы никогда не привлекали к себе особенного внимания Батюшкова; мало занимался он ими и за границей, но сотаться вполне в стороне от них он не мог по самим обстоятельствам времени. Ожидаемое замирение Европы выдвигало их вперед. Просвещенные русские люди питали надежду, что император Александр по окончании войны, столь счастливо завершенной, займется внутренним благоустройством России и в особенности обеспечением положения крепостного населения. Мы видели из письма А.И. Тургенева, что в его уме этот вопрос возник в самую горячую пору войны 1812 года; улучшение быта крестьян казалось ему делом справедливости после того, как народ обнаружил в борьбе с нашествием врагов беззаветное самоотвержение и самопожертвование. Еще глубже занимала та же мысль другого Тургенева, дельного и умного Николая Ивановича. После Франкфурта Батюшков встретился с ним опять во Фрейбурге, когда там находилась главная квартира, и снова провел с ним "несколько приятных дней" {Соч., т. III, с. 247.}. В Париже они также были в одно время и, нет сомнения, не раз толковали о русских делах, об общественных потребностях отечества. Весьма вероятно, что под впечатлением бесед с этим горячим поборником идеи об освобождении крестьян Батюшков написал тогда "прекрасное четверостишие, в котором, обращаясь к императору Александру, говорил, что после окончания славной войны, освободившей Европу, призван он Провидением довершить славу свою и обессмертить свое царствование освобождением Русского народа". Так свидетельствует князь П.А. Вяземский {Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. VII, с. 418.}. К сожалению, стихи эти не сохранились.
После двухмесячного пребывания в столице Франции, утомленный обилием самых разнообразных впечатлений и к довершению всего перенесший в Париже новый приступ болезни, Батюшков почувствовал горячее желание возвратиться на родину; он уже лелеял мысль опять соединиться с друзьями, чтобы в мирной беседе поделиться с ними тем, что пережил и испытал в течение десяти месяцев своего отсутствия. Однако для возвращения он не избрал кратчайшего пути через Германию, а решился отправиться морем, посетив перед тем Лондон. Раньше Константина Николаевича туда же отправился Северин, также бывший в Париже. Пребывание Батюшкова в Англии было непродолжительно: он ограничился кратким осмотром Лондона и его окрестностей, из которых особенно понравился ему Ричмонд, со своим великолепным парком, и затем из Гарича отплыл к берегам Швеции. Пред отходом судна он посетил гаричскую церковь и вынес "глубокое и сладостное впечатление" от простоты служения, набожности и сосредоточенного умиления молящихся. "Никогда, - писал он после, - религия и священные обряды ее не казались мне столь пленительными" {Соч., т. III, с. 277.}. Для человека, воспитанного в свободомыслии, это чувство было новым и оно глубоко запало в его душу. Как многие люди его поколения, свидетели великого политического переворота, счастливый исход которого они приписывали прямому участию Провидения, Батюшков испытал сильное возбуждение давно заснувшего в нем религиозного чувства, и описанный случай едва ли не был первым проявлением такого настроения. Самое плавание до Готенбурга совершилось вполне благополучно, но светлое настроение Константина Николаевича, не покидавшее его ни в походе, ни в бытность в Париже, уже исчезло, и, оставшись один сам с собою, в унылой обстановке морского плавания, он отдался воспоминаниям о понесенных им утратах, в эти-то минуты грустного раздумья его посетило вдохновение, внушившее ему исполненные глубокого, сосредоточенного чувства стихи в память друга юных лет, Петина {Известную элегию "Тень друга".}.
Оплакивая его, поэт вместе с тем оплакивал и свою молодость, которой приходил конец.
Проехав из Готенбурга в Стокгольм сухим путем, Батюшков имел удовольствие найти здесь Д.Н. Блудова. Блудов с 1812 года состоял советником нашего посольства при шведском дворе и за отсутствием посланника управлял миссией, он скучал в шведской столице и теперь, по прибытии вновь назначенного посланника (барона Г.А. Строганова), спешил покинуть ее {Ковалевский Граф Блудов и его время, 2-е изд., с. 84-89, Рус. Архив, 1879, кн. III, с. 481-485. Из воспоминаний графини А. Д. Блудовой.}. Батюшкову Швеция тоже показалась страною "не пленительною". Друзья решили ехать вместе и, переправившись в Або, прибыли через Финляндию в Петербург в начале июля.
Батюшков остановился у Е.Ф. Муравьевой, которая жила теперь в Петербурге и встретила племянника с прежним радушием. О встрече своей с нею и приятелями он вспоминал потом в одном из своих стихотворений.
Я сам, друзья мои, дань сердца
заплатил,
Когда волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины
Увидел наконец Адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете1.
1 Соч., т. I, с. 215. Е. Ф. Муравьева жила на Фонтанке, близ Аничкова моста.
Приезд Батюшкова предшествовал несколькими днями прибытию императора Александра. Восторженный прием ожидал возвращение миротворца Европы в столице. Посещение государем Павловска императрица Мария Феодоровна пожелала ознаменовать особым праздником, который и состоялся 27 июля. Устройство праздника и главным образом приготовление хоров и лирических сцен, которые предполагалось исполнить, императрица возложила на Ю.А. Нелединского-Мелецкого. Спешность дела и неудача первых попыток очень затрудняли его, и он чрезвычайно обрадовался приезду Батюшкова и поручил ему сочинение стихов. Еще не отдохнув с дороги и уже застигнутый нездоровьем, Константин Николаевич не мог отказаться от предложения. "Трудно было отговориться, - писал он по этому поводу, - старик так был ласков и убедителен. Я наморал, как умел... К несчастью, я спешил: то убавлял, то прибавлял по словам капельмейстера и, вопреки моему усердию, кажется, написал не очень удачно" {Соч., т. III, с. 289.}. Из писем императрицы к Нелединскому видно, что некоторые изменения делались не только по требованию капельмейстера, но и по ее собственным указаниям {Хроника недавней старины. Из архива кн. С. А. Оболенского-Нелединского-Мелецкого, с. 209, 210, ср. Рус. Архив, 1866, с. 886.}. Праздник, разумеется, имел полный успех, и, по словам поэта, актеры удачно исполнили сочиненные им сцены. Императрица пожаловала автору бриллиантовый перстень, который он тотчас же отослал своей младшей сестре {Соч. III, с. 289. Стихи, приготовленные Батюшковым к этому празднику, напечаны в Рус. Архиве, 1887, ч. II.}.
Свидание с сестрами после долгой разлуки, разумеется, было бы очень приятно Константину Николаевичу, однако по разным причинам он не спешил ехать в Хантоново. Внешним препятствием было то, что разрешить ему отпуск мог только генерал Бахметев, а его не было в Петербурге. Затем приехать в Хантоново к сестрам и не посетить отца в его Даниловском было бы невозможно, а между тем эта встреча, при натянутых отношениях между отцом и сыном, представлялась последнему не особенно приятною. Наконец, после разнообразных впечатлений заграничного похода, поэт наш как бы боялся одиночества в деревенской глуши Притом его занимали и тревожили соображения о его ближайшем будущем. Военная служба в мирное время не представляла для него привлекательность, и он готов был променять ее на гражданскую, но желал извлечь известные выгоды из своего пребывания в армии: приобретение их оправдало бы перед родными его вторичное поступление в военную службу. Еще в январе 1814 года он был награжден орденом Св. Анны второй степени за сражение под Лейпцигом, кроме того, он надеялся получить Владимирский крест и быть переведенным в гвардию, с повышением на два чина, что дало бы ему возможность перечислиться в гражданскую службу надворным советником. При виде тех наград, которые война доставила многим из его сослуживцев, в нем тоже пробудилось честолюбие, и он с лихорадочною тревогой ожидал для себя отличий, уже заранее огорчаясь возможностью неудачи, которую приписывал своей "неблагоприятной звезде" {Соч., т. III, с. 285.}. Если к тревогам этого рода прибавить, что Константин Николаевич нередко получал от сестры известия о беспрерывно возрастающем расстройстве их хозяйственных дел, то придется сказать, что в частных его обстоятельствах, по возвращении из похода, оказывалось немало поводов к волнениям. Будущее опять представлялось ему вполне не обеспеченным, и самая жизнь казалась лишенной цели Хандра, обычная спутница этих тревог, стала овладевать им через два-три месяца по возвращении в Петербург. "Разве ты не знаешь, - писал он Жуковскому в ноябре 1814 года, - что мне не сидится на месте, что я сделался совершенным калмыком с некоторого времени, и что приятелю твоему нужен "оседлок", как говорит Шишков, пристанище, где он мог бы собраться с духом и силами душевными и телесными, мог бы дышать свободнее в кругу таких людей, как ты, например?" Он жаловался, что на его долю достались "одни заботы житейские и горести душевные" и, рассказав вкратце свою заграничную одиссею, прибавлял о себе и своих друзьях следующее: "Мы подобны теперь гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мститель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурии, а меня - Скука". Под влиянием хандры Батюшков склонен был даже чувствовать сомнение в своем даровании: оно представлялось ему бесполезным и для общества, и для него самого {Соч., т. III, с. 302-304.}. Понятно, что гнет этой мысли действовал на него мучительно и еще более усиливал душевную тревогу нашего поэта. В сущности, однако, это сомнение свидетельствовало только о жизненности его таланта, который, очевидно, искал новых путей для своего развития.
Батюшков возвратился из славного похода, горячо воодушевленный теми великими событиями, которых был свидетелем и участником и которые так высоко подняли политическое и военное значение России. Что же застал он на родине? Могло ли удовлетворить его то общественное настроение, которое нашел он в Петербурге? Ответ на этот вопрос он дает в следующих стихах:
Казалось, небеса карать его
устали
И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он - и что ж?.. Отчизны не познал!2
2 Там же. т. I, с. 193. Стихи взяты из пьесы "Судьба Одиссея", составляющей подражание стихотворению Шиллера "Odysseus", но самым выбором своим очевидно выражающей собственное настроение нашего поэта.
Высокое патриотическое воодушевление 1812 года значительно изменилось в русском обществе к концу борьбы с Наполеоном. Вызванный ею подъем национального самосознания обратил общественное внимание на задачи внутреннего развития, но при обсуждении их мнения людей, еще недавно соединенных общим чувством патриотизм, разошлись совершенно в разные стороны. Тесно связанные с самыми основами нашей образованности, вопросы просвещения ставились как попало и решались вкривь и вкось, более смело, чем основательно. "Состояние умов теперь таково, - писал в конце 1813 года один из образованнейших людей своего времени, С.С. Уваров, - что путаница идей не знает пределов. Одни хотят просвещения безвредного, то есть огня, который бы не жег; другие, и их всего более, кидают в один мешок Наполеона и Монтескье, французские армии и французские книги, Моро и Розенкампфа, бредни Шишкова и открытия Лейбница; словом, это - такой хаос криков, страстей, партий, ожесточенных одна против другой, односторонних преувеличений, что долго присутствовать при таком зрелище нет возможности. Кидают друг другу в лицо выражениями: религия в опасности, потрясение нравственности, поборник чужеземных идей, иллюминат, философ, франкмасон, фанатик и т.п. Словом, безумие полное!" {Pertz. Das Leben d'Ministers. Fr. v. Stem. III-r B. 2-te Aufl. Berlin. S. 697-698.}
Заметим, что это свидетельство принадлежит человеку, который, как и Батюшков, далеко не отличался крайними мнениями. Дикая вражда против просвещения шла главным образом со стороны тех людей, которые еще до войны ратоборствовали против галломании, то есть со стороны пресловутой Беседы, и Шишков с простодушием невежды и откровенностью ограниченного человека не затруднялся утверждать, что писатели, искавшие литературных образцов во французской словесности, были виновниками не только "заразы французской", но даже нашествия Наполеона и пожара Москвы, то есть изменникам своему отечеству.
В горячую пору 1812 года Батюшков также вооружался против "новых вандалов"; но огульная вражда против просвещения, проникнутая любовью к отечеству, и тогда возбуждала его негодование; крайности фанатиков удержали его от слишком сильных увлечений, и еще перед отправлением в заграничный поход, во время своего невольного досуга в Петербурге в 1813 году, он написал (вместе с А.Е. Измайловым) сатирическое стихотворение, в котором предал осмеянию бездарных и невежественных изуверов Беседы. Остроумной сатире этой была дана форма пародии на "Певца в стане русских воинов", незадолго перед тем напечатанного. Как певец Жуковского взывает к мщению Наполеона, так певец в Беседе славянороссов, грозя мщением даровитому виновнику литературных новшеств Карамзину, между прочим, возглашает:
Нет логики у нас в домах,
Грамматик не бывало,
Мы Пролог в руки - гибни враг,
С твоей дружиной вялой!
Отведай, дерзкий, что сильней -
Рассудок или мщенье.
Пришлец, мы в родине своей!
За глупых Провиденье!
Общий смысл сатиры составляет осуждение дикой вражды к наукам, слепого пристрастия к национальной исключительности и фантастической любви к добродетелям неведомой старины.
Из пребывания за границей Константин Николаевич вынес новое подкрепление своих убеждений. Он не мог не видеть, что Европа далеко опередила Россию богатым развитием умственной жизни, которая у нас только в зачатках; он сознавал, что и после великой победы над Наполеоном нам есть чему учиться на Западе, есть что усваивать из его литературы; кичливость русских фанатиков перед европейскою образованностью казалась ему не только неуместною, но и недостойною великого молодого народа, который своими победами открывал себе славное будущее: в этом-то смысле он и говорил, уподобляя себя скитальцу Одиссею, что по возвращении он "не познал своей родины".
Как ни громко раздавались возгласы фанатиков, нашлись, однако, люди, которые не захотели молчать перед этою ожесточенною проповедью невежества; особенно замечательно то, что защиту дела просвещения приняли на себя не крайние сторонники западного образования, а представители умеренных убеждений, резко высказывавшиеся против галломании, но в то же время умевшие отличить от нее потребность истинной образованности. Мы видели в своем месте, как члены Оленинского кружка, несмотря на личную приязнь Алексея Николаевича к Шишкову и Державину, отделились от литературных староверов в суждении о трагедиях Озерова; так и теперь представители той же среды сочли нужным высказаться самостоятельно по вопросу, горячо волновавшему общество. Заметим, что многие из этих лиц, как и сам Оленин, принадлежали к составу Беседы любителей русского слова; но в данном случае они не могли сочувствовать Шишкову и его присным. С половины 1813 года началось в "Сыне Отечества" печатание знаменитых писем И.М. Муравьева-Апостола из Москвы в Нижний Новгород; в них много говорилось о смешном пристрастии русского общества к французам, говорилось и о вредном влиянии французской философии XVIII века на умы, но, разумеется, не было тех выходок против образования, которые вызвали такое горячее негодование Уварова, когда он слышал их в петербургских салонах. Муравьев, напротив, настаивал на том, что наше дворянство учится слишком мало и что в основу нашей школы необходимо положить изучение классических языков; он же указывал и на другие литературы новой Европы как на источники просвещения. Мнения Муравьева, близкого Оленину, могут быть принимаемы как выражение убеждений, господствовавших в этом кругу. Те же мысли высказывал Уваров в своих письмах о переводе "Илиады" {Чтения в Беседе любителей русского слова, кн. 13 и 17; 2-е письмо появилось в печати только в 1815 г., но еще в 1814 г. было читано в Беседе и тогда же стало известно Батюшкову (см. Соч., т. II, с. 75, 76, 429).}. "Без основательных познаний и долговременных трудов в древней словесности, - писал он, - никакая новейшая существовать не может; без тесного знакомства с другими новейшими мы не в состоянии обнять все поле человеческого ума, обширное и блистательное поле, на котором все предубеждения должны бы умирать и всякая ненависть гаснуть" {Чтения в Беседе, кн. XVIII, с. 63.}. В самом начале 1814 года последовало открытие Императорской Публичной Библиотеки, и по этому случаю состоялось, при многочисленных посетителях, торжественное собрание, в котором, по мысли Оленина, библиотекарями Красовским, Гнедичем причитаны были рассуждения, первым - о пользе знаний, вторым - о причинах, замедляющих успехи нашей словесности; причины эти Гнедич находил в том, что у нас слишком мало изучаются древние языки и слишком много пристрастия к языку французскому; сходясь в этом заключении с Муравьевым-Апостолом и Уваровым, он, однако, отделался от них тем, что вовсе умалчивать о значении литератур новой Европы для развития нашей собственной. Прочитанная в том же собрании басня Крылова "Водолазы", также по-своему решила вопрос о пользе наук, доказывая, что
...в ученьи зрим мы многих благ причину,
Но дерзкий ум находит в нем пучину
И свой погибельный конец,
Лишь с разницею тою,
Что часто гибель он других влечет с собою.
Таким образом, представители Оленинского кружка подали свой голос по вопросу, который в данную минуту вызывал самые разнообразные суждения в обществе. Мнение было высказано очень осторожно и обставлено разными оговорками, но в общем оно, очевидно, противоречило решению фанатиков и имело даже смысл протеста против проповедуемых ими крайностей.
Естественно, что Батюшков примкнул к суждениям, которые были заявлены его просвещенными собеседниками в доме Оленина. Он воспользовался первым удобным случаем, чтобы привести в печати из не изданного еще письма Уварова слова его о пользе изучения древней и новой иностранной словесности. Мало того: в рассуждениях своих друзей он увидел указания для своей дальнейшей литературной деятельности. До сих пор он признавал свой талант способным преимущественно к тому роду, который называл "легкою поэзией"; но теперь, когда потребности времени указывали литературе высокие просветительные задачи, он счел себя не вправе ограничиваться областью интимной лирики. Еще в виду ужасов неприятельского нашествия он отрекался от нее в Послании к Дашкову. Призывая теперь Жуковского "сделать себе прочную славу, основанную на важном деле" {Соч., т. III, с. 306; важное дело, на которое Батюшков вызывал Жуковского, состояло в задуманной последним поэме "Владимир". Настояния свои наш поэт высказывал и в печати, и в письмах к другу (Соч., т. II, с. 410; т. III, с. 99). Уваров давал Жуковскому тот же совет (Чтения в Беседе, кн. 17, с. 64).}, он и самому себе намечал более серьезный план в литературных занятиях. Уваров указывал на пользу переводов из древних авторов; но скудность классических знаний препятствовала Батюшкову взяться за труд, подобный предпринятому Гнедичем; к тому же он знал за собою недостаток усидчивости, которой потребовала бы такая работа. Итак, не желая насиловать свое поэтическое дарование, Батюшков решился обратиться к прозе и испытать свои силы в критике. Он находил необходимым содействовать образованию вкуса публики и признавал долгом просвещенного писателя напомнить русским читателям, что и их родная словесность не лишена замечательных произведений. С этою целью Батюшков в 1814 году занялся статьею о сочинениях М.Н. Муравьева и даже принял на себя заботы по изданию его "Эмилевых писем" {Там же.}. Та же мысль - дать справедливую и сочувственную оценку отечественным талантам в области пластических искусств - руководила им и в другой, тогда же написанной (под руководством Оленина) статьи: "Прогулка в Академию Художеств". Наконец, то же стремление замечается во многих позднейших статьях Константина Николаевича, также большею частью посвященных вопросам литературным или нравственным в связи со словесностью. Никогда, быть может, мысль Батюшкова не работала столь деятельно, как в первые годы по возвращении его из заграничного похода, и это напряжение умственных сил продолжало возрастать, в то время как частные его дела приходили все в большее расстройство и подавали ему новые поводы к тревогам и огорчениям. Но что еще важнее - в сердце его открылся источник других, еще сильнейших потрясений: ему суждено было снова испытать волнения любви. В доме Олениных жила одна молодая девушка, Анна Федоровна Фурман. Она рано лишилась матери {Рожденной Энгель, сестры статс-секретаря Фед. Ив. Энгеля. Отец Анны Федоровны, по происхождению саксонец, состоял на русской государственной службе. Анна Федоровна родилась в Звенигородском уезде, Московской губернии, в 1791 году. После пребывания в доме Олениных Анна Федоровна жила в Дерпте, а потом в Ревеле и здесь, в 1822 году, вышла замуж за г. Оома. В 1827 году, уже вдовой, она была назначена начальницею С.-Петербургского сиротского института (ныне Николаевского) и скончалась в этой должности в 1850 году.} и воспитывалась сперва в доме своей бабки (вместе с двоюродным братом своим Ф.П. Литке, впоследствии графом), а затем у Олениных. Здесь она имела случай видеть лучших русских писателей и еще ребенком была любимицей Державина. Гнедич был ее учителем, Константин Николаевич также знал ее с детства. Еще в 1809 году он вспоминал о ней в одном письме из Финляндии к своему приятелю, который был неравнодушен к своей ученице: "Выщипли перья у любви, которая состарилась, не вылетая из твоего сердца; ей крылья не нужны. Анна Федоровна право хороша, и давай ей кадить! Этим ничего не возьмешь. Не летай вокруг свечки - обожжешься!" {Соч., т. III, с. 35.} Сам Батюшков был в то время увлечен другою привязанностью и уже испытывал горе разлуки с любимою женщиной. По приезде в Петербург, в начале 1812 года, он снова увидел Анну Федоровну девятнадцатилетнею русою красавицей. "Она, - по свидетельству сообщенного нам известия, - по скромности и прекрасным качествам ума и сердца, а равно и прелестною наружностью своею, пленяла многих, сама того не подозревая". Разлука, а потом развлечения затушили первую любовь нашего поэта, и в то время он, кажется, считал себя застрахованным от новых волнений чувства и храбро посмеивался над романтическою привязанностью своего друга Жуковского. Затем военная буря 1812 года увлекла Константина Николаевича из Петербурга; но по возвращении сюда в следующем году новая встреча с особою, столь давно ему знакомою, имела для него решительное значение; еще до отъезда его в действующую армию приятели замечали, что сердце его не свободно {Письмо Д. В. Дашкова к кн. П.А. Вяземскому от 25 июня 1814 г - Рус. Архив, 1866, с. 497.}. Сам поэт оставил нам трогательное признание в том, что воспоминание об этой встрече не покидало его во время пребывания за границей:
Твой образ я таил в душе моей
залогом
Всего прекрасного... и благости Творца,
Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль славы, иль конца.
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях;
И в мире, и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовию за мною,
С печальным странником он неразлучен стал...
Как часто в тишине, весь занятый тобою,
В лесах, где Жувизи гордится над рекою,
И Сейна по цветам льет сребряный кристалл,
Как часто средь толпы и шумной, и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен
Я пенье забывал волшебное сирен
И о тебе одной мечтал в тоске сердечной;
Я имя милое твердил
В прохладных рощах Альбиона
И эхо называть прекрасную учил
В цветущих пажитях Ричмона3.
3 Соч., т. I, с 227
Из-за границы Батюшков возвратился со светлою надеждой найти в разделенной любви успокоение своей мятущейся души. Брак его, по-видимому, не мог встретить противодействия со стороны близких людей; правда, и на этот раз он не надеялся на согласие отца {Соч., т. III, с. 341.}; зато в семье Олениных смотрели благосклонно на возможность этого союза, а Е.Ф. Муравьева вполне сочувствовала выбору Константина Николаевича и готова была содействовать его женитьбе, без сомнения, в том убеждении, что брак даст оседлость ее слишком непоседливому племяннику. Но в самой той особе, о которой шла речь, наш поэт не нашел полного ответа на свое чувство, а увидел скорее покорность пред решением других лиц:
... Я видел, я читал
В твоем молчании, в прерывном разговоре,
В твоем унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья...4
4 Там же, т. I, с. 228.
Батюшков любил слишком сильно и слишком честно для того, чтобы насиловать чужое чувство; утратив надежду на свободное согласие со стороны любимой им особы, он предпочел остановить свои искания. Но удар был нанесен ему прямо в сердце и тяжело отозвался на всем его существе. И несмотря на то, покинуть Петербург, оторваться от среды, где на него обрушилось столько огорчений, но где в то же время сияли немногие светлые точки его жизни, он не имел духа. Так прошло около шести месяцев, наполненных для него мучительными колебаниями. В январе 1815 года Душевное волнение Константина Николаевича разрешилось болезнью, сильным нервным расстройством, и только в исходе этого месяца благодаря попечениям Е.Ф. Муравьевой он вышел из опасности {Соч., т. III, с. 309.}. Тогда наконец он решился оставить столицу и ехать в деревню, куда уже давно призывали его родственные обязанности.