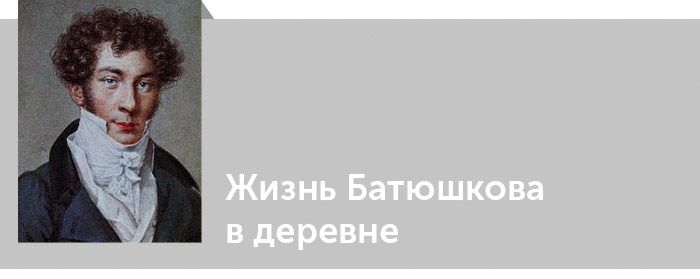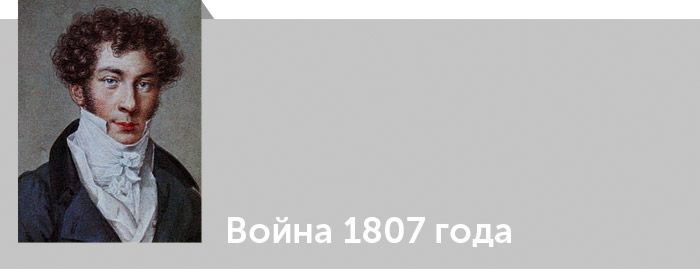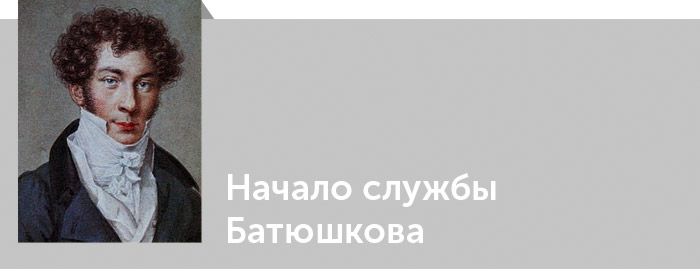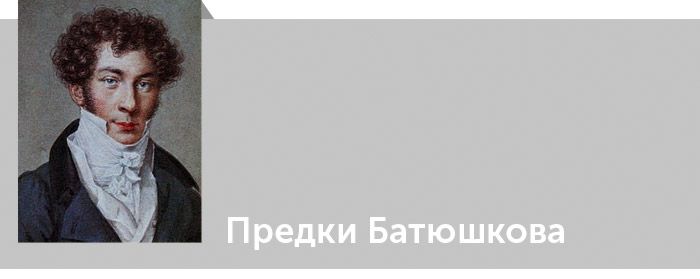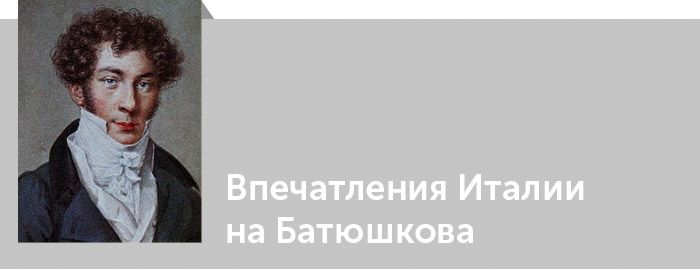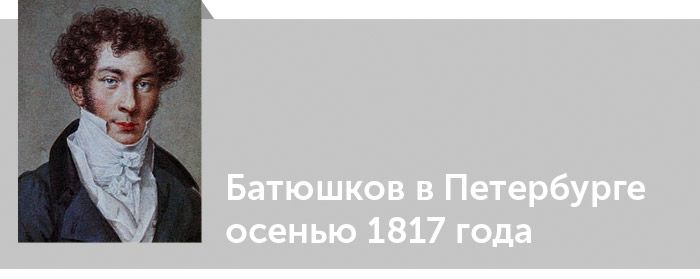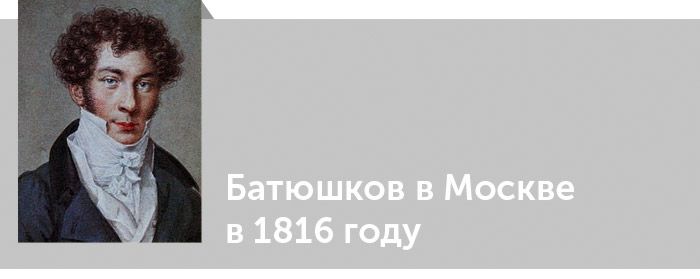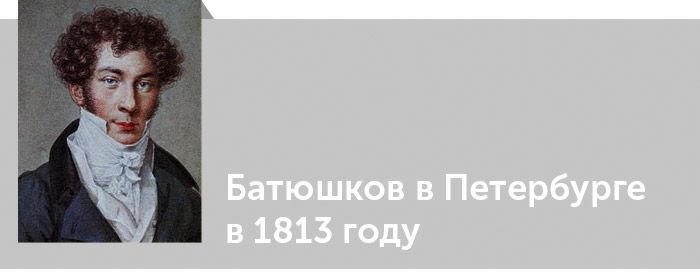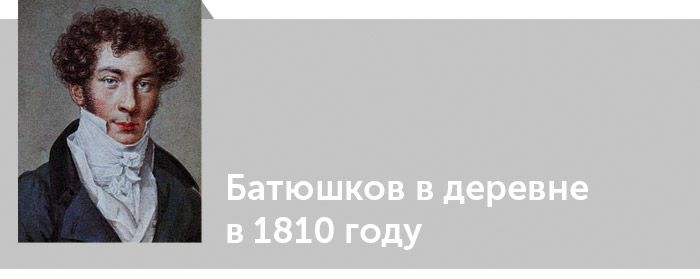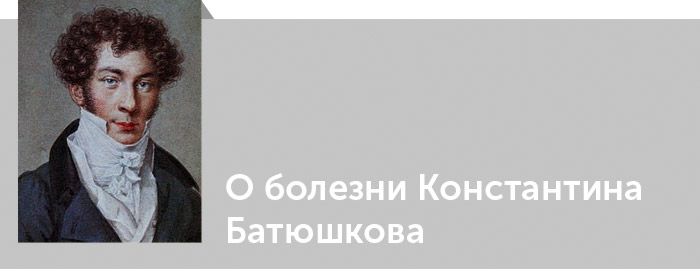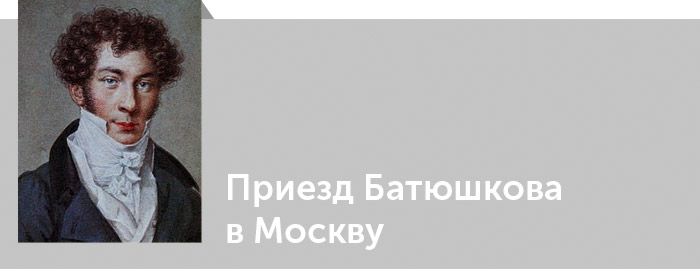Батюшков, его жизнь и сочинения. Приезд Батюшкова в Петербург
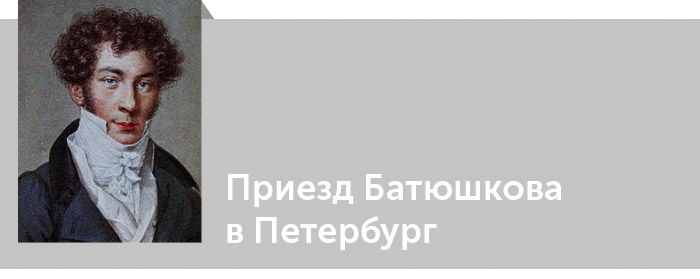
Глава VII
Приезд Батюшкова в Петербург и поступление на службу. - Сближение с И.И. Дмитриевым, А.И. Тургеневым, Д.Н. Блудовым и Д.В. Дашковым. - Переписка с Жуковским. - Вольное Общество любителей словесности. - Начало Отечественной войны. - Поездка Батюшкова в Москву и Нижний Новгород. - Москвичи в Нижнем. Карамзин, И.М. Муравьев-Апостол и С.Н. Глинка. - Впечатления войны на Батюшкова. - Отъезд его из Нижнего в Петербург
По приезде в Петербург первою заботой Батюшкова было выяснить вопрос о возможности определиться на службу. Но и в этом случае успех давался нелегко. В половине февраля, уже прожив в Петербурге около месяца, он сообщал сестре не совсем утешительные вести касательно поступления на службу: "Что же касается до места, то и до сих пор ничего не знаю.
В Библиотеке все заняты (помнишь ли деревенские басни и мои слова?), а надежда вся на Алексея Николаевича, который ко мне весьма ласков" {Соч., т. III, с. 173.}. И действительно, надежда на этот раз не обманула поэта: встреченный у Олениных с тою же приветливостью, с какою был принимаем прежде, Константин Николаевич имел-таки возможность поступить под непосредственное начальство своего давнего покровителя. В апреле 1812 года произошло передвижение в составе чиновников Императорской Публичной Библиотеки: старик Дубровский, которому она обязана была приобретением драгоценных латинских и французских рукописей, вывезенных им из Парижа при начале Французской революции, оставил должность хранителя манускриптов; его заместил бывший дотоле его помощником А.И. Ермолаев, а на место сего последнего определен был отставной гвардии подпоручик Батюшков {Отчет Имп. Публ. Библиотеки за 1808, 1809, 1810, 1811 и 1812 годы. СПб., 1813, с. 57; Соч., т. III, с. 175, 180.}. Так еще новая связь скрепила его с Оленинским кружком, в котором сослуживцы и подчиненные Алексея Николаевича, большею частью им самим выбранные, всегда играли видную роль. Тот же дух благоволения, та же любовь к просвещению, к наукам и искусствам, которыми отличался Оленинский салон, распространялись и на состав служащих в Библиотеке; присоединяясь к нему. Батюшков становился сослуживцем Уварова, Крылова, Ермолаева, людей большею частью хорошо ему известных и искренно им уважаемых; разделять с ними служебные труды было для него, конечно, так же приятно, как и находиться в умственном общении с ними; притом же надобно думать, что обязанности помощника хранителя манускриптов были в то время не обременительны, особенно при таком трудолюбивом и ученом библиотекаре отделения рукописей, каков был страстный палеограф Ермолаев. На дежурстве Гнедича по вечерам в Библиотеке собирались его приятели и проводили время в дружеской беседе; тут Константин Николаевич встречался с М.В. Милоновым, П.А. Никольским, М.Е. Лобановым, П.С. Яковлевым и Н.И. Гречем {Газетные заметки Эрмиона (Н.И. Греча) в "Северной Пчеле", 1857, No 157.}.
Вообще жизнь Батюшкова устроилась в Петербурге довольно приятно: здоровье его было удовлетворительно, и он не утрачивал того светлого и покойного расположения духа, с которым приехал. Огорчали его только тревожные известия о семейных и хозяйственных делах, бремя которых все более и более падало на безответно отдавшуюся им Александру Николаевну. Письма ее сообщали мало утешительного; она знала прихотливую неустойчивость братнина характера, и ей не верилось, что Константин Николаевич может упрочить свое положение в Петербурге; ввиду расстройства их состояния, ввиду новых расходов, которые влекло за собою пребывание брата в столице, она готова была желать его возвращения на дешевое житье в деревне. Такие соображения, разумеется, не сходились с надеждами и намерениями Константина Николаевича. "Я право иногда вам завидую, - писал он сестрам, - и желаю быть хоть на день в деревне... правда, на день, не более. Бога ради, не отвлекайте меня из Петербурга: это может быть вредно моим предприятиям касательно службы и кармана. Дайте мне хоть год пожить на одном месте" {Соч., т. III, с. 181.}. Он старался по мере сил помогать родным своим хлопотами в Петербурге и питал убеждение, что пребывание его здесь может быть не бесполезно и для семейных дел. Ободренный встреченным им здесь вниманием, он чувствовал в себе еще более решимости преследовать намеченную цель, если не из честолюбия или из материальных выгод, то, быть может, из потребности интеллигентной жизни, недостаток которой так был тягостен ему в деревенской глуши. Несомненно, благоразумная решимость Батюшкова взяться наконец за службу свидетельствовала, что он расставался с мечтами о юности беспечной, вольной жизни, посвященной одному наслаждению.
Обжившись в Петербурге, Батюшков не забывал и о своих московских друзьях: он поддерживал деятельную переписку с князем Вяземским и писал иногда к Жуковскому, жившему тогда в Белеве. Кроме того, он сблизился с приятелями своих московских друзей, переселившимися в Петербург на службу, и в их обществе как бы продолжал нить той московской жизни, период которой называл самым счастливым своим временем. В знакомстве с И.И. Дмитриевым, который занимал тогда пост министра юстиции и охотно окружал себя даровитыми молодыми людьми с литературными наклонностями, Батюшков нашел как бы отражение приятных и поучительных бесед Карамзина; сношения с А.И. Тургеневым, Д.Н. Блудовым; Д.П. Севериным и Д.В. Дашковым напоминали ему о Жуковском и Вяземском. Тургенева Батюшков знал давно, с ранней молодости, когда встречал его в доме М.Н. Муравьева, но только теперь, познакомившись с ним ближе, он оценил его просвещенный ум, любезность и бесконечно доброе сердце. Со своей стороны и Тургенев, узнав о дружбе Константина Николаевича с Жуковским, охотнее выражал теперь расположение к "милому и прекрасному поэту" {См.: письмо Тургенева к Жуковскому от 9 февраля 1812 г. в "Рус. Архиве", 1864.}. "С Блудовым, - писал Батюшков Василию Андреевичу, - я познакомился очень коротко, и немудрено: он тебя любит, как брата, как любовницу, а ты, мой любезный чудак, наговорил много доброго обо мне, и Дмитрий Николаевич уж готов был меня полюбить. С ним очень весело. Он умен" {Соч., т. III, с. 171.}. Дашков привлек к себе Батюшкова тонкостью своего ума, образованностью и тою энергией, которую он обнаруживал в литературных спорах со сторонниками Шишкова.
В то время когда Батюшков переселился в Петербург, здешние друзья Жуковского задумали и его привлечь в северную столицу и пристроить на службу. Константина Николаевича радовала возможность увидеться с другом, и он также написал ему письмо с горячими убеждениями приехать "на берега Невы", хотя они и "гораздо скучнее наших московских". К письму было приложено послание к Пенатам, в котором наш поэт повторял свою прежнюю исповедь эпикурейства и между прочим говорил о минутных восторгах сладострастья. Жуковский не сдался тогда на приглашения друзей: весь погруженный в свою любовь к М.А. Протасовой, он был увлечен мечтой создать себе семейное счастье в тишине сельского уединения; препятствия, которые встретились со стороны матери любимой им девушки, он еще не считал тогда неодолимыми. На письмо и стихи Батюшкова Жуковский также отвечал прозой и стихами: в письме он советовал нашему поэту тщательно отделывать свои произведения {Письма Жуковского к Константину Николаевичу, в том числе и это, не сохранились; но содержание письма Жуковского, о котором идет речь, уясняется отчасти из ответа Батюшкова (Соч., т. III, с. 187).}, а в стихотворном послании раскрывал перед ним высокий идеал счастья, основанный на чистой любви. "Любовь, - говорил Жуковский, -
Любовь - святой хранитель
Иль грозный истребитель
Душевной чистоты.
Отвергни сладострастья
Погибельны мечты
И не восторгов - счастья
В прямой ищи любви;
Восторгов исступленье
Минутное забвенье.
Отринь их, разорви
Лаис коварных узы;
Друзья стыдливых - музы;
Во храм священный их
Прелестниц записных
Толпа войдти страшится..."1
1 Соч. Жуковского, 7-е изд., т. I, с. 240.
Ответное послание Жуковского дошло до Батюшкова только в конце 1812 года {Соч., т. III, с. 215.}, на письмо же своего друга наш поэт возразил шутками: он отказывался заниматься обработкой своих стихов, предпочитая посвящать свое время веселой беседе с друзьями. Батюшков чувствовал, однако, что этот ответ не мог удовлетворить Жуковского; поэтому к своему письму он присоединил новое послание к Жуковскому, в котором говорил и о своем душевном настроении:
Тебе - одна лишь радость,
Мне - горести даны!
Как сон, проходит младость
И счастье прежних дней!
Все сердцу изменило:
Здоровье легкокрыло
И друг души моей!2
2 Там же, с. 189; отрывок этот приведен здесь по первоначальной редакции послания, находящейся в письме Батюшкова к Жуковскому от июня 1812 г.
Жуковскому едва ли мог быть вполне понятен намек, заключавшийся в последнем из приведенных стихов, а Батюшков, в свою очередь, еще не знал тогда, что и другу его любовь сулит не одни радости; ему казалось, что Жуковский слишком ослеплен своим чувством и потому:
Для двух коварных глаз
Под знаменем Киприды
Сей новый Дон-Кишот
Проводит век с мечтами,
С химерами живет,
Беседует с духами
И - мир смешить собой!
Доля иронии слышна в этих строках, обращенных, разумеется, не к самому Жуковскому, а к одному из общих приятелей {Послание к А.И. Тургеневу, 1812 г. (Соч., т. I, с. 148).}; но отсюда не следует заключать, чтобы Батюшков легко относился к чужому чувству. Он мог любить иначе, чем Жуковский, но он ли не знал могучей силы страсти? Еще в ранней юности Константин Николаевич испытал горячий порыв ее, встреченный полною взаимностью, и эта любовь оставила глубокий след в его душе; два года разлуки после встречи с г-жою Мюгель не изменили его чувства. Правда, впоследствии, рассеянная жизнь в Москве, а может быть, и доходившие до поэта слухи, что он забыт любимою им девушкой, охладили его юношеский порыв, и с тех пор у него сложился скептический взгляд на прочность женского чувства {Соч., т. III, с. 149.}, взгляд, который, как и поиски минутных увлечений, служил ему отчасти утешением в его разочаровании. Быть может, Константин Николаевич и не совсем был прав в частной причине своего скептицизма, но сомнение, закравшееся в его душу, внесло в жизнь его сердца ту горечь, от которой он уже никогда не мог освободиться: он уже не в силах был верить в ту возможность счастья в любви, мечтой о котором была полна душа Жуковского. Различный, но одинаково печальный путь готовило будущее обоим поэтам в их сердечной жизни, и тогда они лучше сумели понять друг друга в этом отношении.
Между тем как обмен мыслей между Батюшковым и Жуковским затрагивал самые глубокие стороны их внутренней жизни, переписка Константина Николаевича с князем Вяземским вращалась около предметов более легких. Они обменивались литературными новостями и известиями об общих приятелях. В жизни тех из них, которые находились в Петербурге, литературные интересы занимали не меньше места, чем в кружке московских карамзинистов, и деятельность их, поскольку они участвовали в литературе, имела направление, разумеется, враждебное Беседе и вообще шишковской партии. Мало-помалу и Блудов, и Дашков, и Северин вошли в состав Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств, единственного в Петербурге организованного учреждения, где хотя и не очень смело, но признавались литературные заслуги Карамзина и вообще обнаруживалось сочувствие к новым стремлениям в словесности. Дашкову принадлежит мысль оживить деятельность этого почти заснувшего Общества и противопоставить его шумливой хлопотне членов Беседы {Н.И. Греч. Памяти А.Х. Востокова. СПб., 1864, с. 7.}. В начале 1812 года Общество, состоявшее тогда под председательством А.Е. Измайлова, предприняло издание журнала "С.-Петербургский Вестник", в котором критике отведено было видное место. Теперь и Батюшков сделался членом Вольного Общества и стал помещать в его журнале свои стихотворения, между тем как Дашков печатал там дельные критические статьи. Во взглядах членов Вольного Общества не было, однако, полной солидарности, и вскоре в нем обнаружилось разъединение. Нашлись в его составе лица, которые к избранию в почетные члены предложили бездарного метромана, графа Д.И. Хвостова. Дашков был против этого; но большинство решило выбор. Тогда Дашков просил дозволения сказать Хвостову приветственную речь, на что и получил разрешение. Речь была сказана в заседании 14 марта 1812 года и под видом похвал заключала в себе такую иронию, что смутила многих из присутствовавших. В своей речи Дашков предлагал сочленам заняться разбором произведений Хвостова и "показать все их достоинство". Члены обязаны были высказаться по содержанию этого предложения. В заседании 18 марта члены Северин, Батюшков, Лобанов, Блудов и Жихарев предложили "потребовать объяснения как от г. Дашкова об его намерениях, так и от графа Д.И. Хвостова о том, что ему кажется оскорбительно в сем предложении, и в самом ли деле он им оскорбляется". Авторы этого предложения, очевидно, рассчитывали, что Хвостов не признает речи Дашкова обидною для себя и что, таким образом, дело будет замято. Но другие члены прямо заявили, что похвалы Дашкова, по своему двусмыслию, имеют вид укоризны Хвостову и что поэтому Дашков, как оскорбитель, подлежит исключению. Большинство членов решительно присоединилось к этому мнению, тогда лица, внесшие первое предложение, не пожелали настаивать на истребовании объяснения у Дашкова и, без сомнения, по уговору с ним представили такое заявление, составленное Батюшковым: "Если граф Дмитрий Иванович действительно оскорблен предложением г. Дашкова, в таком случае с сожалением соглашаемся на исключение г. Дашкова, который в течение продолжительного времени был полезен Обществу". Под этим последним заявлением подписи Блудова не было {Подробности рассказанного происшествия см. в статье Н.С. Тихонравова. "Рус. Старина", 1884, т. XLIII, с. 105-113.}.
Таким образом Дашков принужден был выйти из Общества, которое вслед за ним оставили и его друзья. В мае 1812 года Батюшков писал по этому случаю в Москву к Вяземскому следующее: "Когда увидишь Северина (он гостил в то время в Москве), то... со всевозможною осторожностью, внушенною дружеством, скажи ему - полно, говорить ли? - скажи ему, что он выключен из нашего Общества; прибавь в утешение, что Блудов и аз грешный подали просьбы в отставку. Общество едва ли не разрушится. Так все приходит, все исчезает! На развалинах словесности останется один столп - Хвостов, а Измайлов из утробы своей родит новых словесников, которые будут снова писать и печатать!" {Соч., т. III, с. 184-185.}
Прошло с небольшим полтора месяца после того, как написаны были эти шутливые строки, и содержание писем Батюшкова к его московскому приятелю совершенно изменилось. "Что с тобою сделалось? - писал он князю 1 июля. - Здоров ли ты? Или так занят политическими обстоятельствами, Неманом, Двиной, позицией направо, позицией налево, передовым войском, задними магазинами, голодом, мором и всем снарядом смерти, что забыл маленького Батюшкова?" {Там же, с. 192-193.} В этих словах сквозь прежний шутливый тон слышна уже новая нота тревоги. Исторический Двенадцатый год наступал во всеоружии ужаса и славы, и помыслы русских людей обращались к грозным событиям, которые развертывала пред ними рука судьбы.
При начале войны в русском обществе, однако, не воображали, до каких громадных размеров разрастется эта борьба. Великая армия Наполеона уже вступила в русские пределы, наши войска уже стягивались к назначенным пунктам, а в Петербурге еще не думали, чтобы неприятельское нашествие распространилось за линию Западной Двины и Днепра; о возможности занятия Москвы французами никто не помышлял ни на берегах Невы, ни в самой древней столице. В общественных толках замечалось порядочное легкомыслие: одни требовали наступательных действий, как лучшего средства для быстрой победы; другие не верили в возможность одолеть Наполеона и потому признавали благоразумнейшим предупредить разгром уступками. Тем не менее после воззвания императора Александра, объявившего, что он не положит оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в Русском царстве, общественное воодушевление возросло очень сильно. Правда, русским людям не было поводов к той ненависти, которая соединяла против гениального "проходимца" высшее сословие во всех государствах Западной Европы; это аристократическое отвращение от деспота, вышедшего из недр революции, могло быть привито эмигрантами-роялистами лишь к небольшой части нашего высшего столичного общества; но жесткий деспотизм наполеоновской политики, возобладавший и над Россией со времени союза в Тильзите, после неудачи двух первых войн с великим полководцем, задевал за живое русскую народную гордость. Пока у нашего правительства не было разлада с новым союзником, это тайное раздражение в русском обществе прикрывалось гонением на галломанию: возобновилась старая уже полемика о вреде иностранного влияния на русскую образованность, и под этим благовидным предлогом слепая косность и простодушное невежество повели в литературе нападение на коренные основы просвещения; естественно, что такой натиск встретил горячий отпор со стороны более образованных представителей литературы, умевших, впрочем, любить отечество не хуже своих противников. Мы уже отметили прежде некоторые явления этой борьбы и указали, на какую сторону склонялись сочувствия нашего поэта. Но когда вместо домашнего спора об отвлеченном вопросе общественное внимание обратилось к международной политике, когда течение событий поставило в первую очередь задачу государственной самостоятельности, тогда смолкли теоретические препирательства и русское общество единодушно поднялось на защиту родной страны.
"Если бы не проклятая лихорадка, - писал Батюшков к Вяземскому в первой половине июля, - я бы полетел в армию. Теперь стыдно сидеть сиднем над книгою, мне же не приучаться к войне. Да, кажется, и долг велит защищать отечество и государя нам, молодым людям" {Соч., т. III, с. 194.}. Константин Николаевич с завистью смотрел на своих приятелей. Вяземский уже вступил в военную службу. Северин собирался сделать то же; о Жуковском можно было предполагать, что и он последует их примеру {Там же, с. 194, 195, 207.}. Болезнь и безденежье удерживали нашего поэта от такого же решения, которому притом противились и его родные; Батюшков успокаивал на этот счет свою сестру, а в то же время надеялся при первой возможности ускользнуть из Петербурга и явиться в армию {Там же, с. 200-202.}. Между тем события принимали течение все более и более тревожное. Движение неприятеля в глубь страны обращало военную грозу в личную беду для всех и каждого. Константин Николаевич не мог быть спокоен ни за свою сестру, ни за своих крестьян.
Александра Николаевна находилась в то время в Хантонове, вдали даже от своих вологодских родных; брат советовал ей переехать в Вологду и не расставаться с близкими. "Я истинно огорчаюсь, сравнивая твое положение с моим, - писал он ей 9 августа. - Я здесь спокоен, ни в чем нужды не имею, а ты, мой друг, и нуждаешься, и хлопочешь, и за нас всех в огорчении. Бог тебя за это наградит, мой милый и единственный друг! Бога ради, живите дружнее между собою! Такое ли время теперь, чтоб хотя одну розную мысль иметь?" {Соч., т. III, с. 197.} Соболезнование о крестьянах вызывалось тяжестью наборов; Константин Николаевич предоставил своим крепостным уладить поставку рекрут по собственному их усмотрению и потом благодарил старост за их исправность в этом деле {Там же, с. 197,202.}. Наконец, еще одна важная забота была у него на сердце - положение Е. Ф. Муравьевой. Незадолго пред войной она продала свой дом и жила теперь на даче под Москвою; близость военных действий заставила ее подумать об отъезде в какой-нибудь другой город; ввиду этого она звала к себе Константина Николаевича на помощь: "Катерина Федоровна, - рассуждал он, - ожидает меня в Москве больная, без защиты, без друзей: как ее оставить? Вот единственный случай быть ей полезным!" {Там же, с. 197.} Соображений этих было достаточно, чтоб определить решение: Батюшков поспешил в Москву {Из дел архива Имп. Публ. Библиотеки видно, что отпуск был дан ему 14 августа.}.
Он приехал туда за несколько дней до Бородинского боя и с грустью узнал, что Вяземского уже нет в столице: он находился в армии Кутузова; зато здесь Константин Николаевич был обрадован письмом другого своего приятеля, Петина, писанным с поля Бородинского накануне сражения. "Мы находились, - говорил он впоследствии, - в неизъяснимом страхе в Москве, и я удивился спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту" {Соч., т. II, с. 197.}. Весть об исходе боя еще застала Батюшкова в столице, и вместе с тем он узнал, что из двух сыновей Оленина, бывших в сражении, один, Николай, убит, а другой, Петр, тяжело ранен. Несчастного привезли в Москву и затем отправили на излечение в Нижний Новгород. Батюшков имел возможность тогда же сообщить его родителям утешительное известие о состоянии здоровья сына {Там же, т. III, с. 203.}. Между тем Муравьева с семейством также решила ехать в Нижний, и Батюшков увидел себя в необходимости сопровождать ее. На пути, во Владимире, он нашел Петина, также раненного, и, как рассказывал впоследствии, "с завистью смотрел на его почтенную рану" {Там же, с. 197.}.
Около 10 сентября беглецы прибыли на берега Волги. В трех комнатах, которые им удалось нанять, поместились Муравьева с тремя детьми, две бывшие при них иностранки, Константин Николаевич, И.М. Муравьев-Апостол, П.М. Дружинин и англичанин Эвснс, служивший при Московском университете. Теперь, когда патриотическое воодушевление доходило до высшего предела, когда каждый видел вокруг себя и на самом деле испытывал ужасы войны, нашего поэта, более чем когда-либо, увлекала мысль вступить в военную службу; но связанный родственными обязанностями, он должен был пока отсрочивать исполнение этого намерения {Там же, с. 202--205, 208.}.
После отдачи Москвы французам Нижний Новгород стал настоящим уголком древней столицы. Туда съехалось множество москвичей, и между ними немало знакомых Батюшкова. Он нашел здесь семейство Ив. П. Архарова, на старшей дочери которого женат был известный театрал Ф.Ф. Кокошкин, нашел Карамзина с женою и детьми, С.С. Апраксина, А.Ф. Малиновского, В.Л. и A.M. Пушкиных, жену последнего и много других лиц. Стечение приезжих придавало городу большое оживление, в котором возбуждение опасностью, разразившеюся над отечеством, и скорбь о разорении своеобразно смешивались с широким разгулом. Москвичи перенесли на берега Волги свои привычки шумной, рассеянной жизни: вместо любимого своего гулянья - красивых московских бульваров - толпились на городской площади, среди дорожных колясок и крестьянских телег; приютившись как Бог послал, устраивали шумные сборища, "балы и маскерады, где, - вспоминал впоследствии Батюшков, - наши красавицы, осыпав себя бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрилях французских, во французских платьях, болтая по-французски Бог знает как, и проклинали врагов наших" {Соч., т. III, с. 268.}.
Во многих домах кипела большая игра. "Здесь довольно нас московских, - писал из Нижнего Карамзин. - Кто на Тверской или Никитской играл в вист или бостон, для того мало разницы: он играл и в Нижнем" {Письма к Дмитриеву, с. 168.}.
Это, впрочем, сказано о людях более спокойных; более горячие предавались азартным играм; A.M. Пушкин, тоже один из разоренных, в короткое время приобрел картами тысяч до восьми {Рус. Архив, 1866, с. 242.}. Иван Петрович Архаров, этот - по выражению князя Вяземского {Соч. кн. Вяземского, т. VIII, с. 370.} - "последний бургграф московского барства и гостеприимства, сгоревших вместе с Москвою в 1812 году", широко раскрыл двери своего богатого дома; на архаровских обедах, рассказывает наш поэт, - от псовой охоты до подвигов Кутузова все дышало любовью к отечеству; здесь, по преимуществу, сходилась вся Москва или, лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без куска хлеба, "и я, - прибавляет рассказчик, - хожу к ним учиться физиономиям и терпению. Везде слышу вздохи, вижу слезы и везде - глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: point de paix!" {Соч., т. III, с. 206; ср. с. 268.} Нередко собирались также у нижегородского вице-губернатора А.С. Крюкова, и на его ужинах В.Л. Пушкин, уже успевший сочинить стихотворное патриотическое приветствие нижегородцам, по старому обычаю потешал гостей чтением своих басен и французскими каламбурами.
Как ни любил Батюшков общественную жизнь, как ни способен он был, по своей художнической натуре, увлечься живописною пестротой этого московского табора на берегах Волги, но легкомыслие людей, не умевших остепениться в трудные минуты всенародного бедствия, утомляло его и болезненно отзывалось в его сердце. Великие события, совершавшиеся перед его глазами, настраивали его строго и возвышенно и заставляли искать беседы с людьми серьезными. В доме Карамзина он слышал сдержанные, но глубоко прочувствованные сетования на медленный и неопределенный ход дел. Как известно, и до войны, и при начале ее Карамзин не был за борьбу с Наполеоном, к которой - думал он - мы недостаточно приготовлены {Соч. кн. Вяземского, т. VII, с. 181.}.
Весь первый период военных действий - отступление внутрь страны, ряд кровопролитных, но нерешительных сражений и, наконец, очищение Москвы - казался ему оправданием его мнения. С мыслью об утрате древней столицы он долго не мог помириться и строго осуждал за то Кутузова {Письма Карамзина к Дмитриеву, с. 165, 168.}; все новые жертвы, требуемые от населения, также вызывали в нем горькое чувство, и оно еще более увеличивалось при мысли, что лично он оторван от своего любимого труда и, быть может, никогда уже не будет в состоянии возвратиться к нему. Если внутренне Карамзин не терял надежды на окончательное торжество России, то он долгое время опасался великого позора - преждевременного заключения мира - и только во второй половине октября, после того как до Нижнего Новгорода достигло известие о выходе Наполеона из Москвы, стал выражать уверенность, что Бог еще не совсем оставил Россию {Переписка Карамзина с братом - "Атеней", 1858, ч. III, с. 532.}.
Этот не чуждый пессимизма взгляд на события, быть может, не вполне удовлетворял нашего поэта. Его увлекающейся натуре сроднее был горячий, ничем не смущающийся патриотический пыл таких людей, как И.М. Муравьев-Апостол или С.Н. Глинка. По собственному признанию Муравьева, он так же, как Карамзин, пережил на берегах Волги, под давлением событий, ряд самых разнообразных чувствований - сначала уважения и трепета, потом надежды и наконец торжества; и он страдал душою при мысли о народном бедствии {Письма из Москвы в Нижний Новгород; письма 1-е и 2-е.}, но более всего впечатлительность его поражалась тем отсутствием русского самосознания, какое застал в нашем обществе наполеоновский погром. Из своей долгой жизни среди народов Запада, из знакомства с их языками и литературами Муравьев вынес редкое в те времена понимание идеи национальности и его глубоко оскорбляло то исключительное преклонение пред французскою культурой, которое так резко проявлялось в нашем высшем обществе. "Чему подражать! - говорил он. - В этом народе давно сердце высохло: не в состоянии более производить Расинов, он гордится теперь Кондорсетами, хладною философией исчисления, которая убивает воображение и вместе с ним вкус к изящному, то есть стремление к добродетели... Никогда Франция так не процветала, как под державою Людовика XIV или, лучше сказать, под министерством Кольберта... Вскоре после него ты усматриваешь, что музы уступают место софистам (философов давно не бывало во Франции)... Меркнет свет истинного просвещения, дарования употребляются как орудие разврата, и опаснейший из софистов, лжемудрец Фернейский, в течение полувека напрягает все силы необыкновенного ума своего на то, чтобы осыпать цветами чашу с ядом, уготованную им для отправления грядущих поколений... Неверие подъемлет главу свою и явно проповедует безбожие... Раскрывается пред тобою летопись революции, начертанная кровью человеческою... И теперь еще продолжается она во Франции, и без нее не атаманствовал бы Бонапарте! Светочи фурии не столько ужасны ему, как пламенник просвещения, и для того он употребляет все меры тиранства на то, чтобы сгустить мрак невежества над своими рабами и, если можно, распространить оный по всей земле, ибо он знает, что рабство и просвещение несовместны" {Письма в Нижний Новгород из Москвы, п. VI. - "Сын Отечества", 1813, ч. X, No 48, с. 101-103. Письма эти писаны Муравьевым уже в 1813 г., по отъезде из Нижнего, но, очевидно, содержат в себе мысли, выработавшиеся в авторе под впечатлением событий 1812 г. и более ранних.}.
На сборищах в Нижнем неоднократно происходили споры о вреде французского влияния на русское общество, и тут Муравьев-Апостол выступал горячим противником В.Л. Пушкина {Соч., т. III, с. 268.}.
И та страшная картина народного разорения, которую Батюшков видел в окрестностях Москвы, и те слухи и толки, которыми разменивались московские беглецы среди тревожного безделья нижегородской жизни, производили на нашего поэта сильнейшее впечатление. "Я слишком живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, - писал он Гнедичу в октябре 1812 года, - чтоб минуту быть покойным. Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством. Ах, мой милый, любезный друг, зачем мы не живем в счастливейшие времена! Зачем мы не отжили прежде общей погибели!" {Там же, с. 209.} Как некогда ужасы Французской революции поколебали гуманитарные убеждения юноши Карамзина и заставили его воскликнуть: "Век просвещения, не узнаю тебя, в крови и пламени не узнаю тебя, среди убийств и разрушения не узнаю тебя!" {Письма Мелодора к Филалету (1794 г.).} - так теперь Батюшков отступался от своих прежних сочувствий и идеалов. Та самая французская образованность, под влиянием которой он вырос и воспитался, представлялась ему теперь ненавистною: "Варвары, вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны! Хорошо и они нам заплатили! Можно умереть с досады при одном рассказе о их неистовых поступках" {Соч., т. III, с. 210.}. И не только Гнедичу, то же повторял он и Вяземскому, тому самому, с которым, прежде всего, теснее был связан сходством воззрений и складом образования: "Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук, все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды? Чем наслаждаться? А жизнь без надежды, без наслаждения - не жизнь, а мучение!" {Соч., т. III, с. 205--206.} В новом своем увлечении Константин Николаевич отдавал теперь справедливость Оленину, с которым прежде не соглашался в мнении о современных французах: "Алексей Николаевич, - писал он Гнедичу, - совершенно прав; он говорил назад тому три года, что нет народа, нет людей, подобных этим уродам, что все их книги достойны костра, а я прибавлю: их головы - гильотины" {Там же, с. 210--211.}. Точно так же и пламенная проповедь С.Н. Глинки против галломании и в защиту русской самобытности получила, под впечатлением борьбы с Наполеоном, новый смысл и значение в глазах Батюшкова. В былое время он осмеивал издателя "Русского Вестника" в своих сатирических стихах и письмах; но когда, еще будучи в Петербурге, Батюшков узнал о благородной патриотической деятельности Глинки среди московского населения и о пожаловании ему Владимирского креста "за любовь к отечеству, доказанную сочинениями и деяниями", он пожелал приветствовать его с получением этого высокого отличия {Там же, с. 200.}. Затем Батюшков встретился с Сергеем Николаевичем в Нижнем и, извиняясь перед ним за свои прежние шутки, сказал ему: "Обстоятельства оправдали вас и ваше издание". Бескорыстнейший человек, Глинка вполне забывал себя и свои частные нужды для общего патриотического дела; он оставил Москву в день вступления туда французов и после разных странствований, не ведая, где находится его семья, явился наконец в Нижний Новгород без денег, без необходимейших вещей, с одной рубашкой. Узнав об этом, Константин Николаевич поспешил к нему с посильною помощью: от имени неизвестного Глинке был доставлен запас белья {Записки о 1812 годе С. Глинки. СПб., 1836, с. 98.}.
Захваченный в водоворот событий, Константин Николаевич не мог возвратиться в Петербург из короткого отпуска, который был дан ему Олениным; он, впрочем, мог быть уверен, что ввиду чрезвычайных обстоятельств просрочка не будет поставлена ему в вину. Итак, он остался в Нижнем Новгороде, и здесь у него окончательно созрело решение определиться в военную службу {Соч., т. III, с. 211.}. Быть может, сперва он предполагал, подобно Карамзину, поступить в ополчение, которое, как тогда думали, двинется из Нижнего к Москве для выручки ее от неприятеля {Письма Карамзина к Дмитриеву, с. 165, 166.}; но плен Москвы кончился, и эта мысль была покинута. Затем однако представился другой случай: в Нижний приехал генерал А.Н. Бахметев, раненый под Бородиным; почтенный воин, оставшийся здесь для лечения, выразил готовность взять Батюшкова к себе в адъютанты {Полн. собр соч кн. Вяземского, т. II, с. 416.}. Однако прежде чем Батюшков облекся в военное платье, на долю его выпало немало хлопот: он дважды, в октябре и ноябре, ездил из Нижнего в Вологду, для свидания с родными и проживающим там Вяземским, и оба раза возвращался в Нижний чрез разоренную Москву {Рус. Архив, 1866, с. 231, 235; Соч., т. III, с. 213, 214.}. Поездки эти познакомили его со зрелищем народной войны, которою ознаменовался второй период нашей героической борьбы с Наполеоном.
Между тем ужасная война окончательно приняла благоприятный для нас оборот, разбитые остатки великой армии в исходе декабря покинули пределы России; общественная тревога улеглась и уступила место торжеству победы. Вместе с тем и москвичи стали разъезжаться из Нижнего Новгорода. Но Е.Ф. Муравьева не спешила отъездом, опасаясь зимней стужи {Соч., т. III, с. 216.}, как это обстоятельство, так и замедлившееся выздоровление Бахметева удерживали нашего поэта на берегах Волги; он еще находился там в исходе января и только месяц спустя, после разнообразных препятствий, пустился в Петербург. Еще раз на этом пути он посетил древнюю столицу; как бы невольною силою влекло его к ее развалинам, зрелище которых не выходило из его головы {Там же, с. 219.}; с болью сердца вспомнил он потом эти посещения в первом стихотворении, которое вылилось с его пера после страшной грозы Двенадцатого года:
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил,
Трикраты прах ее священной
Слезами скорби омочил
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней,
И там, где с миром почивали
Останки иноков святых,
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их,
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, -
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры. {*}