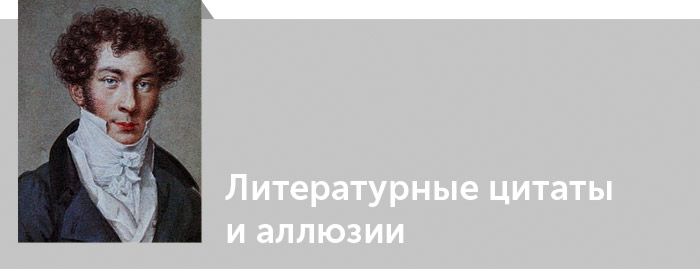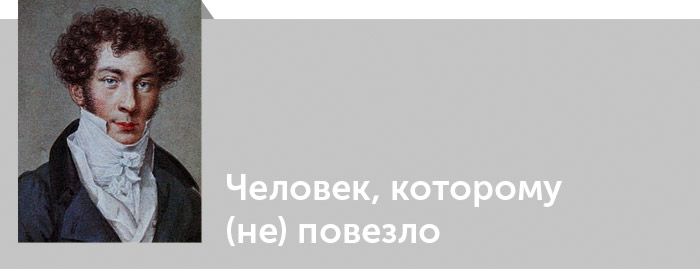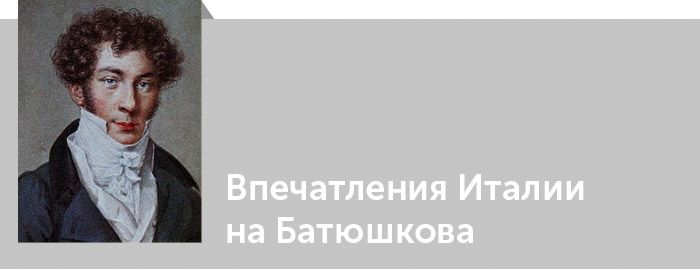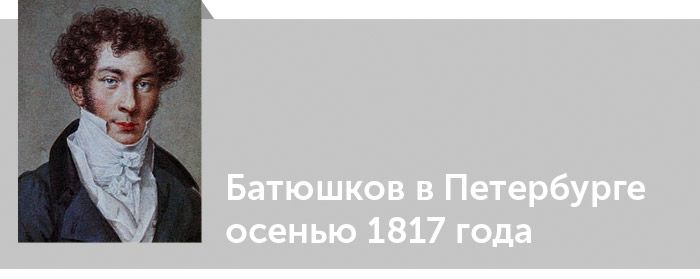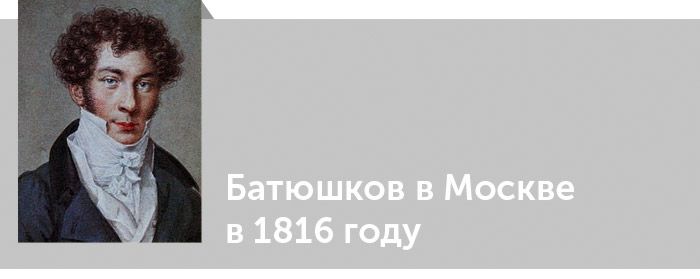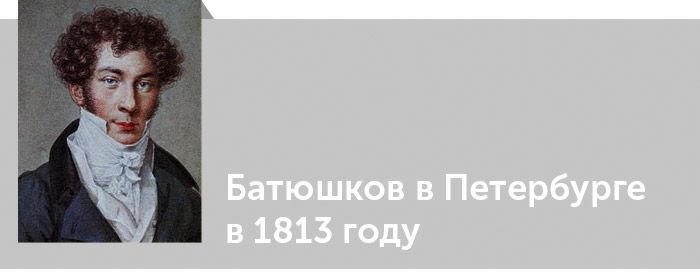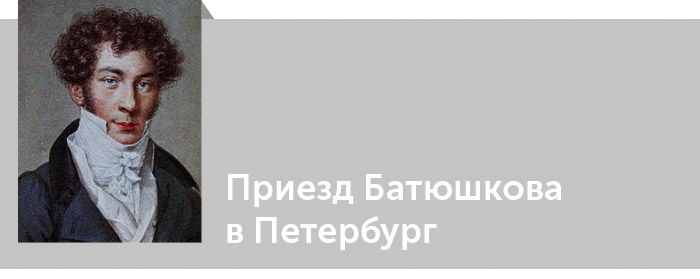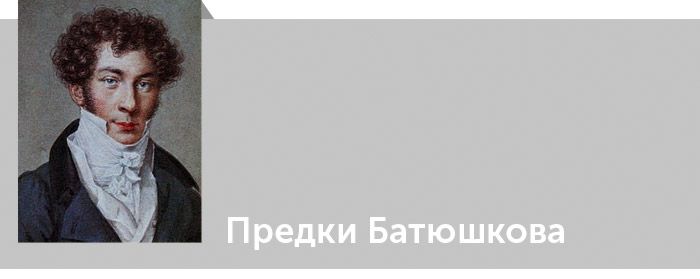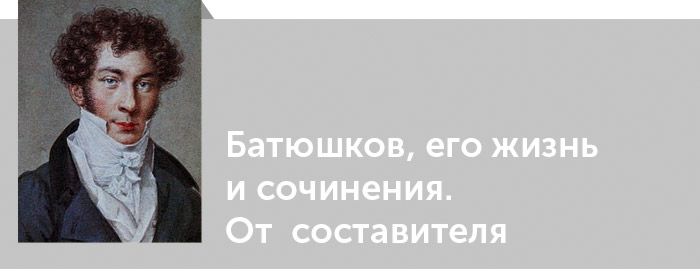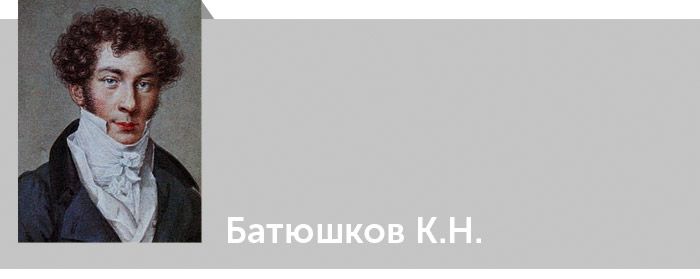Батюшков, его жизнь и сочинения. Начало службы Батюшкова
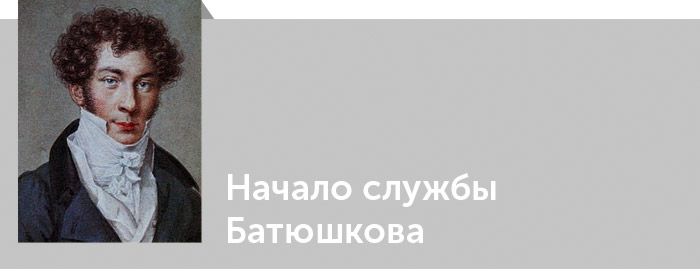
Глава II
Начало службы и первые литературные знакомства. - Светская жизнь в Петербурге. П.М. Нилова и А.П. Квашнина-Самарина. - Литературные партии в Петербурге. Противники Карамзина и его почитатели. Вольное Общество любителей словесности, наук и художеств. - Дружба Батюшкова с Н.И. Гнедичем. - А.Н. Оленин и литературный круг, собиравшийся в его доме
М.Н. Муравьев дал направление умственному развитию и нравственному характеру своего горячо любимого племянника; он же оказал ему покровительство и в чисто житейских обстоятельствах.
Несмотря на то что в первые годы текущего столетия жила в Петербурге старшая сестра Константина Николаевича, бывшая в замужестве за Абрамом Ильичом Гревенсом, и что к ней приезжали гостить две другие сестры, незамужние Александра и Варвара, юноша жил не с ними, а в доме М.Н. Муравьева, где его окружало скромное довольство и нежная заботливость счастливой родственной семьи: не только дядя, но и его супруга Екатерина Федоровна (рожденная Колокольцова), женщина умная и энергическая, боготворившая своего мужа и своих в то время еще малолетних детей, любила Константина Николаевича как родного сына. Лето 1802 года Батюшков провел с Муравьевыми на даче на Петергофской дороге {Соч., т. III, с. 68.}, а в конце того же года он был определен М.Н. Муравьевым на службу во вновь образованное министерство народного просвещения: здесь Батюшков состоял сперва в числе "дворян, положенных при департаменте", а потом перешел в канцелярию Муравьева письмоводителем по Московскому университету {Формулярный список К.Н. Батюшкова из архива Имп. Публ. Библиотеки}. Он, без сомнения, не был обременяем обилием канцелярских занятий; но при всем том служба эта очень не нравилась юноше, он был небрежен к ней, и эта небрежность поставила его в дурные отношения к ближайшему его начальнику, Николаю Назарьевичу Муравьеву, старшему письмоводителю или правителю попечительской канцелярии. Вот как рассказывал об этом столкновении несколько лет спустя сам Батюшков в одном письме к Гнедичу {Соч., т. III, с. 64-65.}: "Ник. Наз. Муравьев, человек очень честный и про которого я верно не скажу ничего худого, ибо он этого не стоит, наконец, Н.Н. Муравьев, негодуя на меня за то, что я не хотел ничего писать в канцелярии (мне было 17 лет), сказал это покойному Михаилу Никитичу, а чтобы подтвердить на деле слова свои и доказать, что я ленивец, принес ему мое послание к тебе, у которого были в заглавии стихи из Парни всем известные:
Le ciel, qui voulait mon bonheur,
Avait mis au fond de mon Coeur
La paresse et I'msouciance...1
1 Небо, которому хотелось моего счастья,
Вложило в глубину моего сердца
Лень и беззаботность (фр.).
"Что сделал Михаил Никитич? Засмеялся и оставил стихи у себя"... Очевидно, снисходительный дядя сквозь пальцы смотрел на служебную неисправность своего племянника, и последний справедливо мог считать себя его "баловнем" {Соч., т. III, с. 67.}. К тому же Михаил Никитич знал, что юноша не все же предавался праздности: ленивый к канцелярской работе, он трудился по-своему, занимался довершением своего образования и стал обнаруживать литературные наклонности.
Между сослуживцами Батюшкова по департаменту народного просвещения было несколько молодых людей, которые испытывали свои силы на литературном поприще: И.П. Пнин, НА. Радищев, Д.И. Языков и с 1803 года - Н.И. Гнедич; директор канцелярии министра (графа П.В. Завадовского) также был писатель и журналист - И.И. Мартынов, приобревший впоследствии известность своим переводом греческих классиков. Не удивительно поэтому, что Батюшков, вращаясь в такой среде и, сверх того, поощряемый дядей, стал писать стихи: это само собою вытекало из условий полученного им, по преимуществу, литературного образования. Но замечательно, что уже в первом дошедшем до нас его стихотворении, написанном в 1802 году или никак не позже 1803 ("Мечта"), обнаруживаются яркие признаки таланта: стих еще нетверд и не всегда плавен, но не лишен красивости, изложение богато образами и проникнуто неподдельным воодушевлением; в обращении автора к мечте, украшающей его существование, слышится как бы впервые сознающее себя вдохновение поэта.
Первое стихотворение Батюшкова носит на себе меланхолический характер, но меланхолия эта едва ли порождена впечатлениями личной жизни поэта; если в его элегии слышно безотчетное томление молодой души, то вместе с тем отзывается и повторение чужих поэтических мотивов. Одним из первых проявлений того смутного настроения духа, которое составляет отличительную черту новой европейской поэзии, были песни так называемого Оссиана - смелая подделка под древнюю кельтскую поэзию, в которой даровитый шотландец Макферсон желал изобразить людей первобытных нравов, но одаренных нужною чувствительностью и гордым рыцарским благородством, живущих среди суровой северной природы, под тяжелым господством какого-то неведомого рока, беспощадно губящего лучшие порывы души. Такие образы и картины нравились по своей новости читателям того времени; как известно, Наполеон предпочитал Оссиана Гомеру; Ермолов перелистывал его накануне Бородинского сражения {Записки Н.Н. Муравьева. Рус. Архив, 1885, No 10, с. 258.}. Г-жа Сталь в своей известной книге "De la litterature" сказала, что поэмы Оссиана "потрясают воображение, располагая ум к самым глубоким размышлениям". Эта-то несколько манерная, но своеобразная поэзия и оказала влияние на вдохновение начинающего автора; но притом заимствованные из нее черты он стремился сочетать с образами совсем другого мира, также знакомого ему литературным путем, мира классической древности. Так две далекие одна от другой поэтические струи - мечтательность и непосредственное наслаждение жизнью - скрещиваются в первом поэтическом создании Батюшкова, и их неожиданное сочетание характеристически определяет будущее развитие его творчества.
Не следует, однако, думать, чтобы та грустная нота, которая звучит в первой элегии Батюшкова, была преобладающей во всех ранних его стихотворениях. Напротив того, если судить по другим его пьесам, дошедшим до нас из того времени, ему жилось тогда беззаботно и покойно; поэтому можно придавать автобиографическое значение и тем словам одной позднейшей прозаической его статьи, где он вообще говорит о юности как о такой поре жизни, когда "человек, по счастливому выражению Кантемира, еще новый житель мира сего, с любопытством обращает взоры на природу, на общество и требует одних сильных ощущений; он с жадностью пьет в источнике, и ничто не может утолить его жажды: нет границ наслаждениям, нет меры требованиям души новой, исполненной силы и не ослабленной опытностью, ни трудами жизни" {Соч., т. II, с. 127.}. Такое именно упоение радостями бытия звучит в следующих стихах первого послания Батюшкова к Гнедичу (1805 г.), где восемнадцатилетний поэт описывает отсутствовавшему в ту пору другу, как он проводит время:
...твой на севере приятель,
Веселый и любви своей летописатель,
Беспечность полюбя, забыл и Геликон.
Терпенье и труды ведь любит Аполлон,
А друг твой славой не прельщался,
За бабочкой смеясь гонялся,
Красавицам стихи любовные шептал
И, глядя на людей, на пестрых кукл, мечтал:
"Без скуки, без забот не лучше ль жить с друзьями,
Смеяться с ними и шутить,
Чем исполинскими шагами
За славой побежать и в яму поскользить?"2
2 Там же, т. I, с. 24-25.
Другое стихотворение того же времени, "Совет друзьям", развивает ту же мысль о мирном наслаждении жизнью, среди веселий и забав, мешая мудрость с шутками.
Конечно, и в этих юношески-эпикурейских воззрениях нашего поэта нельзя отрицать некоторой доли литературного влияния. Он еще не в состоянии был возвыситься до глубокой мысли Андрея Шенье:
Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques, -
и, стремясь выработать классическую форму, усваивал себе и содержание своих образцов: в его стихах находит себе отражение и поэтический эпикуреизм Горация и то легкое воззрение на жизнь, какое встречается у некоторых французских лириков прошлого века. Но, очевидно, не в противоречии с ним было собственное душевное настроение нашего поэта: житейские заботы не тревожили его молодого сердца, и он действительно всею душой предавался радостям жизни.
Но воспитанник человека истинно просвещенного и глубоко гуманного, человека, который считал своим долгом поощрить, взлелеять всякое замеченное им дарование, не мог удовлетворяться тем пустым образом жизни, какой вело большею частью тогдашнее светское общество. В одном из своих стихотворений того времени (в "Послании к Хлое") Батюшков довольно удачно набросал некоторые черты этого быта и отнесся сатирически к его бессодержательности и некоторой грубости. Немного позже, в одном письме к Гнедичу, он говорит, что "свет кинкетов никогда не прельщал его" {Соч., т. III, с. 76.}. И действительно, он неохотно посещал большие собрания, не любил танцев, не увлекался карточною игрой, не имел пристрастия к охоте и тому подобным удовольствиям. Зато в доме дяди, который был в дружеской связи со многими лучшими людьми своего времени, в гостиной которого охотно собирались Г. Р. Державин, Н. А. Львов {Н.А. Львов, большой приятель М.Н. Муравьева, умер в 1803 году. С сыном его, Леонидом Николаевичем, Батюшков находился в приятельских отношениях с ранней молодости.}, В. В. Капнист, А. Н. Оленин, граф А. С. Строганов, И. М. Муравьев-Апостол, наш юноша находил высокий уровень умственных интересов. Кроме того, он, посещал еще несколько домов, где встречал общество более молодое, среди которого не только ум его находил себе пищу, но и сердце могло искать себе сочувствия. Особенно нравилось ему бывать в семействе Ниловых и у А. П. Квашниной-Самариной.
Петр Андреевич Нилов был тамбовский помещик, сын старого приятеля Державину, Андрея Матвеевича Нилова. Он получил образование под руководством своей матери, умной и просвещенной женщины {Елизавета Корнильевна Нилова, рожденная Бороздина, известна своими переводами; несколько сведений о ней находится в примечаниях Я.К. Грота к академическому изданию сочинений Державина, а также в письмах князя П.Д. Цицианова к В.Н. Зиновьеву (Рус. Архив, 1873, ст. 2109). Отец Е.К. Ниловой, К.М. Бороздин, был отличный артиллерийский генерал, участник Семилетней войны, замеченный по своим способностям еще Петром Великим (Энциклопедический лексикон Плюшара, т. VI). Племянник Е.К. Ниловой, сын ее брата Константин Матвеевич Бороздин, известный своим археологическим путешествием по России в начале нынешнего столетия, принадлежал к числу ранних и близких знакомых Батюшкова.}, и был любезный человек и гостеприимный хозяин; в 1799 году он женился на одной из родственниц Державина, Прасковье Михайловне Бакуниной. Она доводилась двоюродною сестрой второй жене Гавриила Романовича и до замужества своего жила в его доме; в то время старый поэт посвятил ей стихотворение, начинающееся следующими строками:
Белокурая Параша,
Сребророзова лицом,
Коей мало в свете краше
Взором, сердцем и умом.
Действительно, Прасковья Михайловна была прекрасна и наружностью, и своими душевными качествами: при необыкновенной доброте, при открытом, благородном характере она обладала большим умом и разнообразными талантами: она писала стихи, прекрасно пела и играла на арфе; разговор ее был жив, занимателен и остроумен {О М.И. и П.М. Ниловых см.: Сочинения Державина, 1-е акад. изд., т. II, с. 184 - 186; Дневник чиновника С.П. Жихарева - Отеч. Записки, 1855, т. CI, с. 390; Де-Пуле. Отец и сын - Рус. Вестн., 1875, No 7, с. 80-81; Грибоедовская Москва. Письма М.А. Волковой. - Вестн. Евр., 1874, No 8, с. 616.}.
В первые годы нынешнего столетия П.А. Нилов служил в Петербурге. Как богатые светские люди, Ниловы вели открытый образ жизни; по словам Батюшкова, в их доме "время летело быстро и весело" {Соч., т. III, с. 37.}.
Кажется, что юноша был даже неравнодушен к прекрасной хозяйке, "редкой женщине", как он сам ее называл впоследствии; но это было лишь робкое, тайное поклонение, которое он сам несколько лет спустя охарактеризовал следующими стихами:
J'aimai Themire,
Comme on respire,
Pour exister*.
{Там же, с. 85
Я любил Темир,
Как дышат,
Чтобы жить (фр.).}
Если не ошибаемся, о том же сердечном увлечении вспоминал он и тогда, когда в одном позднейшем письме к Гнедичу говорил, что в былое время он "любил увенчанный ландышами, в розовой тюнике, с посохом, перевязанным зелеными лентами - цветом надежды, с невинностью в сердце, с добродушием в пламенных очах, припевая: "Кто мог любить тебя так страстно", или: "Я не волен, но доволен", или: "Нигде места не найду" {Соч., т. III, с. 35.}. Очевидно, это было очень молодое чувство, даже не требовавшие взаимности, которой и не могло ожидать. Впрочем, и впоследствии, когда Ниловы оставили Петербург, Батюшков очень интересовался ими, писал к ним и говорил, что Прасковью Михайловну "опасно видеть" {Там же, с. 70.}.
К одному кругу с Ниловыми принадлежала и Анна Петровна Квашнина-Самарина. Дочь сенатора Петра Федоровича, одна из последних фрейлин, пожалованных в это звание императрицей Екатериной45, она не была замужем. Не знаем, отличалась ли она красотой, но ее живой ум, любезность и тонкий вкус собирали около нее многочисленных поклонников: Н.А. Львов любил ее беседу; В.В. Капнист был усердным ее почитателем; ухаживал за нею и старик Державин; он сам говорил об этом в одном письме к Капнисту, "но, - прибавляет, - она так постоянна, как каменная гора; не двигнется и не шелохнется от волнующейся моей страсти, хотя батюшка и матушка и полой отдают" {П.Ф. Карабанов. Статс-дамы и фрейлины Высочайшего двора. - Рус. Старина, 1871, т. IV, с.403.}. Особенную оригинальность Анне Петровне придавало то, что со светскою любезностью, с литературным образованием она соединяла большой житейский такт и самостоятельность характера. "Анна Петровна, - писал однажды Державин к Капнисту (1802 г.), - великая стала ябедница: все долги отцовские и материнские привела в порядок, частию заплатила, а частию рассрочила и, будучи по доверенности родителей полновластная хозяйка, поехала теперь в Москву и в свои деревни, в первой - с остальными кредиторами разделаться, а во вторых - сделать экономию. Вот каково ныне в свете: сорока побелела, и женщины стали дельцы" {Сочинения Державина, 1-е акад. изд., т. IV, письмо No 1026.}. Это характерное замечание свидетельствует, что стариков поражала практическая сметливость в уме Анны Петровны. Но Батюшкову, который был значительно моложе Самариной, эта черта ее характера представлялась лишь новым ее достоинством: он одинаково ценил и ее литературное чутье, и ее житейский такт; даже в более поздний период своей литературной деятельности он сообщал ей свои произведения, дорожил ее суждениями о них и в то же время искал ее совета и содействия для устройства своей будущности. "Я душою светлею, когда ее вспоминаю", - говорил он, будучи вдали от нее {Сочинения Державина, 1-е акад. изд., т. IV, письмо No 1034.}. Анна Петровна казалась ему лучшею представительницей той светской образованности, той urbanite, которой он придавал большое значение для развития изящной словесности.
И действительно, такие женщины, как П.М. Нилова и А.П. Квашнина-Самарина, были, без сомнения, не совсем обыкновенными явлениями в тогдашнем обществе. По своему умственному складу они служат представительницами того нового общественного настроения, которое стало обнаруживаться у нас в исходе прошлого века с общими успехами просвещения и главным образом под влиянием так называемого сентиментализма. В течение всего XVIII века в нравах даже высших слоев патриархальная суровость уживалась с грубою распущенностью, пока сентиментальное направление не противопоставило естественных влечений сердца холодной рассудочности житейских отношений и не обуздало до некоторой степени распущенности нравов идеализацией чувства. Отношения к женщинам стали приобретать уже иной характер - более утонченный и в то же время более свободный, романический, как его стали называть тогда же, потому что главным проводником сентиментализма служила обильно распространенная и жадно читаемая романическая литература. При таких усложнениях начала складываться салонная жизнь, в которой могло быть отведено место изящным удовольствиям и живой беседе о предметах отвлеченного интереса. Все это, разумеется, совершалось под иностранным влиянием, и самый сентиментализм почерпался из французских книг; в светском обществе больше говорили по-французски, чем по-русски, национальное чувство было подавлено, и сознание своей народной самобытности улетучивалось; но, несомненно, общественные нравы смягчались и образование ума и сердца делало успехи.
Современник этих изменений в нравственной жизни общества, Батюшков, можно сказать, вырос и развился уже в атмосфере более утонченных умственных потребностей и интересов; они-то и дали его произведениям тот характер, который отличает их от литературной деятельности прежних поколений. "Я думаю, - писал он однажды Гнедичу (в 1809 году), - что вечер, проведенный у Самариной или с умными людьми, наставит более в искусстве писать, чем чтение наших варваров... Стихи твои будут читать женщины... а с ними худо говорить непонятным языком" {Соч., т. III, с. 66.}.
Даже впоследствии, когда его понятия о поэтическом творчестве стали и шире, и глубже, он возвращался к той же мысли и высказал ее, только в более обобщенной форме, в своей речи "о легкой поэзии" (в 1816 году). "Сей род словесности, - говорит он здесь, - беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть верным его зеркалом. Большая часть писателей (русских второй половины XVIII столетия) провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людскость и вежливость, это благородство, которых отпечаток мы видим в их творениях; в лучшем обществе научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно" {Соч., т. III, с. 47.}. Рассуждение это, конечно, далеко от истины в историческом смысле; но если мы применим к самому Батюшкову то, что он приписывает своим предшественникам, то замечания его получат цену: сам он хотя и не чужд был подражательности в своих первых опытах, никогда не писал под ферулой школы, заботясь лишь о соблюдении правил, узаконенных пиитикой. В своих стараниях о совершенстве формы он с первых опытов творчества действительно обнаружил стремление выражаться просто, ясно и легко, говорить языком живых людей, а не книги. Мы уже заметили выше, что занятия римскими классиками и близкое знакомство с французскою словесностью должны были утвердить его в этом стремлении; в Горации, в особенности в его сатирах и посланиях, наш поэт мог найти лучшее выражение римской urbanitas, то есть того изящества и чувства меры в литературной речи, которые - как думал Батюшков - приобретаются только среди образованного светского общества. В том же смысле послужил образцом для нашего поэта и Вольтер своими мелкими лирическими пьесами. Но, кроме того, Батюшков отделился от преданий школьной пиитики еще в другом отношении: с самого начала своей поэтической деятельности он выражал в своих произведениях лишь то, что думал и чувствовал, что действительно переживал своим молодым сердцем, вращаясь в известной общественной среде. "Живи как пишешь и пиши как живешь: иначе все отголоски твоей лиры будут фальшивы". Это убеждение Батюшков высказывает в одной из позднейших своих статей {Соч., т. II, с. 120.}, но, очевидно, мысль эта рано созрела в его уме: после немногих еще несамостоятельных попыток в разных родах (торжественная ода, сатира) он скоро замкнул свою деятельность в области интимной лирики, к которой одной чувствовал призвание, и в этой сфере успел развить всю самостоятельность своего дарования.
Таковы были первые шаги, которыми обозначилось внутреннее развитие поэтического таланта Батюшкова. Молодой поэт не решался печатать свои произведения {Об этом свидетельствует С.П. Жихарев со слов Гнедича (Дневник чиновника. - Отеч. Записки, 1855, т. CII, с. 376).}, вообще выступал на литературное поприще осторожно, шел иногда ощупью, но с верным предчувствием чего-то нового, чуждого прежней литературной производительности. А между тем при тогдашних условиях литературной жизни самобытное развитие таланта встречало большие препятствия. Оригинальность в творчестве ценилась всего менее, за то требовалось строгое соблюдение правил, установленных господствовавшей теорией, и искусное подражание тем писателям, произведения которых были провозглашены образцовыми. "Tous les vers sont faits", - говорил старик Фонтань при появлении первого сборника стихотворений Ламартина. Так же, в сущности, рассуждали и наши аристархи начала нынешнего столетия. В особенности эта косность литературных суждений господствовала в петербургских литературных кружках.
В то время как в Москве Карамзин, давая свободу и живость своей литературной речи, вместе с тем увлекал читателей гуманною чувствительностью своих рассказов, а Дмитриев, остроумно осмеяв тяжелую напыщенность прежнего стихотворства, старался сообщить легкость и плавность русскому стиху, - в Петербурге продолжали усердно сочинять по старым образцам высокопарные оды, плаксивые элегии и холодные сатиры. При отсутствии здесь свежих дарований, при полном почти незнакомстве с новыми явлениями иностранной словесности интересы литературные, хотя и заметно возбужденные в известной части общества, сосредоточивались преимущественно на вопросах языка, слога и литературной формы, да и в этой области свободное творчество поэта всегда могло столкнуться с требованиями педантической рутины.
В одном из первых своих стихотворений, в послании "К стихам моим", Батюшков высказал свой взгляд на тогдашнюю словесность: он смеется над бездарными стихотворцами и указывает на общее фальшивое настроение литературы, на ее неискренний, напыщенный тон; сознание этих недостатков находится в прямой связи с отмеченным уже нами стремлением молодого поэта к простоте и естественности; самое же стихотворение вводит нас отчасти в тот круг писателей, с которыми был в сношениях Батюшков при начале своей литературной деятельности помимо дома М.Н. Муравьева.
Появление книги Шишкова о старом и новом слоге (1803 г.) дало повод к образованию в среде писателей двух партий, которые на долгое время разделили нашу литературу. Предпринятое Карамзиным сближение книжной речи с разговорною казалось старшему поколению писателей ересью, которая грозит самыми опасными последствиями. Знакомство Русского Путешественника с иностранною литературой считалось вольнодумством и развращением умов. Шишков в своей книге выступил обвинителем Карамзина, но поставил вопрос неловко и повел нападение неискусно. В вопросе собственно о слоге он не уразумел главного - что изменение литературной речи находится в прямой зависимости от успехов просвещения; внутреннее же содержание карамзинского направления он и не пытался уяснить себе: в то самое время, как Карамзин горячо и талантливо развивал мысль о русской самобытности, Шишков приписывал антинациональный характер его стремлениям и идеям. Около Шишкова сгруппировались довольно многочисленные единомышленники, которые вторили его суждениям и, применяясь к его учению, уснащали славянизмами свои писания. Но все это были люди без дарований и большею частью без основательного образования, не давшие литературе ни одного замечательного произведения. Таким образом, напыщенное, безвкусное и, в сущности, бессодержательное направление этого кружка определилось с первых же годов XIX века, гораздо прежде, чем он обратился в настоящую Беседу любителей русского слова (в 1811 году). Сама собою должна была явиться оппозиция Шишкову и его сторонникам. Его направление было слишком косное, слишком мало давало пищи умам, тогда как ласкающий душу сентиментализм повестей Карамзина, занимательность его путевых писем, а главное - его живая и свободная речь имели подкупающее, чарующее действие.
Молодые писатели и в Петербурге невольно становились учениками Карамзина, если не по образу мыслей, то в слоге. Еще в 1798 году в С.-Петербургском Журнале, который издавал И.П. Пнин, были напечатаны следующие хвалебные стихи "к сочинениям г. Карамзина":
Гремел великий Ломоносов
И восхищал сердца победоносных россов
Гармониею струн своих.
"В творениях теперь у них
Пусть нежность улыбнется,
В слезах чувствительных прольется",
Сказали грации - и полилась она
С пера Карамзина*.
{С.-Петерб. Журнал, 1798, ч. II, с. 122.}
В 1801 году несколько молодых петербургских литераторов положили основание Вольному Обществу любителей словесности, наук и художеств. В его составе и в его изданиях встречаем имена И. П. Пнина, А. Х. Востокова, И. М. Борна, В. В. Попугаева, Д. И. Языкова, Н. Ф. Остолопова, Н. А. Радищева, Н. П. Брусилова, А. П. Беницкого. Особенно выдающихся талантов в этом кружке не было, но было неподдельное молодое увлечение литературными интересами. Здесь-то и проявилось в Петербурге впервые живое сочувствие Карамзину. Это видно, между прочим, по первому году "Северного Вестника", одного из лучших тогдашних журналов, который издавался в 1804 и 1805 годах И. И. Мартыновым и в котором члены Вольного Общества помещали свои произведения. В первой же книжке "Северного Вестника" на 1804 год напечатан был неблагоприятный разбор книги Шишкова о старом и новом слоге, написанный Д. И. Языковым, и в следовавших затем номерах журнала не раз высказывались похвалы Карамзину {Например, "Северный Вестник", 1804, ч. 1, с. 63, 114, 231 и т. д.}. Служба в одном ведомстве с несколькими из членов Вольного Общества и еще более - общность литературных интересов сблизили Батюшкова с этим литературным кружком, и хотя в 1803-1805 годах мы не видим его имени в списке членов Вольного Общества {Списки эти печатались в адрес-календарях начиная с 1804 г., но едва ли в полном виде: имени Батюшкова нет ни в одном из списков, а между тем, как увидим далее, достоверно известно, что он был членом Вольного Общества, например, в 1812 году.}, но можем с уверенностью сказать, что в то время Константин Николаевич был в частых сношениях с этими молодыми представителями литературы в Петербурге. Это доказывается и первым появлением его стихотворения в печати, на страницах "Северного Вестника", и стихами на смерть Пнина, который был председателем Вольного Общества в 1805 году, и, наконец, совпадением взгляда Батюшкова на Шишкова и его сторонников с мыслями, изложенными в упомянутой критике Языкова. Бездарные Плаксивин и Безрифмин, осмеянные Батюшковым в послании "К стихам моим", это - два стихотворца, пользовавшиеся особенным покровительством Шишкова - Е. И. Станевич и князь С. А. Ширинский-Шихматов. А следующие два стиха того же послания:
Иному в ум прийдет, что вкус восстановляет.
Мы верим все ему - кругами утверждает... -
заключают в себе насмешливый намек на самого Шишкова, как то видно из примечания к последнему стиху, сохранившегося в рукописном тексте сатиры: "Всем известно, что остроумный автор Кругов бранил г. Карамзина и пр. и советовал писать не по-русски".
Автором "кругов" Шишков назван потому, что в книге о старом и новом слоге он сравнивает развитие значений известного слова с кругами, расходящимися на поверхности воды, когда в нее брошен камень {Рассуждение о старом и новом слоге. СПб., 1803, с. 30.}. По всей вероятности, сравнение это немало забавляло противников Шишкова; над его "замысловатостью" не упустил потешиться и Языков в своем разборе знаменитого рассуждения {"Северный Вестник", 1804, ч. I, с. 37, 38. Шишков серьезно отвечал на шутку Языкова, причем объяснял, что сравнение принадлежит не ему, а Эйлеру, который в своих "Письмах о физике к одной немецкой принцессе" объяснял логические понятия кругами (см. Прибавление к сочинению, называемому: Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1804, с. 74). Шишков долго не мог простить Языкову его полемику (см. второй "Словарь достоп. людей Русской земли" Д. Бантыша-Каменского, т, III, с. 587).}.
Как ни ограниченна, ни скромна была деятельность Вольного Общества, в ней замечалось два оттенка или, лучше сказать, две струи: одна - собственно литературная, другая - социально-политическая. Собственно литературное направление Общества выражалось сочинением и разбором разных литературных произведений, большею частью стихотворных, в господствовавшем тогда чувствительном вкусе; интересы же социально-политические проявлялись в том, что члены читали в своих собраниях переводы из Беккарии, Филанжиери, Мабли, Рейналя, Вольнея и других свободомыслящих историков и публицистов XVIII века, а иногда и свои собственные статьи на такие темы: о влиянии просвещения на законы и правления, о феодальном праве, о разделении властей человеческого тела и т. п. Главными ревнителями этого направления в Обществе были члены И.М. Борн, В.В. Попугаев и И.П. Пнин. От теоретических рассуждений предполагалось перейти и к практике, именно - с учено-литературными занятиями соединить деятельность филантропическую; но обстоятельства помешали осуществить это намерение. Одною из характерных черт господствовавшего в Обществе настроения было глубокое уважение членов к известному автору "Путешествия из Петербурга в Москву", А.Н. Радищеву, сосланному в Сибирь при Екатерине, возвращенному при Павле, но окончательно прощенному только при Александре. Строки, исполненный горячего сочувствия к Радищеву и написанные Борном и Пниным, помещены в "Свитке муз", сборнике, изданном от Общества в 1803 году {Книжка 2-я, с. 136-144.}. "Северный Вестник", который по своему направлению и содержанию был очень близок к настроению и деятельности Вольного Общества, воспроизвел даже на своих страницах, в 1805 году, одну из лучших глав "Путешествия" ("Клин"), дав ей заглавие "Отрывок из бумаг одного россиянина" и присовокупив к ней следующее примечание: "Читатели найдут в сем сочинении не чистоту русского языка, но чувствительные места. Издатели смеют надеяться, что тени усопшего автора первое будет прощено для последнего" {"Сев. Вестник", 1805, ч. V, с. 61.}.
Из этих слов, между прочим, видно, что младшие современники - почитатели Радищева, восхищаясь его пламенными гражданскими чувствами, благородным образом мыслей, признавали его, однако, плохим стилистом. И тем не менее авторитет его был так силен для них, даже в собственно литературных вопросах, что влиянию его примера (поэма "Бова") и еще больше - его теоретических рассуждений не менее, чем примеру Карамзина ("Илья Муромец", 1795 г.) и Н. Львова ("Добрыня") {Первая часть этой поэмы появилась в печати только в 1804 г., в журнале "Друг просвещения", ч. III.}, следует приписать появление у нас, в первые годы XIX столетия, многих произведений, написанных дактилическим размером или так называемым русским складом. Введение новых размеров составляет обыкновенно одну из примет для эпох литературного обновления. В русском стихотворстве после Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова упрочился ямб и частию хорей, другие же размеры почти никогда не употреблялись. Но как только псевдоклассицизм стал утрачивать свое исключительное господство, как в литературе стали обнаруживаться признаки иного направления, явились попытки нововведений и в стихосложении. Радищев еще в своем "Путешествии" (в главе "Тверь") заметил, что Ломоносов, "подав хорошие примеры новых стихов" ямбического размера, "надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул". Сумароков, говорит далее Радищев, употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтоб другие стихи быть могли как ямбы, такие, какими писали сии оба знаменитые мужи... Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, к тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера. Позже Радищев занялся изучением размера наших народных песен и, как мы уже сказали, в своем "Бове" дал образчик поэмы, написанной "русским складом". Но еще до напечатания (в 1806 г.) этих позднейших его опытов его призыв к нововведениям в стихосложении оказал свое действие. Один из членов того кружка молодых петербургских литераторов, где особенно почиталась память Радищева, А.Х. Востоков занялся теорией Русского стихосложения и также увлекся "русским складом": так написана им древняя повесть "Певислад и Зора" (1804 г.) {Повесть эта напечатана в Периодическом издании Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств 1804 г., без имени автора; но принадлежность ее Востокову засвидетельствована "Сев. Вестником" того же года, ч. II, с. 120. Востоков начал заниматься теорией русского стихосложения очень рано, но его исследование об этом предмете было напечатано только в 1812 г. в Санкт-Петербургском Вестнике (ч. II, который издавало тогда Вольное Общество). Здесь (с. 55-59) Востоков повторяет и отчасти развивает мысли Радищева, приведенные нами в тексте. Рассмотрев подробно особенности "русского размера", он замечает: "Теперь предстоит вопрос: заслуживает ли русский размер употреблен быть в новейшей поэзии? Утвердительным уже ответом на сей вопрос можно почесть благосклонный прием разных произведений новейшей литературы, писанных русскими стихами. Сии и дальнейшие опыты всего лучше покажут достоинства русского размера и к какому роду стихотворений может он быть пригоден" (с. 280). В 1815 году, во время споров о русском гекзаметре по поводу предпринятого Гнедичем перевода "Илиады", С.С. Уваров также ссылался на рассуждения Радищева, "о котором российские музы не без сожаления вспоминают" (см. "Ответ В.В. Капнисту на письмо его об экзаметре в 17-й книге Чтений в "Беседе любителей русского слова", с. 58-61).}. Тот же размер употребил и Гнедич в своих переводах из Оссиана (1804 г.). При одном из них, помещенном в "Северном Вестнике", находим следующее любопытное примечание переводчика: "Мне и многим кажется, что к песням Оссиана никакая гармония стихов так не подходит, как гармония стихов русских" {"Сев. Вестник", 1804, ч. I, с. 65.}. По следам своих литературных сверстников пошел и Батюшков: "русский склад" употреблен им в одном из стихотворений, написанных в период 1804 - 1805 годов, в послании "К Филисе". Появление этого размера в пьесе, где его всего менее можно было бы ожидать в стихотворении, составляющем подражание Грессе (весьма, впрочем, отдаленное), доказывает, что Батюшков был крайне увлечен тогда этим нововведением. Впоследствии, однако, он уже не возвращался к употреблению "русского склада", не любил и вообще белых стихов {Соч., т. III, с. 63.}; но замечательно, что до последних лет своей литературной деятельности он сохранял особенный интерес к тому писателю, от которого пошел почин этого нововведения: собираясь в 1817 году писать очерк новой русской литературы, он имел намерение посвятить особый параграф Радищеву. Косвенно это может служить доказательством, что в молодости своей Батюшков разделял со своими литературными сверстниками уважение к этому смелому представителю освободительных идей XVIII века в русской литературе.
Для характеристики литературных понятий и нравов, господствовавших в Петербурге, необходимо, однако, заметить, что прогрессивное направление, которому сочувствовала здесь литературная молодежь, с трудом прокладывало себе путь в обществе. Тот же самый "Северный Вестник", который в начале 1804 года напечатал статью против Шишкова, за Карамзина, уже во второй половине того же года принужден был поместить на своих страницах насмешливые отзывы об авторе "Бедной Лизы" {"Сев. Вестник", 1804, ч. II, с. 111. Эта статья "Вестника" подала повод к ответу, который появился в издававшемся в Риге журнале пастора Гейдеке: Russische Merkur, 1805, No 2, с. 49-64. Статья немецкого журнала защищает не только слог Карамзина, но и образ его мыслей. В московских литературных кружках ее приняли с большим сочувствием (С.П. Жихарев. Записки современника. I. Дневник студента, с. 289-294).}; в этом, без сомнения, должно видеть уступку тем враждебным Карамзину мнениям, которые высказывались в Петербурге разными сановными словесниками. При таких обстоятельствах в среде самой петербургской молодежи обнаружилось некоторое разделение, и в 1805 году, рядом с "Северным Вестником" появилось другое периодическое издание, также орган молодых литературных сил. То был Журнал российской словесности, основанный Н.П. Брусиловым. Батюшков, не покидая "Северного Вестника", печатал свои произведения и в журнале Брусилова и посещал его дом, где собирались разные молодые литераторы. Сам Брусилов, писатель мало замечательный, был прекрасный человек - благородный, правдивый, чувствительный и добрый товарищ {Дневник чиновника, С.П. Жихарева. - "Отеч. Записки", 1855, т. CI, с. 392; Н.И. Греч. Записки о моей жизни, с. 210.}; наиболее же авторитетным лицом в его кружке был уже упомянутый нами И.П. Пнин, пользовавшийся особенным уважением друзей за свой просвещенный и независимый образ мыслей. В начале 1805 года он был избран председателем Вольного Общества любителей словесности и действительно намеревался придать больше жизненности и пользы трудам этого учреждения, которого деятельность еще недостаточно определилась. Но вышло иначе: 17 сентября 1805 года он скончался от чахотки, на 33-м году своей жизни. Преждевременная смерть его вызвала усиленную деятельность тогдашних стихотворцев. Среди этих пьес, в которых прославлялось преимущественно гражданское направление умершего писателя, выделяется своею простотой и искренностью небольшая элегия Батюшкова: в ней молодой поэт живыми чертами изображает отшедшего друга, в котором он умел одинаково ценить и гражданскую доблесть, и горячность дружеского чувства, и осенявшее его благоволение "нежных муз".
Смерть Пнина в самом деле была большою потерею для Вольного Общества. Лишившись просвещенного и энергического руководителя, оно вскоре стало приходить в упадок или, по крайней мере, понизилось в уровне своих интересов: более серьезные из числа его членов, как Востоков и Языков, стали мало-помалу обращаться к единоличным трудам ученого характера, а другие не могли направить Общество к полезной деятельности уже потому, что сами не обладали ни талантами, ни ясным сознанием потребностей времени. И связи Батюшкова с этой группой писателей, по-видимому, слабеют со смертью Пнина: как заметно из позднейших отзывов и намеков в письмах нашего поэта, его не удовлетворяли люди такого умственного уровня, как А.А. Писарев и А.Е. Измайлов, занявшие теперь в Вольном Обществе видное место.
В дальнейших сношениях Батюшкова с молодыми представителями литературы в Петербурге выделяется только одно имя из числа названных доселе, имя Н.И. Гнедича; близкий друг Батюшкова, он был участником всех радостей и горестей его жизни, и потому уместно будет сказать теперь же об их сближении.
Начало их приязни восходит к 1803 году, когда будущий переводчик "Илиады" приехал в Петербург и определился на службу в департамент народного просвещения. Мы видели его в числе сотрудников "Северного Вестника"; но в числе ранних членов Вольного Общества имени его не встречается: человек очень осмотрительный в житейских отношениях, Гнедич, вероятно, не пожелал вступить в его состав, как впоследствии уклонился от вступления в Беседу любителей русского слова. Однако, несомненно, и он, подобно Батюшкову, был в связи с тою группою писателей, которая составляла Вольное Общество. Гнедич в юности получил правильное, отчасти семинарское образование в Харьковском коллегиуме и дополнил его слушанием лекций в Московском университете. В ранней молодости он пережил по-своему "период бурных стремлений", увлекался всем, что выходило из обыкновенного порядка вещей, и всякому незначительному случаю придавал какую-то важность {С.П. Жихарев. Записки современника. I. Дневник студента, с. 319, 321.}; видел идеал героя в Суворове и верил, что сам "рожден для подъятия оружия" {П.Н. Тихапов. Николай Иванович Гнедич. СПб., 1884, с. 8.}. В то время и литературные труды его отличались стремлением уклониться не только от господствующего псевдоклассического направления, но и от сентиментализма; к Карамзину и его подражателям он не питал расположения, вероятно, под влиянием лекций процессора Сохацкого. Скоро, однако, эти пылкие увлечения миновали, и в Петербурге мы видим его уже поклонником туманной чувствительности Общества и переводчиком Дюсисовых переделок Шекспира. От прежних увлечений осталась только выспренность в литературной речи и декламации, до которой Гнедич был большой охотник. В это-то время он и познакомился с Батюшковым.
Как часто бывает в подобных случаях, их дружеское сближение основалось на противоположности в свойствах их личного характера и в тех обстоятельствах, под влиянием которых он выработался. Сын небогатого малороссийского помещика, Гнедич вырос в бедности и привык твердо переносить ее, любил замыкаться в себя, с наслаждением предавался труду, был в нем упорен и вообще отличался стойкостью в характере, убеждениях и привязанностях; жизненный опыт рано наложил на него свою тяжелую руку. Мало походил на своего друга Батюшков. Простодушие и беспечность лежали в основе его природы; ни домашнее воспитание, ни даже школа не приучили его к последовательному, усидчивому труду. Он был жив, общителен, скоро и горячо увлекался теми, с кем сближался, легко поддавался чужому влиянию, как бы искал в других той устойчивости, которой не было в нем самом. Естественно, что при таких задатках ему часто приходилось разочаровываться в своих сближениях и переживать страдания оскорбленного или хотя бы только задетого самолюбия. Порою самолюбивые мечты заносили его очень далеко, но при малейшей неудаче он падал духом, и если потом снова ободрялся, то чаще всего благодаря счастливым минутам поэтического вдохновения. Такие нежные, хрупкие натуры особенно нуждаются в дружеском попечении, - и Батюшков в лице Гнедича нашел себе первого друга, который умел оценить его тонкий ум и чуткое сердце, умел щадить его легко раздражающееся самолюбие и быть снисходительным к его прихотям и слабостям. Быть может, не всегда Батюшков справедливо оценивал ту роль дядьки, которую приходилось исполнять при нем Гнедичу; быть может, и исполнение не всегда было удачное, не всегда Гнедич угадывал прихотливые требования даровитой натуры Батюшкова, не всегда, быть может, стоял на высоте его понимания и в то же время слишком назойливо старался навязывать ему свои мнения; но вообще друзья высоко ценили один другого, и несмотря на частые споры и недоразумения, никогда не было между ними охлаждения, потому что оба они были уверены в нравственном достоинстве друг друга. Сближение их произошло в ранней молодости (Гнедич всего на три года был старше Батюшкова), и потому искренние отношения между ними установились очень скоро; друзья были почти неразлучны, посещали один общий круг знакомых, предавались вместе светским развлечениям, сообщали один другому свои литературные мнения, вместе читали написанное ими самими и откровенно критиковали друг друга. "У Гнедича есть прекрасное и самое редкое качество: он с ребяческим простодушием любит искать красоты в том, что читает; это самый лучший способ с пользой читать, обогащать себя, наслаждаться. Он мало читает, но хорошо". Так говорит Батюшков о Гнедиче в своей записной книжке 1817 года {Соч., т. II, с. 361.}, стало быть после четырнадцати лет знакомства с Гнедичем и заключив уже новые дружеские связи, притом говорит не для того, чтобы кто-нибудь услышал его. И сколько душевной теплоты, сколько дружелюбия в этом коротком и простом отзыве! Батюшков первый поддержал Гнедича, когда тот предпринял свой великий подвиг перевода "Илиады", которым он одарил русскую словесность и обессмертил свое имя.
Наш перечень тех лиц, с которыми Константин Николаевич вел знакомство с ранней молодости, был бы неполон, если бы мы не упомянули теперь же еще об одном семействе, где Батюшков был принят как родной и где любили и ценили его зарождающееся дарование. То был гостеприимный дом известного археолога и любителя художеств Алексея Николаевича Оленина.
Оленин принадлежал к тому же кругу просвещенных людей в Петербурге, что и М.Н. Муравьев, а по супруге своей мог даже причесться ему в свойство {Елизавета Марковна Оленина была рожденная Полторацкая, а один из братьев ее, Петр Маркович, был женат на Екатерине Ивановне Вульф, двоюродной племяннице М.Н. Муравьева и И.М. Муравьева-Апостола, дочери Анны Федоровны Вульф, рожденной Муравьевой (Рус. Архив, 1884, кн. 6, с. 330).}. Приятели Михаила Никитича, Державин и НА. Львов, были друзьями и Оленина. Капнист, свояк Державина и Львова, также был дорогим гостем у него, когда приезжал в Петербург из своего деревенского уединения в Малороссии. В молодости своей Алексей Николаевич провел несколько лет в Дрездене; там он пристрастился к пластическим искусствам и воспитал свой вкус на произведениях лучших художников древности и периода Возрождения, как они были истолкованы Винкельманом и Лессингом. Он был хороший рисовальщик и, кроме того, занимался гравированием; заведуя с 1797 года монетным двором, он познакомился и с медальерным искусством. "Может быть, - говорит один из современников, коротко его знавший, - ему недоставало вполне этой быстрой, наглядной сметливости, этого утонченного, проницательного чувства, столь полезного в деле художеств; но пламенная любовь его ко всему, что клонилось к развитию отечественных талантов, много содействовала успехам русских художников" {Литературные воспоминания А.В. (графа С.С. Уварова). "Современник", 1851, т. 27, с. 39.}. То же должно сказать и относительно словесности. По верному замечанию С.И. Аксакова, имя Оленина не должно быть забыто в истории русской литературы: "все без исключения русские таланты того времени собирались около него, как около старшего друга" {Полное собрание сочинений С.Т. Аксакова, т. III, с. 262.}. Озеров, Крылов, Гнедич нашли в Оленине горячего ценителя своих дарований, который усердно поддерживал их литературную деятельность; И.М. Муравьев-Апостол и С.С. Уваров встретили в нем живое сочувствие своим занятиям в области классической древности; А.И. Ермолаева и А.Х. Востокова он направлял и укреплял в их изысканиях по древностям русским.
Пользуясь расположением графа А.С. Строганова, просвещенного вельможи Екатерининских времен, доживавшего свой век среди общего уважения при Александре, умея ладить и с теми людьми, которые возвысились в царствование молодого государя, Оленин быстро подвигался в это время на служебном поприще, "однако никогда не изменяя чести", заметил о нем едкий Вигель. Знающий и деловитый, Алексей Николаевич всем умел сделаться нужным; сам император Александр прозвал его TausendkЭnstler, тысячеискусником. Но если служебными успехами своими Оленин был обязан не только своему образованию и трудолюбию, а также некоторой уступчивости и искательности пред сильными мира сего, зато приобретенным значением он пользовался для добрых целей. Он был отзывчив на всякое проявление русской даровитости и охотно шел ему на помощь. "Его чрезмерно сокращенная особа, - говорит Вигель, - была отменно мила: в маленьком живчике можно было найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце" {Вигель. Воспоминания, ч. IV, с. 137.}.
"Дому Оленина, - скажем еще словами Уварова, - служила украшением его супруга Елизавета Марковна, урожденная Полторацкая. Образец женских добродетелей, нежнейшая из матерей, примерная жена, одаренная умом ясным и кротким нравом, она оживляла и одушевляла общество в своем доме" {Литературные Воспоминания А.В. - "Современник", 1851, т. 27, с. 39}. Она была болезненна. "Часто, лежа на широком диване, окруженная посетителями, видимо мучаясь, умела она улыбаться гостям... Ей хотелось, чтобы все у нее были веселы и довольны. И желание ее беспрестанно выполнялось. Нигде нельзя бы встретить столько свободы, удовольствия и пристойности вместе, ни в одном семействе - такого доброго согласия, такой взаимной нежности, ни в каких хозяевах - столько образованной приветливости. Всего примечательнее было искусное сочетание всех приятностей европейской жизни с простотой, с обычаями русской старины. Гувернантки и наставники, англичанки и французы, дальние родственницы, проживающие барышни и несколько подчиненных, обратившихся в домочадцев, наполняли дом сей, как Ноев ковчег, составляли в нем разнородное, не менее того весьма согласное общество и давали ему вид трогательной патриархальности" {Вигель. Воспоминания, ч. IV, с. 137-138.}.
За обеденным столом или в гостиной Олениных, в их городском доме или в подгородной даче Приютине "почти ежедневно встречалось несколько литераторов и художников русских. Предметы литературы и искусств занимали и оживляли разговор... Сюда обыкновенно привозились все литературные новости: вновь появлявшиеся стихотворения, известия о театрах, о книгах, о картинах, словом - все, что могло питать любопытство людей, более или менее движимых любовью к просвещению. Невзирая на грозные события, совершавшиеся тогда в Европе, политика не составляла главного предмета разговора, она всегда уступала место литературе" {Литературные воспоминания А.В. - "Современник", 1851, т. 27, с. 40.}.
Не станем утверждать, что тот кружок, который собирался в Оленинском салоне в начале нынешнего столетия, далеко опередил свое время в понимании вопросов искусства и литературы. Уровень господствовавших там художественных и литературных понятий все-таки определялся псевдоклассицизмом, который стеснял свободу и непосредственность творчества и удалял его от верного, не подкрашенного воспроизведения действительности. Но вкус Оленина, воспитанный на классической красоте и на воссоздании ее Рафаэлем, уже не дозволял ему удовлетворяться изысканными и вычурными формами искусства XVIII века и стремился к большей строгости и простоте. Лучше всего об этом свидетельствуют известные иллюстрации к стихотворениям Державина, исполненные по мысли и большею частью трудами Оленина {О художественном стиле и характере этих иллюстраций, воспроизведенных в первых двух томах первого академического издания сочинений Державина, см. прекрасные замечания Ф.И. Буслаева в его статье: "Новые иллюстрированные издания" в сборнике: Мои досуги. М., 1886, т. II.}. Точно так же и в отношении к литературе. В Оленинском кружке не было упрямых поклонников нашей искусственной литературы прошлого века: очевидно, содержание ее находили там слишком фальшивым и напыщенным, а формы - слишком грубыми. Зато в кружке этом с сочувствием встречались новые произведения, хотя и написанные по старым литературным правилам, но представлявшие большее разнообразие и большую естественность в изображении чувства и отличавшиеся большею стройностью, большим изяществом стихотворной формы; в этом видели столь желанное приближение нашей поэзии к классическим образцам древности. Но, кроме того, в кружке Оленина заметно было стремление сделать самую русскую жизнь, новую и особенно древнюю, предметом поэтического творчества: героическое, возвышающее душу, присуще не одному классическому - греческому и римскому - миру; оно должно быть извлечено и из преданий русской древности и возведено искусством в классический идеал. Присутствие таких требований ясно чувствуется в литературных симпатиях Оленина и его друзей. В этом сказалась и его любовь к археологии, и его горячее патриотическое чувство.
Нужно согласиться, что такие стремления Оленинского кружка имели жизненное значение для своего времени. Молодой Батюшков, воспитанный отчасти в подобных же идеях М.Н. Муравьевым, легко мог освоиться в доме Оленина и с пользой проводить здесь время. В одном из ранних писем своих к Алексею Николаевичу он с удовольствием вспоминает свои беседы с ним, в которых они усердно "критиковали проклятый музский народ" {Соч., т. III, с. 11.}. Из дома Оленина Батюшков вынес живой интерес к пластическим художествам; Оленин, без сомнения, обратил его внимание на историка древнего искусства Винкельмана. Здесь укреплялась его любовь к классической поэзии.
В первые годы текущего столетия крупным событием в жизни Оленинского кружка было появление трагедий Озерова. Еще в последние десятилетия прошлого века рядом с трагедиями псевдоклассического типа появились на русской сцене пьесы иного рода, так называемые мещанские драмы. Написанные в духе модного тогда сентиментализма, но по содержанию своему более близкие к житейской действительности, чем произведения классического репертуара, пьесы эти приобрели явное сочувствие публики, чем немало смущались присяжные литераторы, хранители традиционных правил. В доме Оленина хотя и сознавали недостатки устаревших трагедий Сумарокова, Княжнина и других писателей, их современников, тем не менее не могли помириться с обращением общественного вкуса к сентиментальной мещанской драме; столь нравившиеся в то время большинству публики пьесы Коцебу подвергались там строгому осуждению. Поэтому-то появление нового русского драматурга, который сумел примирить возвышенный характер старой мнимоклассической трагедии с кое-какими нововведениями сцены, который притом владел красивым, звучным стихом, появление Озерова встречено было в доме Оленина как настоящее обновление русской драматургии. В 1804 году Озеров читал у Олениных своего "Эдипа в Афинах" и привел в восторг своих слушателей; ему, однако, было сделано одно замечание: "Строгий классицизм не допустил одного - чтоб Эдип поражен был громом (так было в трагедии Дюси, которому подражал Озеров и который в свою очередь заменил ударом грома таинственную смерть Эдипа в храме Эвменид - как у Софокла). Требовали, чтобы, по принятому порядку, порок был наказан, торжествовала добродетель и чтобы погиб Креон. Озеров должен был подчиниться этому приговору и переделал пятый акт" {Арапов. Летопись русского театра, с. 167. (Слова в скобках вставлены авторами. - Ред.)}. Так и в Оленинском кружке сохранялись предписания псевдоклассической пиитики; однако не все: Дюси и Озеров не соблюдают правила о единстве места действия, и слушатели трагедии в доме Олениных не осудили автора за такое нововведение. "Эдип" имел блестящий успех. Через день по его представлении (25 ноября 1804 г.) Державин писал Оленину. "Я был во дворце, и государь император, подошед ко мне, спрашивал: "был ли я вчерась в театре и какова мне кажется трагедия. Я и прочие ответствовали, что очень хороша, и он отозвался, что непременно поедет ее смотреть; мы ответствовали, что ваше величество ободрите (автора) своим благоволением, которому подобного в России прежде не видали. Я рад, сказал". "Вот что ко мне пишет Гаврила Романович, - прибавлял Оленин, посылая Озерову копию с этой записки. - Читайте и радуйтесь, что истинный талант всегда почтен" {Соч. Державина, 1-е акад. изд., т. VI, с. 163, 164. О внимании императора Александра к Озерову см.: Арапов. Летопись русского театра, с. 168.}. В доме Оленина решено было ознаменовать торжество Озерова выбитием медали; но кажется, что мысль эта не была приведена в исполнение.
Еще ближе было участие Оленина в создании другой трагедии Озерова - "Фингал", поставленной в 1805 году. Оленин указал поэту на сюжет в одной из поэм Оссиана и потом составил рисунки костюмов и аксессуарных вещей для постановки этой пьесы {Арапов. Летопись русского театра, с. 172.}. Как известно, "Фингал" имел такой же, если не больший успех среди публики, как и "Эдип в Афинах".
Батюшков, без сомнения, принимал живое участие в этих торжествах Оленинского кружка, которые вместе с тем были торжествами для всех просвещенных любителей литературы. Когда в начале 1807 года, вскоре после первого представления третьей трагедии Озерова "Димитрий Донской", нашему молодому поэту пришлось оставить Петербург, он и среди новых своих забот продолжал интересоваться успехами талантливого трагика. Оленина просил он прислать ему экземпляр только что отпечатанного "Димитрия", а Гнедича спрашивал, как ведет себя противная Озерову партия {Соч., т. III, с. 10, 11.}. Действительно, блестящими успехами своими Озеров скоро нажил себе врагов в литературе. Еще после постановки "Эдипа" трагедию эту предполагали рассмотреть в доме Державина, где собирались преимущественно литераторы старого поколения. Сам Державин хотя и признавал в ней "несравненные красоты", однако усмотрел ее "некоторые погрешности" {Соч. Державина, 1-е акад. изд., т. VI, с. 164; т. VIII, с. 881-882.}. "Фингал", несмотря на восторженный прием публики, также подал повод к "невыгодным" о нем суждениям - без сомнения, тоже со стороны старых словесников {"Сев. Вестник", 1805, ч. VIII, с. 265 (отчет о первом представлении "Фингал").}; Державин и в этой трагедии нашел "дурные места" {Соч. Державина, 1-е акад. изд., т. III, с. 386-387.}. Когда же появился и произвел громадное впечатление "Димитрий Донской", старый лирик стал открыто высказывать неодобрение этой пьесе и вздумал сам вступить в соперничество с Озеровым на поприще драматургии. Впрочем, самым враждебным Озерову критиком был не Державин, а Шишков, горою стоявший за старых наших трагиков. Счастливое совместничество с ними Озерова было просто невыносимо для этого ярого, но несколько бестолкового ревнителя старины. Подобно Державину, он еще снисходительно отзывался о первых двух трагедиях Озерова, но на "Димитрия Донского" нападал с ожесточением. Он "принимал за личную обиду искажение характера славного героя Куликовской битвы, искажение старинных нравов, русской истории и высокого слова {С.Т. Аксаков. Воспоминание об А.С. Шишкове. Полн. собр. соч., т. III, с. 209-210.}, уверенно предпочитал плавности озеровского стиха жесткие стихи Сумарокова и в особенности вооружался против той чувствительности, которою Озеров собирал
...невольны дани
Народных слез, рукоплесканий...
и в которой адмирал-писатель видел развращение добрых нравов {Кроме статьи С.Т. Аксакова, об отношениях Шишкова к Озерову см. в Полном собрании сочинений кн. П. Вяземского, т. VII, с. 206. Любопытен также рассказ С.П. Жихарева о литературном вечере у Шишкова, где И.С. Захаров, его приятель и литературный единомышленник, вступился за старые трагедии (Дневник чиновника - в "Отеч. Записках", 1855, т. CI, с. 195).}. Державину и Шишкову подобострастно вторили окружавшие их бездарности, по выражению Озерова в письме Оленину, "последователи старого слога, старого сумароковского вкуса, выдающие себя, со своим школярным учением сорокалетней давности, за судей всех сочинителей" {Рус. Архив, 1869, с. 142.}.
Мало того, против счастливого драматурга были пущены в ход интриги и клеветы, которые подействовали на него так, что он вздумал было бросить литературную деятельность, тем более для него приятную, что он обратился к ней уже в зрелом возрасте, увлекаемый неодолимою потребностью творчества. Дружеские настроения Оленина, указавшего ему для новой трагедии гомеровский сюжет "Поликсены", удержали его от этого шага.
К убеждениям Оленина присоединил свой голос и Батюшков. Оставив Петербург весной 1807 года под впечатлением блестящего успеха "Димитрия Донского", он вскоре прислал почитателям Озерова посвященное ему стихотворение, в котором "безвестный певец" выражал ему свое сочувствие и убеждал его "не расставаться с музами".
Так обозначилась рознь между старыми писателями и тем кружком образованных людей, который группировался около Алексея Николаевича. Горячо поддерживая Озерова, несмотря на свои личные близкие отношения к Державину и Шишкову, Оленин засвидетельствовал самостоятельность своих литературных мнений и еще раз доказал изящество своего вкуса. Это обстоятельство могло только усилить уважение Батюшкова к Алексею Николаевичу, так как он сам с первых шагов своих на поприще словесности высказался против писателей старой школы, против литературных вкусов Шишкова и его последователей. Дружба с семейством Оленина сделалась для Батюшкова с этих пор одною из самых отрадных сторон его жизни.