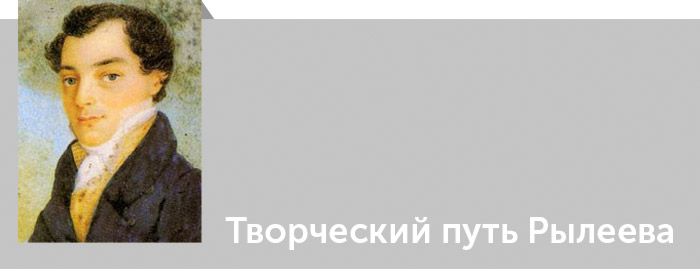Сатира К.Ф. Рылеева «К временщику»: опыт историко-литературного комментария
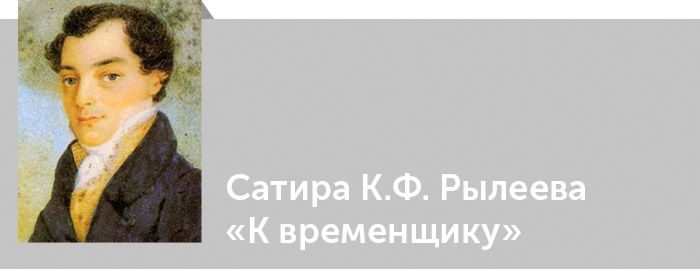
Готовцева А.Г., Киянская О.И.
[I]
В начале декабря 1820 г., с опозданием на месяц, вышел октябрьский номер либерального петербургского журнала «Невский Зритель». В журнале, за подписью «Рылеев» и под названием «К временщику. Подражание Персиевой сатире “К Рубеллию”», были помещены следующие стихи:
Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец;
Из уст твоих хула — достойных хвал венец!
Смеюсь мне сделанным тобой уничиженьем!
Могу ль унизиться твоим пренебреженьем!
Коль сам с презрением я на тебя гляжу
И горд, что чувств твоих в себе не нахожу?
Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы?
Что власть ужасная и сан твой величавый?
Ах! лучше скрыть себя в безвестности простой,
Чем, с низкими страстьми и подлою душой
Себя, для строгого своих сограждан взора,
На суд их выставлять, как будто для позора!
Когда во мне, когда нет доблестей прямых,
Что пользы в сане мне и в почестях моих?
Не сан, не род — одни достоинства почтенны;
Сеян! и самые цари без них — презренны;
И в Цицероне мной не консул — сам он чтим
За то, что им спасен от Катилины Рим...
О муж, достойный муж! почто не можешь, снова
Родившись, сограждáн спасти от рока злого?
Тиран, вострепещи! родиться может он,
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!
Под лицемерием ты мыслишь, может быть
От взора общего причины зла укрыть...
Не зная о своем ужасном положенье,
Ты заблуждаешься в несчастном ослепленье,
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злобные души не утаишь.
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он — что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты...
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство![1]
Автор этого стихотворения, К.Ф. Рылеев, - хрестоматийно известный поэт-декабрист. Ему посвящено множество статей и несколько специальных монографий[2]. Яркий, неординарный, наделенный многочисленными талантами человек, Рылеев и делами, и стихами сильно повлиял на литературный процесс 1820-х гг. Кажется, никто из серьезных исследователей не берется оспаривать этот факт.
Однако сегодня уже понятно, что личность поэта-декабриста сильно мифологизирована. «Сразу после казни декабристов начал складываться миф о Рылееве: трагический финал отбросил отблеск на всю предыдущую жизнь, на существовавшие в постоянном взаимовлиянии поэтическое творчество и житейскую биографию, отчетливо высветив его путь – от сатиры «К временщику» через предчувствия «Войнаровского» и «Наливайки» к Сенатской площади и кронверку Петропавловской крепости», - справедливо считает С.А. Фомичев[3]. Биографический миф отнюдь не способствует изучению творчества Рылеева; многие вопросы в данном случае не только не разрешены, но должным образом и не поставлены.
Утверждение это относится, в частности, к сатире «К временщику». Нельзя сказать, что сатира эта была обойдена вниманием исследователей, однако спектр исследовательских мнений о ней небогат. Первый биограф Рылеева Н.А. Котляревский писал, что «с литературной стороны сатиру нельзя признать удачной: прозаические архаизмы, условныя метафоры, деревянный стих относят ее из XIX века в век ХVІІІ-й. Но она зла, непомерно зла... Так воинственно был настроен Рылеев в эти еще вполне мирные годы своей жизни»[4]. А не склонный преувеличивать роль Рылеева в литературе В.И. Маслов называл, тем не менее, эту сатиру гражданским актом, «отражением… общественного возмущения и недовольства» деятельностью правительства[5].
В.И. Семевский был убежден, что главное в этом произведении – «гражданские мотивы», М.В. Нечкина утверждала, что сатира «антиправительственная по существу» и вполне соотносимая с идеями Союза благоденствия[6]. И даже автор современной работы о сатире «К временщику», Л.Л. Шестакова, делает вполне тривиальный вывод о том, что «произведение, под которым впервые появилась полная подпись поэта (утверждение это ошибочно – А.Г., О.К .), положило начало собственно "гражданскому" направлению в его творчестве, продолжившему традиции Ломоносова, Державина, Радищева, поддержавшему вольнолюбивые опыты молодого Пушкина»[7].
В целом можно сказать, что изучение рылеевского текста ни на шаг не продвинулось от мемуарного высказывания друга Рылеева, декабриста Н.А. Бестужева: «Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластью»[8]. Высказывание это весьма эмоционально, но, к сожалению, мало информативно.
Остается открытым вопрос, каким образом столь «антиправительственное» произведение могло появиться в легальной печати, почему «гражданские» и «воинственные» интенции Рылеева не были вовремя пресечены цензурой и правительством. Ничего не известно ни об обстоятельствах написания и публикации этого текста, ни о конкретных последствиях этой публикации. Данная статья призвана хотя бы отчасти это пробел восполнить.
Часть 1. «Рубеллий! Трепещи….»
И современники, и исследователи знали, что сатира Рылеева восходит к опубликованной в 1810 г. в журнале «Цветник» стхотворению М.В. Милонова «К Рубеллию. Сатира Перcиева»:
Царя коварный льстец, вельможа напыщенный,
В сердечной глубине таящий злобы яд,
Не доблестьми души – пронырством вознесенный,
Ты мещешь на меня презрительный свой взгляд!
Почту ль внимание твое ко мне хвалою?
Унижуся ли тем, что унижен тобою?
Одно достоинство и счастье для меня,
Что чувствами души с тобой не равен я!..
Что твой минутный блеск? что сан твой горделивой?
Стыд смертным – и укор судьбе несправедливой!
Стать лучше на ряду последних плебеян,
Чем выситься на смех, позор своих граждан;
Пусть скроюсь, пусть навек бегу от их собора,
Чем выставлю свой стыд для строгого их взора;
Что пользы, что судьбой я буду вознесен,
Когда величием прямым не одарен?
Бесценен лавр простой, венчая лик героя;
Священ лишь на царе сияющий венец;
Но если в поприще, устроенном для боя,
Неравный силами, уродливый боец,
Где славу зреть стеклись бесчисленны народы,
Явит убожество, посмешище природы,
И, с низкой дерзостью, героев станет в ряд, -
Ужель не виден он в безумном обличенье
И мене на него уставлен взор в презренье?
Там все его шаги о нем заговорят.
Бесславный тем подлей, чем больше ищет славы!
Что в том, что ты в честях, пия льстецов отравы,
Приемлешь на себя вельможи гордый вид,
Когда он их самих украдкою смешит?
Рубеллий! титла лишь с достоинством почтенны,
Не блеском собственным; сияя им одним,
Заставят ли меня дела твои презренны
Неправо освящать хвалением моим?
Их сыщешь, но хвалы не купишь справедливой!
Минутою одной приятен лести глас;
Но нужны доблести для жизни нам счастливой,
Они нас усладят, они возвысят нас!
Гордися, окружен ласкателей собором,
Но знай, передо мной, пред мудрых тонким взором,
Равно презрен и лесть внимающий и льстец.
Наемная хвала - бесславия венец!
Кто чтить достоинства и чувства в нас не знает,
В неистовстве своем теснит и гонит их,
Поверь мне, лишь себя жестоко осрамляет, -
Унизим ли мы то, что выше нас самих?
Когда презрение питать к тебе я смею,
Я силен – и ни в чем еще не оскудею;
В изгнанье от тебя пусть целый век гублю,
Но честию твоих сокровищ не куплю!
Мне ль думать, мне ль скрывать для обща посмеянья
Убожество души богатством одеянья?
Мне ль ползать пред тобой в кругу твоих льстецов?
Пусть Альбий, Арзелай – но Персий не таков!
Ты думаешь сокрыть дела свои от мира
В мрак гроба? Но и там потомство нас найдет;
Пусть целый мир рабом к стопам твоим падет,
Рубеллий! трепещи: есть Персий и сатира!
К строчкам об Альбии и Арзелае, составляющих круг льстецов Рубеллия, Милонов давал примечания: «Альбий - мздоимец, кровосмеситель и убийца. Арзелай – страшный невежда»[9]. После 1810 г. сатира «К Рубеллию» была несколько раз републикована; в последний раз при жизни автора в 1819 г., за несколько месяцев до появления сатиры «К временщику». Однако примечания об Альбии и Арзелае в этот раз были опущены.
В момент публикации сатиры Милонову было всего 18 лет; за год перед тем он с отличием окончил Московский университет. Но он был уже известным поэтом: печататься начал еще студентом. В истории русской литературы Милонов – фигура трагическая. Подававший большие надежды, сотрудничавший со всеми ведущими литературными группировками начала XIX в., к концу 1810-х гг. он спился и в 1821 г. умер, не дожив до тридцатилетия. Современники сравнивали его «огромный талант» с «прекрасною зарей никогда не поднявшегося дня» и замечали, что «фактура стиха его была всегда правильна и художественна, язык всегда изящный».
Милонов был разносторонне образован: в его творчестве сочетаются сатира и элегия, дружеское послание и бытовая зарисовка. Он был не только поэтом, но и переводчиком, «подражал Горацию и, за неимением фалернского вина его, переводил и римское вино на русские нравы или русский хмель…»[10]. Кроме Горация, объектом его переводов и подражаний были, прежде всего, Ювенал и Буало.
В советской историко-литературной традиции сатиры Милонова часто оценивались как гражданские, почти «декабристские». «При всей своей отвлеченности и подражательности политическая сатира Милонова была своеобразным и значительным явлением в русской поэзии начала XIX в. и сыграла определенную роль в деле формирования гражданской лирики декабристской эпохи», – утверждал В.Н. Орлов[11]. Ю.М. Лотман и М.Г. Альтшуллер писали о том, что Милонов был пропагандистом «высокой гражданской сатиры, подготавливавшей поэтическую практику декабристской поэзии эпохи Союза благоденствия»[12].
Эта точка зрения закреплена даже в Большой советской энциклопедии, которая сообщает, что «наибольшей известностью пользовались сатиры, в которых он (Милонов – А.Г., О.К. ) выступил как предшественник гражданской поэзии декабристов»[13]. Подобный подход не изжит и в настоящее время. Талантливый филолог-краевед Б.Т. Удодов в новейшей биографии Милонова по-прежнему настаивает на том, что «в лучших своих сатирах» он «выступал как прямой предшественник поэтов-декабристов»[14].
Вопрос о том, что такое «декабристская поэзия», кто такие «поэты-декабристы» и в чем состояла их «поэтическая практика» выходит за рамки настоящей работы. В данном случае, конечно же, подразумевается, что Милонов, как впоследствии и Рылеев, был «поэтом-гражданином», проповедовал «серьезность» в поэзии и восставал в своих произведениях против несправедливой власти.
По-видимому, Милонов был действительно не чужд идей гражданственности. Однако увидеть в нем прямого идеологического предшественника декабристов достаточно сложно. Рассуждения о «долге гражданина» были общим местом в литературе конца XVIII – начале XIX в. И уникальность Милонова как поэта состояла в своеобразном обыгрывании этих рассуждений.
Повествуя о Милонове-сатирике, исследователи, наряду с сатирой «К Рубеллию», часто приводят в пример его дружеское послание В.А. Жуковскому:
Жуковский, не забудь Милонова ты вечно,
Который говорит тебе чистосердечно,
Что начал чепуху ты врать уж не путем.
Итак, останемся мы каждый при своем –
С галиматьею ты, а я с парнасским жалом;
Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом;
Потомство судит нас, а не твои друзья,
А Блудов, кажется, меж нами не судья.
М. Милонов,
Обнимающий с почтением Жуковского.
3 сентября 1818 [15].
Послание это действительно чрезвычайно показательно для характеристики творческого метода Милонова – поэтому позволим себе остановиться на нем подробнее.
Комментируя последние пять строк этого послания, Лотман в статье «Декабрист в повседневной жизни» утверждает: «С предельной четкостью антитезу игры и гражданственности выразил Милонов в послании Жуковскому, показав, в какой мере эта грань, пролегавшая внутри лагеря прогрессивной молодой литературы, была осознана... Тут дана полная парадигма противопоставлений: галиматья (словесная игра, самоцельная шутка) – сатира, высокая, гражданственная и серьезная; Шиллер… чье имя связывается с фантазией балладных сюжетов, – Ювенал, воспринимаемый как поэт-гражданин; суд литературной элиты, мнение замкнутого кружка… – мнение потомства»[16].
Однако, во-первых, это послание никоим образом не отражает реального отношения Милонова к Жуковскому. Несколько месяцев спустя Милонов опубликовал еще одно послание к нему же, «на получение экземпляра его стихотворений». В этом послании Милонов называл своего друга «любимым поэтом» и заявлял следующее:
Завиден для меня путь, избранный тобою,
Стезя, ведущая так близко до сердец.
Скажи, исполненный когда самим собою,
Страсть к славе и добру, поэзии мудрец,
С волшебной силою ты передать желаешь
И чувства упоить сей страстию благой –
Скажи мне, не в себе ль награду обретаешь?
И высший смертных долг исполнен уж тобой![17]
Лотман, комментируя строки о Шиллере и Ювенале, обходит молчанием и тот факт, что послание Милонова Жуковскому – традиционное дружеское послание. Можно предположить, что написано оно в связи с каким-то известным и Милонову, и Жуковскому событием, в котором участником оказался известный в будущем государственный деятель и публицист Д.Н. Блудов. По-видимому, между Милоновым и указанными в послании лицами в конце августа – первых числах сентября 1818 г. произошел литературный спор, едва не кончившийся личным разрывом. Предметом же спора были, видимо, как раз Шиллер и Ювенал: Милонов в этом споре защищал Ювенала, а арзамасцы Жуковский и Блудов – Шиллера. Иначе трудно объяснить, какую «чепуху» начал вдруг «врать» Жуковский, почему он должен «забыть» Милонова и какое отношение ко всему этому имеет Блудов.
Причем событие это имело, по-видимому, ценность прежде всего для его участников, а смысл послания был понятен только посвященным. Таким образом, послание Милонова к Жуковскому – образец все той же кружковой «галиматьи», характерной для участников «Арзамаса» в целом и для Жуковского, последователя и переводчика Шиллера, в частности.
Противопоставление «высокой, гражданской и серьезной» сатиры и «словесной игры» здесь, конечно, есть, Но осмысляется это противопоставление в нарочито несерьезной, шутливой форме – а вовсе не в форме манифеста гражданской поэзии. «Антитеза игры и гражданственности» осмысляется в легкой, игровой, принципиально «негражданской» форме. Этой игре способствует и явно сниженная лексика послания, и интимно-дружеская его интонация, и прозаическая приписка в конце текста.
В этом послании в полной мере отразились основные качества и натуры, и творчества Милонова – его склонность к кружковой игре, иронии, мистификации. Самая известная и самая яркая из его игр-мистификаций – это, конечно, известная история с балладой Жуковского «Светлана», история, едва не стоившая Милонову литературной репутации. На заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств в 1812 г. он прочитал балладу Жуковского «Светлана», выдав ее за собственное сочинение[18]. После этого Милонов был исключен из Общества, потом восстановлен в нем, но отношений с Жуковским не испортил. Явления того же порядка – участие Милонова в заседаниях Беседы любителей русского слова[19], при том, что большинство стихотворений он публикует в изданиях карамзинистов, журналах «Цветник», «Благонамеренный» и др. В своих сатирах Милонов высмеивал как участников «Беседы», так и членов «Арзамаса»[20].
По-видимому, та же страсть к мистификации руководила Милоновым и при написании сатиры «К Рубеллию»: у Персия такой сатиры не было, а сюжет с критикой Рубеллия Милонов заимствовал у Ювенала, из его VIII сатиры.
VIII сатира Ювенала была в 1803 г. переведена на русский язык учителем, начальником и покровителем Милонова, поэтом и государственным деятелем И.И. Дмитриевым:
Рубеллий! трепещи гордиться предков чином:
Недолго и тебя прозвать нам Кимерином.
Ты столь возносишься породою своей,
Как будто сам и блеск и знатность придал ей<…>
А ты, скажи мне, чем отечеству служил
И что от древнего Цекропа сохранил?
Лишь имя... О бедняк! о знатный мой повеса!
Ты то же для меня, что истукан Гермеса:
Тот мраморный, а ты, к бесславию, живой —
Вот вся и разница у статуи с тобой[21].
У этой сатиры Ювенала – большая история бытования в русской литературе. Рассуждения о том, что гордится нужно не происхождением, а гражданскими добродетелями, воспроизведенные в V сатире Буало, давно уже стали для русской литературы общим местом. К этой теме обращались и А.Д. Кантемир («На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет и Евгений»; 1743), и А.П. Сумароков («О благородстве»; 1771), и Г.Р. Державин («Вельможа»; 1794). К традиции противопоставления «истинного» и «мнимого» благородства принадлежит и, по-видимому, непосредственно предшествовавшая милоновскому стихотворению «Сатира к Сперанскому об истинном благородстве» А.Ф. Воейкова (1806):
Не орденской звездой — сияй ты нам делами;
Превосходи других душою — не чинами;
Монарху славному со славою служи;
Добром и пользою вселенной докажи,
Что Александр к делам людей избрать умеет
И ревностных сынов отечество имеет[22].
Ничего особенного, нетрадиционного в обличении забывшего свой долг вельможи и в прославлении того, кто о долге этом помнит, не было. Да и сама «подражательная» сатира, по словам О.А. Проскурина, стала к началу XIX в. «особым, уже устоявшимся и уже окостеневши «легким» жанром. Такой жанр предполагает варьирование давно известных тем <…> и форм»[23].
Собственно, бόльшая часть милоновской сатиры варьировала ту же старую тему – тему вельможи, гордящегося лишь своим происхождением и забывшего о том, что «титла лишь с достоинством почтенны». Укажи Милонов в качестве источника сатиру Ювенала, вряд ли ее вообще заметил кто-нибудь, кроме знатоков и ценителей стихотворных переводов и подражаний.
Однако в текст сатиры Милонов включил некоторые необычные элементы, которые давали возможность и социально заострить изъезженную тему, и мистифицировать читателя.
Во-первых, показательно было имя Персия – римского поэта, творчество которого в России знали плохо. Персий весьма труден для понимания и перевода. Но, несмотря на это, в России его считали, наряду с Ювеналом, творцом политической сатиры[24]. Как известно, Персий жил во времена Нерона и, согласно указанию Н. Буало, критиковал литературные опыты тирана в своих произведениях: «Он не только смеется над сочинениями поэтов своего времени, но и нападает на стихи самого Нерона»[25]. Буало ошибался: Персий в своих сатирах Нерона не задевал, до политики ему не было никакого дела. Но устоявшаяся в русской традиции репутация Персия как борца с Нероном уже сама по себе настраивала читателя на тираноборческий лад.
В сатире Милонова Персий противостоит вельможе Рубеллию. Имя это, как уже указывалось, заимствовано у Ювенала. Однако высмеянный в его сатире вельможа практически не оставил следа в истории. Иное дело – Рубеллий Плавт, современник Персия, живший, как и он, во времена Нерона. Этот Рубеллий был человеком, хорошо известным и античным авторам, и читателям. Его подробное жизнеописание находим у Тацита, в «Анналах».
Рубеллий Плавт, сын консула, «по материнской линии состоявший в той же степени родства с божественным Августом, что и Нерон», был обвинен в том, что он сожительствует с матерью Нерона, Агриппиной. Агриппина, согласно извету ее врагов, собиралась вступить с Рубеллием в супружество и «возвратить себе верховную власть над Римским государством». В итоге Рубеллий был убит Нероном.
У Тацита Рубеллий – человек, известный своим правильным поведением, невинная жертва необузданной жестокости и подозрительности Нерона. Рубеллий «чтил установления предков, облик имел суровый, жил безупречно и замкнуто» [26]. Называть Рубеллия «уродливым бойцом», «посмешищем природы», известным «низкой дерзостью» и «убожеством души» мог либо не читавший Тацита (а подозревать такового в Милонове вряд ли уместно) – либо сознательно приглашавший читателя найти здравствующий аналог «любовника» вдовствующей матери государя, императрицы Марии Федоровны.
Показательны и строки об Альбии и Арзелае, вызывавшие в памяти образованного читателя библейские и латинские коннотации. Естественно, они рождали и рождают желание поискать среди государственных деятелей той эпохи «мздоимца, кровосмесителя и убийцу», а также «страшного невежду». Поиски эти подогревались репутацией самого Милонова как человека в быту и в службе неуживчивого, любившего при случае высмеять в сатире того или иного вельможу. Сам он писал в 1820-го г., что долго боролся по службе с разными «мерзавцами», «из коих… не пощадил, по крайней мере, в стихах моих, ни одного, начиная с первого, Ру<мянце>ва, и до последнего, Тур<гене>ва…»[27]. В данном случае имелись в виду Н.П. Румянцев, министр коммерции и иностранных дел, председатель Государственного совета и комитета министров, и А.И. Тургенев, директор департамента в Министерстве духовных дел и народного просвещения; под началом обоих Милонов в разное время служил и с обоими сохранял хорошие отношения. П.А. Вяземский утверждал, что «Милонов не любил… Козодавлева, министра внутренних дел, и задевал его в переводах своих из классических поэтов, в лице Рубеллия»[28]. Исследователи же склонны видеть в Рубеллии графа А.А. Аракчеева[29].
Аракчеева из списка возможных адресатов милоновской сатиры следует, по-видимому, исключить – поскольку знатностью рода он не отличался, и его никак нельзя было отождествить с вельможей, гордящимся своим происхождением. Однако и попытки найти точное биографическое сходство персонажей сатиры с Румянцевым, Тургеневым, Козодавлевым или другими государственными деятелями обречены на провал. Сатира исполнена высокого гражданского пафоса – однако никаких сведений о том, что Милонов с, так сказать, гражданской точки зрения был недоволен кем-нибудь из них, обнаружить не удалось.
По-видимому, прав М.А. Дмитриев, племянник милоновского покровителя, утверждавший, что «сатирическая сила» Милонова «была более плодом мысли, чем убеждения и негодования». «Надобно признаться, - писал Дмитриев, - что и тогда (в момент написания – А.Г., О.К .) его портреты были очень далеки от подлинников: их находило близкими только желание видеть в сатире известные лица; одно оно видело в Рубеллии какого-нибудь современника»[30]. Сатира «К Рубеллию» была не просто мистификаций, но интеллектуальной провокацией: она заставляла читателей искать конкретику там, где ее вовсе не было.
***
В.И. Маслов, сравнив текст сатир Рылеева и Милонова, выявил все примеры прямого заимствования Рылеева из Милонова: «пронырством вознесенный» (Милонов) – «взнесенный в важный сан пронырствами злодей!» (Рылеев); «ты мещешь на меня с презрением твой взгляд!» (Милонов) – «ты на меня взирать с презрением дерзаешь» (Рылеев); «унижуся ли тем, что унижен тобою» (Милонов) – «могу ль унизиться твоим пренебреженьем» (Рылеев) и т.п.[31] Собственно, Рылеев не скрывал, что его сатира – вторична по отношению к Милонову. Ее подзаголовок «Подражание Персиевой сатире “К Рубеллию”» указывал не столько на то, что автор подражает Персию, сколько на то, что он подражает Милонову. Рылеев был прекрасно знаком с творчеством Милонова, называл своего предшественника «бичом пороков»[32]. По-видимому, создавая свою сатиру, Рылеев сознательно акцентировал ее зависимость от милоновского текста.
Однако интересно выявить не столько сходство, сколько различия в текстах этих сатир.
Прежде всего, Рылеев гораздо чаще своего предшественника использует экспрессивно окрашенную лексику. 6 раз употребляются слово зло и его производные : «…взнесенный в важный сан пронырствами злодей…», «…сограждан спасти от рока злого …», «…от взора общего причины зла укрыть…», «но свойства злобные души не утаишь…», «но если злобный рок, злодея полюбя…», «…За зло и вероломство // Тебе твой приговор произнесет потомство!». Четырежды употреблены слова тиран и тиранство : «Неистовый тиран родной страны своей…», «Тиран , вострепещи!..», «…народ тиранствами ужасен разъяренный…», «Все трепещи, тиран …». Сюда же следует добавить слова подлец («Твоим вниманием не дорожу, подлец …» и ужасный (от фр. terreur; «…власть ужасная …», «…не зная о своем ужасном положенье…»)[33]. Большинство этих слов Рылеев применяет для характеристики личности и образа действий временщика – согласно «Словарю Академии Российской» (1806), «особы, которая особливо государевою или чьею милостию и доверенностию пользуется»[34]. Слова эти характеризуют временщика как государственного преступника, во зло употребляющего высочайшую доверенность.
Столь же показательны имена собственные, встречающиеся в рылеевской сатире. Рубеллий и Персий здесь остаются только в названии. Нет ни Альбия, ни Арзелая, о мздоимцах, кровосмесителях, убийцах и невеждах Рылеев тоже ничего не пишет. Зато появляются имена античных героев, бывшие в сознании современников символами тираноборчества и гражданских добродетелей: Цицерон, Кассий и Брут, Катон. В том, что эти имена-символы не требовали дополнительных пояснений, сомневаться не приходится. Знание античной истории было обязательным элементом образования молодых дворян 1820-х гг. Согласно, например, мемуарам И.Д. Якушкина, «в это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами»[35].
Не требовали пояснения и «антигерои» рылеевской сатиры, Катилины и Сеяна. И если Катилина упомянут лишь для того, чтобы конкретизировать гражданский подвиг Цицерона, то имя Сеяна весьма важно с очки зрения прагматики сатиры в целом. Луций Элий Сеян, незнатного происхождения, из сословия всадников, префект преторианцев и временщик при императоре Тиберии, - одна из самых одиозных фигур римской истории. Он как раз и был символом лживого царедворца, вкравшегося в доверие к императору, получившего безграничную власть и пытавшегося обмануть своего доверчивого патрона. Так, Пушкин в 1824 г. сравнивал с Сеяном графа М.С. Воронцова, а с Тиберием – Александра I. И писал П.А. Вяземскому из Одессы: «Я поссорился Воронцовым, и завел с ним полемическую переписку, которая кончилась с моей стороны просьбою в отставку – но чем кончат власти, еще неизвестно. Тиверий рад будет придраться; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня»[36].
Таким образом, игровой, мистификационный момент в сатире Рылеева отсутствует, зато присутствует стандартный набор римских тиранов, тираноборцев, добродетельных граждан – и «мощный накал» гражданского «негодования»[37]. И если Милонов, обращаясь к Рубеллию, предлагал ему стыдиться мнения поэта Персия и «мудрых» сограждан, то Рылеев ожидал появления Кассия, Брута и Катона – которых призывал «избавить отечество» от тирана. В том же случае, если они не преуспеют в тираноборчестве, Рылеев допускал что взбунтовавшийся народ сам покарает временщика.
В вопросе о том, кого «имел в виду» Рылеев, создавая свою сатиру, современники единодушны – сатира «метила» в графа А.А. Аракчеева, знаменитого временщика Александровской эпохи.
Во-первых, в тексте сатиры есть прямые намеки на Аракчеева. В частности, в строке «селения лишил их прежней красоты» вполне можно прочесть негодование автора по поводу руководимых Аракчеевым военных поселений. А в словах о том, что временщик «налогом тягостным» довел народ «до нищеты», видится явная аллюзия на работу Особого комитета, созданного императором летом 1820 г. под руководством Аракчеева. Задачей этого комитета было «изыскать новые источники доходов для казны», изыскания же предстояло производить на пути увеличения «гербового и крепостного сборов». История с образованием этого комитета была достаточно громкой, ее активно обсуждали в свете. В связи с ней был вынужден покинуть свой пост в министерстве финансов известный либерал, ученый-экономист и декабрист Н.И. Тургенев, брат А.И. Тургенева[38]. Согласно донесениям полицейских агентов, в конце 1820-го года налоговой политикой правительства были недовольны весьма широкие слои населения. «Громкий ропот» доносился «с Биржи и Гостиного двора»: «Все, кто занимается торговлей, исключая некоторых барышников, находящихся под покровительством, негодуют на таможенные законы и, еще более, на способ проведения их», - сообщали агенты[39].
Во-вторых, есть свидетельство самого Рылеева, который рассказал в 1824 г. своему петербургскому знакомому, профессору Виленского университета И.Н. Лобойко, что, поскольку Аракчеев принял сатиру «на свой счет», за ними следят «полицейские агенты»[40].
В-третьих, об «антиаракчеевской» направленности стихотворения существует множество эпистолярных и мемуарных свидетельств. В доносе на Рылеева, поданном министру внутренних дел В.П. Кочубею сразу же после публикации сатиры, указывалось: «Цензурою пропущено и напечатано в «Невском зрителе». Кажется, лично на гр. А. А. Аракчеева»[41]. Весьма авторитетно мемуарное свидетельство Г.П. Кругликова, издателя «Невского Зрителя», о том, что в «Персиевой сатире» «осуждался граф Аракчеев»[42]. Хорошо знавший Рылеева журналист Н.И. Греч признавал в мемуарах: «поэтического дарования он (Рылеев – А.Г., О.К. ) не имел и писал стихи не гладкие, но замечательные своею силой и дерзостью»; в сатире же, опубликованной в «Невском Зрителе», «он говорил очень явно об Аракчееве»[43].
Служивший в 1820-м году в гвардии будущий декабрист Н.И. Лорер, не знавший или не помнивший авторства Рылеева, приписал сатиру Гречу и вспоминал впоследствии: «Я помню время, когда Н. И. Греч перевел с латинского «Временщика» времен Рима. Мы с жадностию читали эти стихи и узнавали нашего русского временщика. Дошли они и до Аракчеева, и он себя узнал»[44]. Еще один декабрист, Д.И. Завалишин, в старости рассказывал, что «молодые люди» 1820-х гг. «выражали свое негодование относительно Аракчеева косвенными намеками, например, переводом оды о Сеяне»[45]. В.И. Штенгейль отметил, что сатира Рылеева «намекала на графа Аракчеева, а потому выходка оказалась очень смелою»[46]. А Н.А. Бестужев, также назвав Аракчеева адресатом сатиры, сообщил в мемуарах, что «Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины»[47].
Обобщая все эти отзывы, следует признать: не существует ни одного источника, который бы свидетельствовал против того, что адресатом сатиры был именно граф Аракчеев.
Часть 2. «Неслыханная дерзость»
Однако впрямую имя Аракчеева в сатире не названо. И вполне возможно, что публикация в «Невском Зрителе» так бы и прошла незамеченной – если бы не время, в которое она появилась. Конец 1820 г. в России был ознаменован так называемой «семеновской историей»: вечером 16 октября солдаты первой гренадерской, «государевой» роты лейб-гвардии Семеновского полка, недовольные жестоким полковым командиром полковником Ф.Е. Шварцем, самовольно собрались вместе и потребовали его смены. Примеру «государевой» последовали и другие роты. Начальство Гвардейского корпуса пыталось уговорить солдат отказаться от их требований, но тщетно. 18 октября весь полк оказался под арестом.
Неделю спустя в казармах лейб-гвардии Преображенского полка нашли анонимные прокламации, в которых преображенцев призывали последовать примеру семеновцев, восстать, взять «под крепкую стражу» царя и дворян – и «между собою выбрать по регулу надлежащий комплект начальников из своего брата солдата и поклясться умереть за спасение оных»[48]. Впрочем, прокламации эти были вовремя обнаружены властями.
Волнения в полку вызвали в обществе всевозможные толки и слухи (вплоть до «явления в Киеве святых в образе Семеновской гвардии солдат с ружьями, которые-де в руках держат письмо государю, держат крепко и никому-де, кроме него, не отдают»[49]), а в государственных структурах смятение и ужас. Дежурный генерал главного штаба А.А. Закревский в январе 1821 г. писал своему патрону, П.М. Волконскому: «Множество есть таких неблагонамеренных и вредных людей, которые стараются увеличивать дурные вести. В нынешнее время расположены к сему в высшей степени все умы и все сословия, и потому судите сами, чего ожидать можно при малейшем со стороны правительства послаблении»[50].
Адъютант генерал-губернатора Петербурга графа М.А. Милорадовича Ф.Н. Глинка вспоминал пять лет спустя: «Мы тогда жили точно на бивуаках: все меры для охранности города были взяты. Через каждые 1/2 часа (сквозь всю ночь) являлись квартальные, чрез каждый час частные пристава привозили донесения изустные и письменные. Раза два в ночь приезжал Горголи (петербургский полицмейстер – А.Г., О.К. ), отправляли курьеров; беспрестанно рассылали жандармов, и тревога была страшная»[51]. Подобные настроения объяснялись, прежде всего, отсутствием царя в столице и неясностью его реакции на произошедшие события.
Подчиненная министру внутренних дел В.П. Кочубею тайная полиция начала слежку за всеми: купцами, мещанами, крестьянами «на заработках», строителями Исаакиевского собора, солдатами, офицерами, литераторами, даже за испанским послом[52]. Почтамты – Петербургский и Московский – вели тотальную перлюстрацию писем; большинство писем той поры дошло до нас именно благодаря перлюстрации[53]. Естественно, не свободна от этих настроений была и столичная цензура: несколько месяцев после «истории» она была как никогда свирепой.
Здесь можно привести один, но весьма показательный пример, хорошо известный в истории литературы. В ноябре-декабре 1820 г. князь П.А. Вяземский пытался напечатать в журнале «Сын Отечества» свое стихотворное «Послание к Каченовскому». Вяземский служил тогда в Варшаве, и «проталкиванием» стихотворения через цензуру занимался его близкий друг А.И. Тургенев. Собственно, переписка Вяземского и Тургенева отразила нелегкую цензурную историю этого стихотворения[54].
Критические высказывания Вяземского в адрес издателя «Вестника Европы» М.Т. Каченовского были вызваны, прежде всего, литературными причинами. Каченовский нападал в своем журнале на старшего друга Вяземского и Тургенева, Н.М. Карамзина. Однако, по справедливому замечанию Л. Я. Гинзбург, «в это послание проникли политические, вольнолюбивые мотивы»[55].
Тургенев, либеральный, но крайне осмотрительный чиновник, эти «мотивы» вполне уловил, и первое цензурирование текста своего друга провел сам. Затем, в двадцатых числах декабря, он передал «Послание к Каченовскому» в петербургскую цензуру. В цензуре его рассматривал знаменитый цензор И.О. Тимковский, «статский советник и кавалер».
Должность цензора в России была неблагодарной и хлопотной. Цензорами были недовольны все: и те, кто становился объектом цензурирования – литераторы, и власть предержащие. Литераторы высмеивали цензоров в стихах и эпиграммах, власти же готовы были подвергнуть их – за любую оплошность – ответственности вплоть до уголовного преследования.
Тимковский был одним из тех, кто вполне испытал на себе все сложности карьеры цензора. С одной стороны, для литераторов он был личностью одиозной. Так, Пушкин в 1824 г. писал о своих взаимоотношениях с грозным цензором:
Об чем цензуру ни прошу,
Ото всего Т<имковский> ахнет.
Теперь едва, едва дышу!
От воздержанья муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.
Несколько лет спустя поэт заметит, что в годы «царствования» Тимковского
…все твердили вслух,
Что в свете не найдешь ослов подобных двух[56].
С другой же стороны, цензор работал под жестким контролем власти. Как раз в описываемое время, осенью 1820 г., министр духовных дел и народного просвещения князь А.Н. Голицын приказывал «сделать замечание г. цензору статскому советнику Тимковскому, что в книжке «Дух Журналов» сего года № 17 и 18, одобренной им к напечатанию, на стран[ице] 187 и 188 находятся места, вовсе неприличные и противные Уставу о цензуре, которых ему никак. не следовало пропускать. Посему впредь он должен того всемерно остерегаться, как уже и неоднократно сие подтверждено было»[57].
Сложность положения Тимковского в полной мере отразилась и в истории с цензурированием «Послания к Каченовскому». После «семеновской истории» и выговора от Голицына Тимковский был крайне осторожен. О результатах рассмотрения рукописи Тургенев сообщал Вяземскому: «неумолимый Тимковский, кроме двух, мною выкинутых… стихов, выкинул еще восемь…» Не разрешены к публикации были, в частности, строки, где Вяземский клеймил неких «пугливых невежд», для которых
…свобода – своевольство!
Глас откровенности – бесстыдное крамольство!
Свет знаний – пламенник кровавый мятежа!
Паренью мыслей есть извечная межа,
И, к ней невежество приставя стражей хищной,
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний[58].
В данном случае Тургенев не был согласен с цензором, надеялся уговорить его вернуть вычеркнутые строки и в помощники себе избрал С.С. Уварова, тогда попечителя Санкт-петербургского учебного округа, прямого начальника Тимковского. Из того же письма Тургенева, от 29 декабря, мы видим, что борьба шла за каждую сточку, за каждое слово: «Вчера отдал я пропущенный, но искаженный экземпляр Уварову. Авось он еще спасет стиха два… Тимковский выпустил и имя Каченовского, оставив заглавные буквы; но мне хочется оставить его и, вероятно, оставлю. Одно вымаранное слово и замененное другим я уже спас. Вместо чернь и царь цензор поставил все и царь[59]. Какая противоположность! Во второй книжке «Сына Отечества» послание явится, но к первой не поспеет».
Впрочем, Тургенев и здесь выступал как человек осторожный, не желавший подводить других и понимавший особенности цензорский службы. «Я и сам боюсь за Тимковского; лучше пустим их (стихи – А.Г., О.К .) вполне в списках…»[60], - предлагал он Вяземскому. В итоге выброшенные цензором строки восстановлены все же не были. Вяземский был возмущен. «Сделай милость, - писал он Тургеневу, - когда буду в Петербурге, скажи мне, где показывают Тимковского? У него должно быть рыло этих собак, которые за трюфелями ходят. Что за дьявольское чутье! Ни одна мысль не уживается при нем: как раз носом отыщет и ценсорскою лапою выроет»[61].
Таким образом, Тимковский, в сентябре 1820 г. получивший выговор от Голицына и в декабре того же года исказивший смысл стихотворения Вяземского – между двумя этими событиями, в ноябре, подписал в печать номер «Невского Зрителя» с сатирой «К временщику». По-видимому, у Рылеева были все основания для бравады, когда 23 ноября он сообщал своему приятелю М.Г. Бедраге: «Моя сатира к временщику уже печатается в 10 книге «Невского Зрителя». Многие удивляются, как пропустили ее»[62]. Заметим, что удивление «многих» в данном случае было вполне оправдано.
***
Поведение Тимковского было странным, но не менее странным оказался и выбор места для публикации сатиры. Журнал «Невский Зритель» выходил всего полтора года, с января 1820 по июнь 1821 г., и резко отличался от многих других периодических изданий той эпохи. В главных журналах, таких как «Сын Отечества», «Вестник Европы», «Благонамеренный» и др. была эстетическая, а иногда и политическая платформа, было свое место в литературной полемике, было свой, устоявшийся круг авторов и читателей.
Единую платформу в «Невском Зрителе» найти сложно; журнал был крайне неровным. В истории журналистики он известен прежде всего тем, что в нем публиковался молодой Пушкин, а также его друзья-поэты: А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер и Е.А. Баратынский. Однако произведениями «союза поэтов», Пушкина и его друзей, заполнены лишь первые четыре номера «Невского Зрителя». С мая по сентябрь того же года ничего более или менее значимого для истории литературы в журнале не появлялось.
Затем несколько номеров, с октября 1820 по март 1821 г., журнал наполняют стихи Рылеева; появляются также произведения близкого к нему литератора О.М. Сомова. Рылеев планирует стать соиздателем «Невского Зрителя», однако по невыясненным обстоятельствам этот план не осуществился. В апреле Рылеев и Сомов уходят из журнала, и последние книжки его опять наводняют произведения второстепенных литераторов[63]. Постоянным автором «Невского Зрителя» был только знаменитый графоман граф Д.И. Хвостов.
Причины, обусловившие столь разное наполнение книжек журнала, нам неизвестны. В истории журналистики и литературы практически не оставили следов официальный издатель «Невского Зрителя», 28-летний сотрудник департамента горных и соляных дел, «магистр этико-политических наук» И.М. Сниткин[64] и его главный помощник, служащий столичного почтамта Г.П. Кругликов. Одно можно сказать твердо: до осени 1820 г. на «Невский Зритель» власти смотрели с большим недоверием.
В июльском номере журнала Сниткин опубликовал первую часть собственной статьи под названием «Должен ли быть позволяем привоз всех иностранных товаров, или только некоторых, и каких более?» Горячий поклонник Адама Смита и его экономической теории, Сниткин был сторонником «разрешительной» системы и утверждал, что «не должно слишком опасаться, чтобы какое-либо общество с дозволением привоза иностранных товаров пришло в бедность. С тем вместе будет более денежных оборотов, более вещей в торговле и, следственно, богатство общества может возрастать»[65].
Публикация эта была по тем временам крамольной. Она нарушала многочисленные циркуляры министра Голицына – о том, что статьи, в которых обсуждаются действия правительства, «могут быть токмо печатаемы, когда правительство, по усмотрению своему, само находит то нужным и дает свое приказание, без которого ни под каким видом не должно быть печатаемо ничего ни в защищение, ни в опровержение распоряжений правительства».
Статья Сниткина вызвала гнев Голицына. В августе 1820 г. последовал еще один циркуляр министра на имя Уварова: «в книжке журнала «Невский Зритель», часть первая, март, помещена опять целая статья, под названием «О влиянии правительства на промышленность», в коей делаются замечания правительству в постановлениях и распоряжениях его, и даются оному наставления, весьма неприличные ни в каком отношении. Таковое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в каком случае не может быть позволено.
Посему покорнейше прошу вас, милостивый государь мой, предписать единожды навсегда цензуре ни под каким видом не пропускать никогда подобных сочинений и переводов, под ответственностию в противном случае Цензурного комитета или того цензора, который сие нарушил»[66].
Казалось бы, после столь гневного окрика дни «Невского Зрителя» должны были быть сочтены. Видимо, последствием недовольства министра стал распространившийся среди столичных литераторов слух, что «Невский Зритель» скоро прекратит свое существование. «”Невский Зритель” издыхает и… к новому году закроет глаза», - писал А.Е. Измайлов П.Л. Яковлеву тогда же, в августе 1820 г[67].
Но мрачные прогнозы в отношении журнала не оправдались. Следующий, августовский номер «Невского Зрителя» получил цензурное разрешение только 2 октября 1820 г. Однако открывался номер продолжением статьи Сниткина[68]. И если первая часть статьи уместилась на 18 журнальных страницах, то продолжение ее заняло целых 30 страниц.
Следующий, сентябрьский номер (вышедший несколькими днями позже «семеновской истории») содержал и вовсе неожиданные для читателей заявления. Под рубрикой «Разные известия» были опубликованные две небольшие анонимные заметки без названия: «Монитер говорит: “Умный человек есть столп, на котором всякое Правительство охотно прибивает свои объявления”»; «Одна французская газета, которая издавалась под руководством министерской партии, сказала про оппозиционный журнал: “Вы худо чините свои перья”. – “Конечно, вы не имеете этого недостатка, - отвечали издатели журнала, - потому что перья свои получаете уже совсем очиненными”». В том же номере было опубликовано и «Уведомление» об издании «Невского Зрителя» на 1821 г., в котором сообщалось, что в будущем году журнал продолжит обсуждение «важных переворотов, которыми решалась судьба царств», а также «современной политики, т.е. обозрения настоящего положения Европы» [69].
Таким образом, негодование министра сошло на нет, а журнал во всеуслышание заявил о своем уме, оппозиционности и неизменности курса на обсуждение политических событий. Между тем, за нарушение предписаний Голицына журналы подлежали безусловному закрытию[70].
***
В истории публикации сатиры «К временщику» странным выглядит и поведение ее автора, К.Ф. Рылеева. В конце 1820 г. он еще не был знаменитым поэтом. Первые робкие шаги в литературе делал 25-летний отставной подпоручик, не выслуживший на военной службе ни денег, ни чинов и незадолго до описываемых событий вышедший в отставку. В столице Рылеев вынужден был снимать дешевую квартиру, и просил «маменьку» прислать ему «на первый случай посуды какой-нибудь, хлеба и что вы сами придумаете нужное для дома, дабы не за все платить деньги»[71]. На руках у Рылеева, кроме жены, был грудной ребенок – дочь Анастасия.
В вопросе о том, каким образом Рылееву удалось войти в литературные круги Петербурга, много неясного. Не лишено оснований предположение Б.Т. Удодова о том, что, служа после окончания Заграничных походов в Острогожском уезде под Воронежем, Рылеев мог познакомиться там с Милоновым. В 1815 – 1818 гг. Милонов жил в поместье отца Придонский Ключ Задонского уезда той же губернии[72]. Летом 1818 г. Милонов возвращается в Петербург, поступает на службу, восстанавливает литературные знакомства и много печатается в журналах. Главной его трибуной становится в этот период журнал А.Е. Измайлова «Благонамеренный». Измайлов был старым и близким другом Милонова, в 1810-е гг. он был одним из издателей журнала «Цветник», опубликовавшего сатиру «К Рубеллию».
Про Измайлова было известно, что он в своем журнале печатает «и своих родственников, и своих приятелей, и родственников своих приятелей»; журнал являлся, по сути, «домашним предприятием»[73]. «Благонамеренный (изд. г. Измайлов, в С. Петербурге) забавен для своего круга», - такими словами характеризовал впоследствии этот журнал А.А. Бестужев[74]. И не исключено, что именно Милонов ввел Рылеева в «домашний круг» Измайлова; по крайней мере, именно в «Благонамеренном» впервые увидели свет две эпиграммы никому не известного поэта. Эпиграммы эти, весьма, впрочем, посредственные, появились в мартовской книжке (№ 5) журнала за 1820 г. и были подписаны криптонимом К. Р-въ[75] . В следующем номере «Благонамеренного» появляется подписанное тем же криптонимом еще одно стихотворение – любовного содержания, под названием «Романс»:
Как счастлив я, когда вдруг осторожно,
Украдкой ото всех целуешь ты меня.
Ах, смертному едва ль так счастливым быть можно,
Как счастлив я![76]
Криптоним был раскрыт в 13-й, июльской, книжке «Благонамеренного»; в этом номере за полной подписью Рылеева была напечатана элегия «К Делии (Подражание Тибуллу)» – на самом деле стихотворение было подражанием К. Н. Батюшкову и тому же Милонову. В том же номере была опубликована и еще одна его эпиграмма, опять-таки за подписью К. Р-въ [77]. Июльским номером 1820 г. участие Рылеева в «Благонамеренном» завершается – и до ноября его произведения в печати не появлялись. К моменту написания сатиры «К временщику» он был, таким образом, автором пяти опубликованных произведений: трех эпиграмм и двух любовных стихотворений. Что заставило его уйти из «Благонамеренного» в «Невский Зритель», неизвестно.
Сам Рылеев квалифицировал свою сатиру «К временщику» как «неслыханную дерзость» [78]. А.И. Тургенев писал в феврале 1821 г. Вяземскому: «Читал ли дурной перевод Рубеллия в «Невском Зрителе»? Публика, особливо бабья, начала приписывать переводчику такое намерение, которое было согласно с ее мнением»[79]. «Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему», – вспоминал Н.А. Бестужев[80]. Произведение это произвело в петербургском обществе эффект разорвавшейся бомбы.
И, конечно, современники не могли не удивиться не только дерзости, с которой никому не ведомый отставной подпоручик бросал вызов Аракчееву. Удивительнее всего был тот факт, что за публикацию сатиры «ничего не было» не только Рылееву, но и Тимковскому со Сниткиным и Кругликовым.
О том, почему «кары» со стороны Аракчеева так и не «грянули», существует рассказ самого Рылеева (в передаче И.Н. Лобойко): «Аракчеев… отнесся к министру народного просвещения князю Голицыну, требуя предать цензора, пропустившего эту сатиру, суду. Но Александр Иванович Тургенев, тайно радуясь этому поражению и желая защитить цензора, придумал от имени министра дать Аракчееву такой ответ: «Так как, ваше сиятельство, по случаю пропуска цензурою Проперция (по-видимому, Лобойко в данном случае подвела память, Рылеев в своей сатире ссылался не на Проперция, а на Персия – А.Г., О.К .) сатиры, переведенной стихами, требуете, чтобы я отдал под суд цензора и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то, прежде чем я назначу следствие, мне необходимо нужно знать, какие именно выражения принимаете вы на свой счет?» Тургенев очень верно рассчитал, что граф Аракчеев после этого замолчать должен, ибо если бы он поставил министру на вид эти выражения, они не только бы раздались в столице, но и во всей России, ненавидевшей графа Аракчеева»[81].
В рассказе этом много неточностей: либо Лобойко со временем забыл подробности, либо Рылеев сознательно мистифицировал своего приятеля.
Вызывает сильное сомнение участие в этой истории Тургенева. Департамент, который в Министерстве духовных дел и народного просвещения возглавлял Тургенев, занимался духовными делами иностранных вероисповеданий. Как видно из истории с «проталкиванием» в печать «Послания к Каченовскому», частным образом на дела цензуры Тургенев влиять пытался. Но, как справедливо отмечает В.М. Бокова, «ни к какой цензуре» он «отношения по службе не имел и отписок по ее ведомству составлять не мог»[82]. Естественно, влияния Аракчеева вполне хватило бы, чтобы потребовать назначения суда над цензором. Но в этом случае Голицын должен был бы дать поручение «назначить следствие» не Тургеневу, а Уварову.
Более того, в конце ноября 1820 г. служебное положение Тургенева оказалось весьма шатким: на одном из заседаний Государственного совета он публично повздорил с министром юстиции и едва не вызвал последнего на дуэль. В итоге Тургенева обвинили в нарушении общественного порядка. «Называют сей поступок хуже и опаснее семеновского», – жаловался он Вяземскому[83]. Сам будучи в критической ситуации, Тургенев вряд ли стал бы вступаться за Тимковского и Рылеева по собственной инициативе.
Об этой истории есть и другой рассказ, гораздо более лаконичный, но и более правдоподобный: «Не сдобровать бы издателям «Невского Зрителя» и не избавиться бы им мщения графа (Аракчеева – А.Г., О.К .), если бы за них не заступился князь Голицын, который был тогда министром народного просвещения.»[84]. Этот рассказ тем более ценен, что принадлежит он непосредственному участнику событий, издателю «Невского Зрителя» Г.П. Кругликову.
Обобщая оба эти свидетельства, можно констатировать: спасение действительно пришло из Министерства духовных дел и народного просвещения. Но исходило оно вовсе не от Тургенева, а непосредственно от министра. Ответ на вопрос о том, зачем Голицыну было покрывать Тимковского, Рылеева и издателей журнала может быть только один: все они в истории с сатирой действовали не сами по себе. Они исполняли политический заказ, исходивший непосредственно от Голицына. Нетрудно предположить, что журнал «Невский Зритель» мог позволить себе публикацию такой сатиры именно потому, что его оппозиционность была санкционирована высшей властью в лице министра. Возможно, что просьбу министра передал Рылееву Г.П. Кругликов, соиздатель «Невского Зрителя» и одновременно сотрудник подчинявшегося Голицыну столичного почтамта.
Часть 3. «Причины зла»
«1815 – 1825 гг. вошли в российскую историю как время сплошной аракчеевщины », - утверждает историк Н.А. Троицкий, и такое утверждение является общим местом в исследованиях, посвященных Александровскому царствованию[85]. Но утверждение это несправедливо: к началу 1820 г.г. можно говорить не об одном, а по меньшей мере о трех российских временщиках, наделенных со стороны Александра I «особливым доверием». Кроме Аракчеева это были тот же князь Голицын, а также князь П.М. Волконский. Сравнивая трех временщиков, Ф.Ф. Вигель отмечал, что «в беспредельной преданности царю у Аракчеева более всего был расчет, у Волконского – привычка; только разве у одного Александра Николаевича Голицына – чувство»[86].
В начале 1820-х гг. у российских временщиков были четко разграниченные обязанности. В зоне ответственности Волконского, начальника Главного штаба, была армия и все дела, с нею связанные. Аракчеев отвечал за назначение министров и генерал-губернаторов, поскольку заведовал канцелярией Комитета министров, высшего административного органа в России. Он же был главным начальником военных поселений – любимого детища Александра I. На Голицыне лежала ответственность за, так сказать, гуманитарную сферу: в его ведении находилось Библейское общество и Министерство духовных дел и народного просвещения. И невозможно дать однозначный ответ на вопросы о том, кто – Волконский, Аракчеев или Голицын – был при дворе более влиятельным и кто больше принес России добра или зла.
О Волконском вспоминали как о как о «благоразумном и опытном» военачальнике[87], не наделенном, впрочем, особой государственной мудростью. Всецело погруженный в служебные дела, молчаливый и замкнутый, Волконский «никого не хотел знать: ни друзей, ни родных; не только наград, прощения, помилования в случае вины никому из них не хотел он выпрашивать». «На одном Волконском истощалось иногда все дурное расположение духа государя, к нему чрезвычайно милостивого: он все переносил со смирением и, вероятно, полагал, что, в свою очередь, имеет он право показывать себя грубым, брюзгливым с подчиненными, даже с теми, к которым особенно благоволил»[88].
Начальник Главного штаба очень много сделал для развития армии, для правильной организации ее квартирмейстерской частей. Он развивал военное образование, основал Московское училище колонновожатых, приохотил многих офицеров к изучению военных наук и математики. Но, в то же время, в годы его управления в армии процветали коррупция и кумовство, шагистика и фрунтомания. Зачастую они заменяли необходимое уважение подчиненных к начальникам и элементарную дисциплину.
Аракчеев тоже много сделал для армии, особенно для артиллерийской ее части. Он основывал учебные заведения для артиллеристов, писал книги по артиллерии, был инициатором создания Артиллерийского ученого комитета и издания специального «Артиллерийского журнала». В руководимых им военных поселениях открывались школы и госпитали, был организован даже Крестьянский заемный банк[89]. Перу Аракчеева принадлежит один из проектов освобождения крестьян от крепостной зависимости. Но военными поселениями он управлял жестко, подчас жестоко. В поселениях жилось плохо и крестьянам, и солдатам, над ними издевались офицеры-аракчеевцы. В 1819 г. Аракчеев жестоко подавил бунт военных поселян в Слободско-Украинской губернии. Ни одно серьезное кадровое решение Александр I не принимал, не посоветовавшись с Аракчеевым, министры и генерал-губернаторы искали его покровительства. Гнева временщика чиновники всех рангов боялись, по-видимому, гораздо больше, чем гнева императора.
В мемуарах современников личность Аракчеева окрашена в самые черные краски. По характеру своему он был, по-видимому, тяжелым и неуживчивым человеком. Современники отмечали, прежде всего, его «неумолимую, часто доходившую до жестокости строгость», «бесконечно самолюбие, самонадеянность и уверенность в себе», «злопамятность и мстительность»[90].
Но были и те, кто Аракчеева любил и считал благодетелем. Так, к примеру, известный декабрист, подполковник Г.С. Батеньков, служивший под началом Аракчеева, отзывался о нем как о человеке, который «все исполнит, что обещает», «с первого взгляда умеет расставить людей сообразно их способностям: ни на что постороннее не смотрит», «в обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично; с подчиненным совершенно искрен и увлекается всеми страстями»[91]. Уважал временщика и Карамзин, которого никак нельзя заподозрить в низкой лести и «искательстве»[92]. А Вяземский, в молодости Аракчеева крайне не любивший, впоследствии, в мемуарах, заметит, что начальник военных поселений «не страшился» суда истории, «признавал и уважал достоинство и авторитет истории». «В грубой и тусклой натуре Аракчеева, - писал Вяземский, - которой вполне отрицать нельзя, просвечивались иногда отблески теплого и даже нежно чувства»[93].
Столь же неоднозначно оценивали современники и князя Александра Николаевича Голицына.
Голицын остался в мемуарах и историографии личностью, гораздо менее одиозной, чем Аракчеев. О нем вспоминали, как о человеке «незлобивом», «благородных, честных правил», «добрейшем из смертных»[94]. Вяземский вспоминал, что министр «был умный и образованный человек; был вместе с тем мягкосердечен и услужлив, более был склонен иногда легкомысленно и неосторожно одолжать, нежели сухо отказывать в добром участии»[95]. По-видимому, в частной жизни Голицын был на самом деле гораздо более мягким и гуманным, чем Аракчеев.
Но далеко не все современники любили и уважали Голицына. В частности, ненавидел его Пушкин. Он высмеивал в стихах гомосексуальные наклонности князя, называл Голицына «холопской душой» и «губителем просвещения»; время его министерского правления считал «мрачной годиной».
И вот, за все грехи, в чьи пакостные руки
Вы были вверены, печальные науки!
Цензура! вот кому подвластна ты была!
– возмущался поэт во «Втором послании к цензору»[96]
Образованная в 1812 г. под председательством Голицына общественная организация, Библейское общество, ставила перед собою благую цель – перевод Библии на языки народов, населяющих Россию, в том числе и на русский язык. Усилению позиций Библейского общества во многом способствовала и организация в 1817 г. Министерства духовных дел и народного просвещения. Это «сугубое» министерство подмяло под себя не только собственно ведомство просвещения, но и иностранные вероисповедания, и православный Синод, и периодические издания (за исключением нескольких ведомственных газет и журналов), и Академию Наук, и вольные общества, и цензуру (через посредство цензуры – и литературу), и даже управление почтами. На посту министра князь, как мог, развивал просвещение, учреждал школы и университеты: в частности, при нем был основан Санкт-Петербургский университет. С его санкции открывались новые периодические издания, выходили книги. В случае крупных ссор меду литераторами он выступал в качестве своеобразного «третейского судьи»[97]. «Новое министерство было, в значительной степени, личным ведомством князя Голицына. Это был личный режим больше, чем ведомство», - утверждал Георгий Флоровский[98].
Министр искренне любил многих из своих неспокойных подчиненных, в частности, Александра Тургенева – одного из ближайших своих сподвижников. Про Тургенева современники знали, что он по поручению Голицына и от его имени писал даже партикулярные письма[99]. Министр поддерживал при дворе поэта В.А. Жуковского[100], помогал выкупу из крепостной неволи талантливого юноши А.В. Никитенко, живо интересовался судьбою служившего рядовым в Финляндии Е.А. Баратынского.
Но отнюдь не все дела Голицына способствовали развитию отечественного просвещения. К 1820-м гг. его Библейское общество фактически превратилось в официальную организацию, куда вошло большинство должностных лиц Российской Империи. Под эгидой проповеди слова Божьего в среде членов общества процветали мистицизм, обскурантизм и безудержное ханжество. Делом рук всесильного министра и его приспешников были гонения на профессора А.П. Куницына, разгром Казанского и Петербургского университетов. При нем в ранг государственных деятелей выдвинулись Д.П. Рунич и М.Л. Магницкий. Именно Голицыну российская цензура обязана появлением цензоров Тимковского и Бирукова, вымарывавших из пушкинских стихов вполне невинные строки. «Человек доверчивого и впечатлительного сердца, Голицын умел и хотел быть диктатором. Он и был действительно диктатором немало лет. И эта своего рода «диктатура сердца» была очень навязчивой и нетерпимой, - фанатизм сердца бывает в особенности пристрастен и легко сочетается с презрительной жалостью», - утверждал Флоровский [101].
Естественно, временщики враждовали между собою, добиваясь исключительно влияния на императора. Волконский, например, удивлялся в частных письмах «непонятному ослеплению» государя относительно Аракчеева и вообще «являлся противовесом влиянию Аракчеева, которого презирал и называл “змеем”»[102]. Естественно, в среде близких к Волконскому армейских генералов (И.В. Сабанеев, П.Д. Киселев, М.С. Воронцов, А.А. Закревский) об Аракчееве отзывались не многим лучше. Генералы называли его «проклятым змеем», «уродом», «чудовищем», «чумой», «выродком ехидны», «извергом», «государственным злодеем», «вреднейшим человеком в России» и пр.[103]. Вполне естественно предположить, что из этого тесного генеральского кружка ненависть проникла и в придворную, и, главное, в офицерскую среду. Многие российские офицеры вдруг увидели в Аракчееве «змея» и «чуму».
Неприязненные отзывы о «Грỳзинском» (от имения Аракчеева Грỳзино) можно обнаружить, например, в переписке Тургенева[104]. Мнение Тургенева, в свою очередь, не могло обойти стороной и его многочисленных друзей – петербургских литераторов. Для того же Вяземского в 1820-е гг. Аракчеев – не просто негодяй, но почти мифический злодей, не просто Змей, но эпический Змей Горыныч[105].
Аракчеев, в отличие от своих оппонентов и их сторонников, был немногословен. Но в 1823 г. ему удалось добиться смещения Волконского с поста начальника Главного штаба, а в 1824 г. – удаления от министерской должности Голицына. На место Волконского был назначен лично преданный Аракчееву И.И. Дибич, а на место Голицына – А.С. Шишков, участвовавший вместе с графом в свержении министра. Именно с этого времени, с середины 1824 г., в стране установился режим, который можно назвать аракчеевщиной . Уставший царь практически перестал заниматься государственными делами и переложил их на плечи ставшего поистине всесильным Аракчеева.
Но во время «семеновской истории» расклад сил был другим, не таким, как в 1824 г. Волконского в столице не было, он сопровождал государя в Лайбах, на конгресс Священного союза. Аракчеев не был активен: он переживал приступ тяжелой депрессии, «меланхолии и скуки», последствие как «общего расслабления», так и «расстроенного желудка и тронутых нервов». Приступ этот настиг его в конце 1820 г. и закончился лишь год спустя[106]. В это время Аракчеев почти не выезжал из своего Грузино.
Активным в столице оставался только один из временщиков – князь Голицын. Недаром прекрасно знавший эпоху, собиравший о ней устные рассказы и документы Л.Н. Толстой устами декабриста Пьера Безухова скажет в эпилоге «Войны и мира»: «Библейское общество – это теперь все правительство»[107]. Сюжет, описанный в эпилоге романа, относится к декабрю 1820 г., ко времени после «семеновской истории».
***
«Семеновская история» породила смятение в русском обществе. Судя по документам, современники, и, прежде всего, люди, обличенные властью, искали ответ на вопрос «кто виноват»? Естественно, власти осуждали солдат, ослушавшихся командира. Но большинство тех, от кого зависело принятие решений, искали виновников бунта вне солдатской среды.
Командир Гвардейского корпуса И.В. Васильчиков был уверен: причина «истории» в том, что у полковника Шварца «не хватало ума для удачи в таком полку, где уже одно его назначение восстановило всех против него»[108]. Начальник штаба военных поселений П.А. Клейнмихель считал виновниками офицеров-семеновцев: «Я… в душе своей уверен, что заговор сей происходит не от солдат; к сему делу есть наставники, и хотя пишут, что офицеры в оном не участвуют, но верить сему мудрено»[109]. А дежурный генерал Главного штаба А.А. Закревский делил вину между Шварцем и офицерами поровну: «Сему не иная есть причина, как совершенное остервенение противу полковника Шварца», но и офицеры «не показали должной твердости и решимости начальника»[110].
Самым весомым в данном случае оказалось мнение императора – а было оно весьма своеобразным. «Я сомневаюсь, - писал царь Васильчикову 10 ноября 1820 г., - чтобы одни были виновнее других, и уверен, что найду настоящих виновных в таких людях, как Греч и Каразин» [111]. Сюжет, характеризующий личность В.Н. Каразина и степень его участия в «истории», требует дополнительного серьезного исследования. Скажем только, что Каразин, известный прожектер и доносчик Александровской эпохи, был личным врагом Голицына, писал на него доносы В.П. Кочубею – и, соответственно, защищать его министр духовных дел и народного просвещения не собирался.
В итоге Каразин был арестован, несправедливо обвинен в составлении антиправительственных прокламаций, просидел полгода без суда и следствия в Шлиссельбурге, а затем был сослан в собственное имение под надзор полиции.
Иное дело – знаменитый журналист и педагог Н.И. Греч. К концу 1820 г. Греч был не только издателем журнала «Сын Отечества», но и не менее известным филологом-лингвистом. Его перу принадлежат учебники по русской грамматике, он много преподавал в частных пансионах. Имя Греча неразрывно связано с введением в России ланкастерской системы взаимного обучения. Метод этот, изобретенный англичанами А. Беллем и И. Ланкастером, состоял в том, что наиболее способные ученики учили под руководством учителя своих менее способных товарищей. Он имел, конечно, большие недостатки, но был весьма актуален для России, так как позволял научить грамоте сразу большое количество неграмотных крестьян и солдат.
Греч был одним из пропагандистов этой системы в России. В 1818 г. ему было поручено организовать школу для обучения нижних чинов Гвардейского корпуса, школа была открыта в начале 1819 г. в казармах лейб-гвардии Павловского полка. Солдаты делали быстрые успехи в науках, и в июле того же года школу посетил император. Греч вспоминал: «Государь приехал, в сопровождении Васильчикова, Бенкендорфа, графа Орлова и нескольких других генералов, был очень весел и доволен, любовался пестротой разнокалиберных мундиров, обласкал меня. Произведен был экзамен и кончился к общему удовольствию»[112]. Вскоре Греч получил повышение: стал официальным директором полковых училищ Гвардейского корпуса, ему же поручили заведовать школами для дочерей гвардейских солдат.
В историографии сложилось мнение, что введение в России ланкастерской системы было связано с деятельностью декабристского Союза благоденствия. В январе 1819 г. под руководством Греча было основано Общество для заведения училищ по методе взаимного обучения[113], в состав общества на разных этапах входили деятели тайных декабристских организаций. В.Г. Базанов писал: «Члены Союза благоденствия исключительно серьезно смотрели на учреждение школ взаимного обучения и надеялись превратить Вольное общество в Управу тайного общества по отрасли воспитания»[114]. М.В. Нечкина пошла еще дальше. Она безапелляционно утверждала: «Вольное общество учреждения училищ по методе взаимного обучения… связано в своей деятельности с Союзом благоденствия и не завоевано, а прямо учреждено им»[115].
Между тем, еще в конце XIX в. блестящий историк А.Н. Пыпин выявил генетическую связь распространения в России ланкастерской системы обучения с педагогическими идеями и самого Александра I, и, что особенно важно, князя Голицына и его Библейского общества. «В числе приверженцев и распространителей ланкастерской методы у нас члены Библейского общества играли не малую, если не главную роль», - считал Пыпин[116]. Он, в частности, обратил внимание на рекомендации со стороны Британского Библейского общества своим русским собратьям о заведении подобных школ. «Комитет Библейского общества печатал в своих отчетах письма своих английских корреспондентов, описывавших и рекомендовавших английское устройство школ для сельского населения и для бедных, и т. п.»[117]
В 1816 г. император поручил Голицыну отправить «в Англию для изучения методы Ланкастера» четырех студентов столичного Педагогического института. Голицын распорядился о немедленной отправке студентов, из тех, «кои отличаются похвальным поведением, дарованиями, познаниями в науках и прилежанием своим»[118]. Курировал этих студентов лично попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Уваров.
Сам Голицын был яростным пропагандистом новой системы. Он интересовался успехами студентов, регулярно доносил об этих успехах Комитету министров. В октябре 1817 г. по инициативе князя в Педагогическом институте организуется специальное отделение «для образования учителей приходских и уездных». А в июле 1818 г. Голицын докладывает императору, что отправленные в Англию студенты окончили свое обучение, должны вернуться в Россию и начать преподавание новой системы студентам вновь открытого отделения[119].
Именно Голицын санкционировал устав Общества учреждения училищ (кстати, судя по официальным документам, не имевшего статус вольного), он же представлял этот устав и императору и Комитету министров. Общество это, долженствовавшее обозначать инициативу «снизу», на самом деле считалось структурным подразделением Министерства духовных дел и народного просвещения[120]. Оно обязано было предоставлять в Петербургский учебный округ донесения о своей деятельности, копии протоколов заседаний и речей, читаемых на заседаниях. Таким же структурным подразделением министерства был и комитет для учреждения училищ народного просвещения, созданный при Главном правлении училищ[121]. На правительственные деньги издаются многочисленные пособия для обучения, таблицы для изучения Священного писания составляет один из самых деятельных членов Библейского общества, митрополит Филарет[122].
Греч, конечно, прекрасно понимал, что его организация существует под эгидой князя Голицына, и потому просил министра, чтобы все почтовые отправления от имени Общество учреждения училищ посылались по почте бесплатно – такая привилегия была ранее дарована только Библейскому обществу. Разрешения на это не последовало, зато Обществу было разрешено иметь печать[123].
***
Когда разразилась «семеновская история», император решил, что именно Греч «распропагандировал» солдат в школе, внушил им неповиновение начальству – несмотря даже на то, что семеновские солдаты в этой школе не обучались. «Наблюдайте бдительно за Гречем и за всеми бывшими в его школе солдатами… – предписывал Александр I Васильчикову. – Признаюсь, я смотрю на них с большим недоверием». Император требовал обратить «особенное внимание на счет тех людей, кои обучались в общей школе, бывшей в казармах Павловского полка, как со стороны нравственности и поведения их, так и дисциплины и военного повиновения». «Не сохранили ли [ученики школы] каких сношений с г. Гречем ?» - вопрошал он Васильчикова [124].
Сейчас уже невозможно установить, кто первым подал императору мысль о виновности в «семеновской истории» Греча и ланкастерских школ. Объективно она была выгодна и Волконскому, потому что снимала обвинения с его ведомства, и Аракчееву, поскольку позволяла ослабить влияние Голицына при дворе. Но императорский гнев обозначал конец педагогической карьеры Греча.
В обществе стали распространяться слухи, что Греча то ли высекли, то ли собираются высечь в полиции. Слухи эти воспроизведены, в частности, в мемуарах Н.И. Лорера – правда, декабрист считал, что вина Греча заключалась в написании сатиры «К временщику» и высечь его собирались по приказу Аракчеева. «Вообразите себе, - писал Лорер, - как перепугался этот писатель, когда его схватили и мчали на Литейную, где жил страшный человек. Но Греч дорогой утешал еще себя тем, что, может быть, Алексей Андреевич, очарованный его слогом, поручит ему написать что-нибудь о Грузине или о военных поселениях. Но представьте себе его положение, когда, представ пред очи Аракчеева, он услыхал гнусливый вопрос:
— Ты надворный советник Греч?
— Я, ваше сиятельство.
— Знаешь ли ты наши русские законы?
— Знаю, в[аше] с[иятельство].
— У нас один закон для таких вольнодумцев, как ты: кнут, батюшка, кнут!..»[125].
А в середине 1820-х гг. в одной из шуточных песен Рылеев и А.А. Бестужев опишут сказочные «…острова, // Где растет трын-трава» и где
…не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно[126].
Слухи о телесном наказании незадачливого педагога были, конечно, вымышленными. Но после императорских инвектив за Гречем была установлена полицейская слежка: за ним следили «в клубах, ресторанах, где он бывал, на улицах, поджидали его на папертях церквей, перед театрами». Правительственные шпионы следовали буквально по пятам «за семьей его, прислугой, служащими его типографии, конторы и редакции журнала «Сын Отечества». Составляли даже списки о «выбывших и прибывших» из дома, в котором жил Греч[127].
Интересно отметить, однако, что среди кипы перлюстрированных писем конца 1820 – начала 1821 г., хранящихся в фонде Рукописного отдела Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, писем Греча обнаружить не удалось[128]. Почтовая служба входила в состав Министерства духовных дел и народного просвещения – и, соответственно, он лично отвечал за перлюстрацию писем. Голицын не мог допустить ареста Греча: это означало бы торжество его врагов при дворе, признание князем собственной вины в распространении ставшей в одночасье «вредной» ланкастерской системы. Тем более, что и сам Греч числился починенным Голицына. «Я был тогда на службе почетным библиотекарем в Императорской публичной библиотеке, состоявшей в ведении Министерства просвещения», - вспоминал он[129].
Лично Греч, был, по-видимому, безразличен Голицыну. В 1819 г. министр объявил издателю «Сына Отечества» выговор за непочтительный отзыв о лингвистических трудах Академии наук; Гречу было объявлено, что журнал за подобные отзывы может подлежать запрещению[130]. Через год после «семеновской истории» Голицын потерял всякий интерес к Гречу как к педагогу, к Обществу учреждения училищ и вообще к ланкастерской системе обучения. С 1822 г. свое отрицательное мнение об Обществе министр стал регулярно «доводить до сведения государя»[131]. Фактически общество перестало существовать в 1824 г., а в мае 1825 г. и вовсе закрылось. Позднейшие мемуары Греча исполнены обиды на бывшего покровителя[132].
Но в конце 1820 г. Голицын вынужден был защищать Греча. Очевидно, сатира «К временщику» как раз и была частью «защитительной» кампании, призывавшей отыскивать «причины зла» в другом месте.
Стоит отметить, что, вероятно, Греч понимал, кому он обязан спасением. С 1821 г. произведения Рылеева станут постоянно появляться на страницах «Сына Отечества»; альманах «Полярная Звезда», который Рылеев станет редактировать с 1823 г., будет пользоваться неизменной информационной поддержкой журнала Греча. Обоих литераторов свяжет и тесная личная дружба.
***
В том же номере «Невского Зрителя» за 1820 г., непосредственно вслед за сатирой Рылеева, были опубликованы еще два любопытных произведения. Одно из них – большое стихотворение следующего содержания:
Сыны России! чада славы!
Которым равных в мире нет!
О, род героев величавый!
Красуйся средь своих побед.
*
Хор
А ты, премудрый Царь – кем Россы
Дела великие творят,
Вели – полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
*
Бессмертья славой дух питая,
Пойдем во сретенье врагам;
Любовь к отечеству святая
К бессмертью путь укажет нам.
*
Хор
Вели, премудрый Царь – кем Россы
Дела великие творят,
Вели – полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
*
По трупам и костям противных
Проложим к славе новый путь;
Кто смеет стать противу сильных?
Тверда, как медь, Россиян грудь.
*
Хор
Вели, премудрый Царь – кем Россы
Дела великие творят,
Вели – полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
*
Для нас и Альпы не высоки,
В ущельях тесных путь широк,
Стремнины Рейна не глубоки,
Предел вселенной не далек.
*
Хор
Вели, премудрый Царь – кем Россы
Дела великие творят,
Вели – полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
*
На море, сушу громы кинем,
Попрем ногою самый ад;
Десною мы Париж низринем,
А шуйцей потрясем Царьград.
*
Хор
Вели, премудрый Царь – кем Россы
Дела великие творят,
Вели – полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
*
Цвети, Российская Держава!
Под сению твоих побед;
Твоя тогда умолкнет слава,
Когда померкнет солнца свет!
*
Хор
Вели, премудрый Царь – кем Россы
Дела великие творят,
Вели – полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
Стихотворение называлось «Польской», под ним значилось имя автора – Петр Ракитин . К названию имелось примечание: «Написанный еще в начале 1814 года и доставленный издателям от друга автора К.Ф. Р-ва »[133]. Естественно, под этими инициалами скрывался Рылеев.
Эти стихи уже попадали в поле зрения исследователей, изучавших творчество Рылеева. Но особого внимания они никогда не привлекали. В.И. Маслов просто упоминал о существовании Ракитина и его стихотворения[134]. Н.А. Котляревский комментировал это стихотворение в том смысле, что Рылеев, рекомендовавший его к печати, был «большим патриотом и оставался всегда неравнодушным к славе русского оружия»[135].
Между тем, стихотворения за подписью П. Ракитин , Р-нъ , П.Р-нъ . постоянно появляются на страницах «Невского Зрителя» – все время, пока там сотрудничает Рылеев; стихотворения Рылеева и Ракитина печатаются в журнале вперемешку[136]. Но когда Рылеев уходит из «Зрителя», Ракитин там перестает печататься – и поэт этот исчезает из литературы навсегда. Скорее всего, Петр Ракитин – это просто псевдоним Рылеева, которым он пользовался в «Невском Зрителе». Дополнительным подтверждением этому служит и двусмысленность примечания к «Польскому»: стихотворение было доставлено издателям «от друга автора К.Ф. Р-ва ». Из текста примечания неясно, кто был автором этого текста: Рылеев или его «друг», представивший текст в редакцию.
Конечно, гипотеза о Ракитине как alter ego Рылеева нуждается в дополнительной проверке. Бесспорно одно: Рылеев имел непосредственное отношение к публикации «Польского». И, опубликованное рядом с сатирой «К временщику», стихотворение это составляет с рылеевским текстом единое целое.
Из текста «Польского» следует, что русские солдаты, «полнощные колоссы», готовы по приказу императора и «низринуть» Париж, и «потрясти» Царьград. Солдатской верности противопоставлена подлость и коварство временщика. В ситуации после «семеновской истории» это означало: солдаты ни в чем не виноваты, они по-прежнему покорны царю. А лживому временщику не удастся скрыть «причины зла» «от взора общего», его дела все равно «изобличат» его. Смысл двойной акции Рылеева-Ракитина сводился, в целом, к тому, что все стеснения, претерпеваемые и народом, и солдатами имеют источником единственно злую волю Аракчеева.
Еще один любопытный текст, опубликованный в том же номере – маленькая эпиграмма за подписью –Ъ – :
Не диво, что Вралев так много пишет вздору,
Когда он хочет быть Плутархом в нашу пору[137].
Эпиграмма эта давно атрибутирована Рылееву[138]. Комментируя ее и другие ранние эпиграммы будущего декабриста, А.Г. Цейтлин утверждал: «Убежденный приверженец Батюшкова и карамзинистов, молодой поэт направил удар против бездарных эпигонов классицизма вроде Д.И. Хвостова»[139]. Между тем, перед нами эпиграмма вовсе не на Хвостова и «эпигонов классицизма», а на самого Карамзина – историографа, активно работавшего над томами своей «Истории государства Российского». Как раз в это время Карамзин выпускал вторым изданием первые восемь томов своего труда и готовил к первой публикации 9-й том.
Публикация томов труда Карамзина постоянно комментировалась в печати, в частности, на страницах «Благонамеренного» и «Невского Зрителя». Так, в мае 1820 г. в «Благонамеренном» сообщалось о выходе 8-го тома второго издания «Истории»: «Хотя и выставлен 1819 год на заглавном листе сего осьмого тома, но оный вышел из печати в последних числах прошедшего месяца января. О достоинстве столь важного и единственного у нас творения, каково есть История Российского Государства , сочиняемая Н.М. Карамзиным , считаю говорить излишним: и самые враги почтеннейшего нашего историографа (без которого, скажу мимоходом, может быть, и теперь еще не умели мы писать порядочно прозою) соглашаются, что до него не было у нас настоящей Русской Истории »[140].
В «Невском Зрителе» же, в том же октябрьском номере, было опубликовано сообщение о том, что «подписка на девятый том Истории Государства Российского , сочиненной г. Карамзиным , принимается в книжном магазине гг. Слениных, на Невском проспекте, близ Казанского моста, в доме г-на Кусовникова, под № 44»[141].
Тома «Истории» неизменно вызывали общественный резонанс, и совершенно непонятно, зачем начинающему литератору необходимо было на ровном месте ссориться с могущественным историографом, а главное – с его многочисленными друзьями-литераторами. Литературным сторонником А.С. Шишкова Рылеев не был и в спорах о «старом и новом слоге» не участвовал ни до, ни после публикации эпиграммы.
Между тем, Карамзин был если не личным, то политическим врагом Голицына, сомневался в полезности его деятельности и делился своими сомнениями с государем. Министерство духовных дел и народного просвещения он называл «министерством затмения»[142]. Карамзин считал Голицына и его приверженцев лицемерами, а своему другу И.И. Дмитриеву сообщал: «Князь Голицын хороший человек… но я к нему совсем не близок… Иногда смотрю на небо, но не в то время, когда другие на меня смотрят». По поводу одной из книг, выпущенных под эгидой голицынского Библейского общества, историограф замечал: «Многие сердятся и предсказывают беды нашему просвещению; а я даже и не смеюсь»[143].
По свидетельству А.О. Смирновой-Россет, Голицын платил Карамзину тем же – скрытой неприязнью. Смирнова, ссылаясь на В.А. Жуковского, рассказывала, что когда император при Голицыне заговаривал с Карамзиным – министра это «коробило» [144]. О натянутых отношениях Гллицына и Карамзина современники были прекрасно осведомлены: у министра искали защиты и покровительства даже в научных спорах с могущественным историографом[145].
По мнению же А.Н. Пыпина, «в то время думали, однако, что тогдашние журнальные вылазки против Карамзина делались не без тайных желаний и внушений князя Голицына»[146]. Полицейские агенты сообщали в начале 1821 г. В.П. Кочубею: недовольные Карамзиным «мистики» рассказывают, что «Каразин выпущен из заключения, чтоб освободить место Карамзину»[147].
Скорее всего, антикарамзинская вылазка Рылеева в «Невском Зрителе» была также продиктована желанием всесильного министра. Следует отметить, что Карамзин, со своей стороны, по-видимому, очень не любил Рылеева. Он демонстративно «не замечал» ни его произведений, ни альманаха «Полярная Звезда», в котором печатались почти все друзья и почитатели историографа. «Вспомнил» Карамзин о Рылееве только после событий 14 декабря 1825 г., которых он был очевидцем. Не без некоторого злорадства историограф писал И.И. Дмитриеву: «Первые два выстрела рассеяли безумцев с «Полярною Звездою», Бестужевым, Рылеевым и достойными их клевретами». Две недели спустя он сообщил Дмитриеву, что «оба рыцаря «Полярной Звезды» сидят в крепости» [148].
Часть 4. Некоторые итоги
В вопросе о том, почему выбор Голицына пал в данном случае именно на Рылеева, можно строить только разного рода догадки. Очевидно, министру необходим был человек неизвестный, не вполне включенный в литературный процесс – для того, чтобы «подстроенность» всей этой истории не сразу бросалась в глаза. Соответственно, выпад против Аракчеева в этом случае можно было рассматривать как «глас народа».
Рылеев же, в свою очередь, был полон мечтаний о славе, в том числе и о славе литературной. В письмах его можно встретить, в частности, такие строки: «Иди смело, презирай все несчастья, все бедствия, и если оные постигнут тебя, то переноси их с истинною твердостью, и ты будешь героем, получишь мученический венец и вознесешься превыше человеков». «Быть героем, вознестись превыше человечества! Какие сладостные мечты! О! я повинуюсь сердцу». «Я хочу прочной славы, не даром, но за дело[149]. И в данном случае начинающему литератору представился прекрасный случай прославиться.
История с публикацией сатиры имела и вполне конкретные, зафиксированные в источниках последствия.
Очевидно, ближайшим из них было появление в общественном сознании мысли, что в «семеновской истории» виноват именно Аракчеев, который, зная Шварца как жестокого офицера, специально рекомендовал его к должности командира Семеновского полка. Впоследствии мысль эта стала всеобщей – и в мемуарах, и в историографии.
Именно Аракчеев, вместе с великим князем Михаилом Павловичем, «добились замены Потемкина (прежнего командира полка – А.Г., О.К .) Шварцем», - утверждал в мемуарах бывший семеновский офицер, М.И. Муравьев-Апостол[150]. «Аракчеевские ставленники начали занимать места командиров на ответственнейших постах, и креатура Аракчеева — полковник Шварц был назначен в 1820 г. командиром лейб-гвардии Семеновского полка», - такой видится ситуация в армии в 1820 г. М.В. Нечкиной[151]. «В 1820 г. популярного командира лейб-гвардии Семеновского полка Потемкина заменил Шварц, вошедший в историю аракчеевщины как ее олицетворение», - считает Е.А. Прокофьев[152]. А автор вышедшей не так давно монографии, специально посвященной неповиновению семеновцев, В.А. Лапин, даже посвящает несколько страниц изложению биографии Аракчеева[153].
Между тем, никакого отношения к назначению Шварца Аракчеев не имел и, по-видимому, даже не знал его лично. Согласно документам, назначение полковника командиром семеновцев состоялось по рекомендации гвардейского генерала П.Ф. Желтухина[154]. Но и в этой рекомендации ничего необычного не было: 1819 и 1820 гг. вошли в историю гвардии как время постоянной смены полковых командиров. Аракчеев же Шварца никоим образом не поддерживал и не оправдывал.
Но после «семеновской истории» и сатиры «К временщику» имя Аракчеева становится едва ли не нарицательным, обозначающим государственного злодея. На него пишутся многочисленные эпиграммы, которые распространяются в не менее многочисленных списках и даже пересылаются по почте. Ни писать, ни читать эти эпиграммы уже не страшно: произведение Рылеева публиковалось в открытой печати.
Семеновский полк был раскассирован: и солдат, и офицеров перевели в армейские полки, стоявшие в провинции – без права отпуска и отставки. Некоторые особо активные солдаты оказались на Кавказе. Шварц, приговоренный военным судом к смертной казни, был в итоге отправлен в отставку.
В отставку с должности директора полковых школ был вынужден уйти и Греч – поскольку власти не могли не выполнить прямого царского указания. Однако наказание это было весьма условным: он остался в литературе и журналистике, и за ним даже не был учрежден тайный полицейский надзор.
По-видимому, именно в связи с публикацией в «Невском Зрителе» вынужден был покинуть пост цензор Тимковский – но цензурная политика правительства от этого не стала мягче.
Явился Бируков, за ним вослед Красовский:
Ну право, их умней покойный был Тимковский!
- констатировал Пушкин[155].
Положение же самого Голицына укрепилось: 28 декабря 1820 г. «начальник Главного штаба Его императорского величества (П.М. Волконский – А.Г., О.К. ), в отношении своем к министру духовных дел и народного просвещения, объявил Высочайшее Его императорского величества повеление, дабы полковые училища состояли под влиянием его, министра духовных дел и народного просвещения, наравне с прочими учебными заведениями, существующими в Санкт-Петербурге»[156]. Влияние Голицына стало практически безграничным: он прямо «относился» к местным властям с требованием завести отделения Библейского общества там, где они еще не были созданы. Власти же – уже самостоятельно – отыскивали по губерниям всех более или менее влиятельных помещиков и чиновников и уговаривали их вступать в общество.
Жертвой подобного рвения едва не стал сам граф Аракчеев. 7 марта 1821 г. нижегородский губернатор Д.С. Жеребцов, в «ведении» которого находилось аракчеевское Грузино, написал графу письмо. В письме он сообщал следующее: «Между тем, как в Новгороде доселе еще не было устроено особенного отделения Библейского общества для вящего распространения книг Священного Писания, г. президент общества сего относился ко мне о содействии в том, и вследствие сего сделаны все нужные распоряжения к учреждению помянутого отделения. Первою обязанностью моею в сем случае я поставляю довести о сем до сведения вашего сиятельства, как, во-первых, помещика новгородского, так, во-вторых, главного начальника над военными поселениями, с тем, что не благоугодно ли вам будет принять участие в учреждающемся отделении Библейского общества в звании ль члена или вице-президента, и почел бы себе за счастье получить уведомление о соизволении вашем в том или другом случае для предварительного с моей стороны сведения»[157].
Аракчеев, естественно, отказался от предложения Жеребцова. Однако его ответное письмо губернатору, от 13 марта, полно недоговоренностей и двусмысленностей. Аракчеев писал: «По пребыванию моему в самом Петербурге, где состоит главное Библейское общество, то я и могу оным пользоваться здесь, следовательно, прошу меня совершенно не считать принадлежащим к составу Новгородского общества»[158].
По-видимому, даже он опасался гнева Голицына и не решался прямо заявить о принципиальном несогласии с деятельность Библейского общества. Хотя, конечно, и в состав центральных органов этого общества Аракчеев не вошел.
Рылеев же после публикации сатиры в одночасье стал известным поэтом. Вскоре он вступил в Вольное общество любителей российской словесности (как и Общество учреждения училищ, состоявшее в ведении министерства духовных дел и народного просвещения). С 1823 г. стал, совместно с А.А. Бестужевым, редактировать, а потом и издавать альманах «Полярная Звезда» - быстро заслуживший славу лучшего русского альманаха. У Рылеева появилось многое из того, о чем он мечтал: деньги, литературная известность, широкое общественное поприще. Сатира «К временщику» стала определяющей для дальнейшего творчества поэта-декабриста: действительно, в его лирике гражданские темы стали после 1820 г. главными.
И поэтическая, и журналистская, и конспиративная деятельность Рылеева требует отдельных, специальных работ. Очевидно лишь одно: необходимость коренного пересмотра сложившегося и в декабристоведении, и в истории литературы «рылеевского» мифа.
Опубликовано: Вопросы литературы. 2010. № 3.
Примечания
[I] Авторы искренне благодарят коллег: Д.П. Ивинского, Л.Ф. Кациса, М.П. Одесского, В.С. Парсамова и Д.М. Фельдмана за дружеское участие и ценные советы при написании этой статьи – А.Г., О.К .
[1] Невский Зритель. 1820. Ч. IV. № 10. С. 26 – 28; Рылеев К.Ф. К временщику (Подражание Персиевой сатире: «К Рубеллию») // Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 89-90.
[2] См., напр.: Сиротинин А.Н. К.Ф. Рылеев – биографический очерк // Русский Архив. 1890. № 6. С. 113-208; Котляревский Н.А. Рылеев. СПб., 1908; Маслов В.И. Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912; Пигарев К.В. Жизнь Рылеева. М., 1947; Цейтлин А.Г. Творчество Рылеева. М., 1955; О’Мара П. К.Ф. Рылеев: Политическая биография поэта-декабриста. М., 1989.
[3] Фомичев С.А. Рылеев Кондратий Федорович // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т. 5 М., 2007. С. 410.
[4] Котляревский Н.А. Указ. соч. С. 42.
[5] Маслов В.И. Указ. соч. С. 153.
[6] Семевский В.И. Общественные и политические идеи декабристов. СПб., 1909. С. 67; Нечкина М.В. Движение декабристов. Т. 1. М., 1955. С. 256.
[7] Шестакова Л.Л. Сатира «К временщику» в творческой и политической биографии К.Ф. Рылеева // 170 лет спустя... Декабристские чтения 1995 года. М., 1999. С. 118 – 119.
[8] Бестужев Н.А. Сочинения и письма. Иркутск, 2003. С. 100 – 101.
[9] Цветник. 1810. № 10. С. 63.
[10] Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2003. Кн. 1. С. 571; Вяземский П.А. Старая записная книжка // Вяземский П.А. Полн. собр. соч: В 12 т. СПб., 1883. Т. 8. С. 345.
[11] Орлов В.Н. Сатирическая поэзия начала 1800-х годов // История русской литературы: В 10 т. М., 1999. Т. 4. С. 58.
[12] Альтшуллер М.Г., Лотман Ю.М. М.В. Милонов // Поэты 1790-1810-х гг. Л., 1971. С. 511.
[13] Большая советская энциклопедия: В 30 тт. 3-е изд. М., 1974. Т. 16. С. 263.
[14] Удодов Б.Т. Милонов Михаил Васильевич // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 58.
[15] Поэты 1790-1810-х гг. С. 537, 854. Ср.: Марин С.Н., Милонов М.В. Стихотворения. Драматические произведения. Сцены и отрывки. Письма. Воронеж, 1983. С. 265.
[16] Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 336 – 337.
[17] Поэты 1790-1810-х гг. С. 536.
[18] Рукописное собрание Научной библиотека Санкт-Петербургского гос. университета. Д. 204. Л. 202, 213. [Электронный ресурс: Протоколы заседаний ВОЛСНХ]. Режим доступа - http://www.lib.pu.ru/rus/Volsnx/prot/prot12.html
[19] Альтшуллер М.Г. Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. М., 2007. С. 407; Арзамас. Сборник. Кн.1. М., 1994. С. 542-543.
[20] Еще один яркий пример мистификации Милонова приведен в книге О.А. Проскурина «Литературные скандалы Пушкинской эпохи» (М., 2000. С. 221). Проскурин справедливо называет Милонова «неистощимым мистификатором».
[21] Дмитриев И.И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 95 - 101.
[22] Поэты 1790 – 1810-х гг. С. 264
[23] Проскурин О.А. Литературные скандалы Пушкинской эпохи. М., 2000. С. 74.
[24] См. об этом: Песков А.М. Буало в русской литературе XVIII первой трети XIX века. М., 1983. С. 82.
[25] Цит. по: Там же. С. 162.
[26] Корнелий Тацит. Анналы. Книга тринадцатая. Книга четырнадцатая // Корнелий Тацит. Сочинения: В 2-х тт. М., 1993. Т.1. С. 232, 262, 276.
[27] Марин С.Н., Милонов М.В. Указ. соч. С. 288.
[28] Вяземский П.А. Старая записная книжка // Вяземский П.А. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 346.
[29] Лонгинов М. Материалы для полного собрания сочинений Михаила Васильевича Милонова // Русский Архив. 1864. Год 2-й. Издание 2-е. М., 1866. С. 1120. Альтшуллер М.Г., Лотман Ю.М. Комментарий к сатире М.В. Милонова «К Рубеллию» // Поэты 1790-1810-х гг. С. 851. Ср.: Удодов Б.Т. Комментарий к сатире М.В. Милонова «К Рубеллию» // Марин С.Н., Милонов М.В. Указ. соч. С. 309..
[30] Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти // Дмитриев М.А. Московские элегии. М., 1985. С. 279.
[31] Маслов В.И. Указ. соч. С. 154 – 155.
[32]Рылеев К.Ф. Пустыня (К М.Г. Бедраге) // Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. С. 105.
[33] Курсив наш – А.Г., О.К.
[34] Словарь Академии Российской. Т. 1. А – Д. СПб., 1806. Стлб. 724.
[35] Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 20.
[36] Пушкин А.С. Письмо П.А. Вяземскому. Одесса. 24-25 июня 1824 г. // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1937. Т. 13. С.98.
[37] Шестакова Л.Л. Указ. соч. С. 122.
[38] Подробнее об этом см.: Тургенев Н.И. Россия и русские. М., 2001. С. 75.
[39] Цит. по: Рыбаков И.Ф. Тайная полиция в «семеновские дни» 1820 г. // Былое. 1925. № 2 (30). С. 73.
[40] Лобойко И.Н. Вольное общество любителей российской словесности в Петербурге в 1824 г. перед его кончиной // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 48.
[41] Базанов В.Г. Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 178.
[42] Кругликов Г.П. Из воспоминаний участвовавшего в русских периодических изданиях первой половины XIX столетия // Петербургская газета. 1871. № 34. 9 марта. С. 3.
[43] Греч Н.И. Воспоминания о моей жизни. М., 2002. С. 305.
[44] Лорер Н.И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 67.
[45] Завалишин Д.И. Воспоминания. М., 2003. С. 142.
[46] Штейнгейль В.И. Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т.1. С. 130.
[47] Бестужев Н.А. Указ. соч. С. 100 – 101.
[48] Текст прокламаций см: Семевский В.И. Волнение в Семеновском полку // Былое. 1907. № 2. С. 83—86, 92—93; Лапин В.А. Семеновская история. Л., 1991. С. 150 – 153.
[49] Лапин В.А. Указ. соч. С. 166.
[50] Сборник Императорского русского исторического общества (далее – сборник ИРИО). СПб., 1890. Т. 73. С. 138.
[51] Восстание декабристов. Документы и материалы (далее – ВД). М., 2001. Т. 20. С. 125.
[52] Рыбаков И.Ф. Указ. соч. С. 69 – 86.
[53] См., напр., Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Далее – ОР РНБ). Ф. 859 (Н.Ф. Шильдер). К. 40. Д. 17 и др.
[54] Об обстоятельствах выступления Вяземского простив М.Т. Каченовского см.: Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Л., 1969. С. 37 – 38, 71 и др.
[55] Гинзбург Л.Я. П.А. Вяземский // Вяземский П.А. Стихотворения. Л, 1986. С. 13.
[56] Пушкин А.С. Дельвигу: ("Друг Дельвиг, мой парнасский брат..."); "Тимковский царствовал — и все твердили вслух..." // Пушкин А.С. Указ. соч. М., 1949. Т. 2. Кн. 1. С. 153, 328.
[57] Дело по приказанию г. министра о замечании цензору Тимковскому за пропуск некоторых статей в «Духе Журналов», в противность Устава о цензуре // Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 733. Оп. 118. 1820 г. Д. 469. Л.1.
[58] Искаженный цензурой вариант стихотворения см.: Вяземский П.А. Послание к М.Т. Каченовскому // Вяземский П.А. Полн. собр. соч. СПб., 1880. Т. 3. С. 219 – 223. Полный вариант: Вяземский П.А. Послание к М.Т. Каченовскому // Вяземский П.А. Стихотворения. С. 148 – 151. Комментарий к этому стихотворению К.А. Кумпан см.: Там же. С. 475-477. Ср.: Нечаева В.С. Комментарии // Вяземский П.А. Избранные стихотворения. М.; Л., 1935. С. 492-493.
[59] Здесь и далее курсив в тексте – А.Г., О.К.
[60] Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. Переписка П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1820 – 1823. СПб., 1899. С. 130.
[61] Там же. С. 142 – 143.
[62] Рылеев К.Ф. Письмо М.Г. Бедраге. Петербург. 23 ноября 1820 г. // Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. С. 454.
[63] Подробнее об этом см.: Вильк Е.А. "Невский зритель" // Пушкин в прижизненной критике, 1820—1827. СПб., 1996. С. 486 — 488.
[64] Дело по отношению исправляющего должность попечителя С. Петербургского учебного округа о дозволении магистру Сниткину издавать журнал под названием «Невский Зритель».РГИА. Ф. 733. Оп. 118. 1820 г. Д. 452. Л. 4 – 6 об.
[65] Невский Зритель. 1820. № 7. С. 17, 18.
[66] Дело по замечанию г. министра о замеченной неприличной статье в книжке «Невского Зрителя» // РГИА. Ф. 733. Оп. 118. 1820 г. Д. 461. Л. 2.
[67] Левкович Я.Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 155.
[68] Невский Зритель. 1820. № 8. С. 103 – 134.
[69] Там же. № 9. с. 28, 286.
[70] Щебальский П.К. Материалы для истории русской цензуры // Беседы в обществе любителей российской словесности пи Императорском Московском университете. М., 1871. Вып. 3. С. 24.
[71] Рылеев К.Ф. Письмо матери, А.М. Рылеевой. [Петербург]. 15 октября 1821 г. // Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. С. 460.
[72] Удодов Б.Т. К.Ф. Рылеев в Воронежском крае. Воронеж, 1971. С. 88.
[73] Проскурин О.А. Литературные скандалы Пушкинской эпохи. М., 2000. С. 191; Эйхенбаум Б.М. Мой временник. Л., 1929. С. 63.
[74] Полярная Звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.; Л., 1960. С.269.
[75] Благонамеренный. 1820. № 5. С. 334, 335.
[76] Там же. № 6. С. 414 – 415.
[77] Там же. № 13. С. 50 – 52; 54.
[78] Лобойко И.Н. Указ. соч. С. 48.
[79] Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 151.
[80] Бестужев Н.А. Указ. соч. С. 100 – 101.
[81] Лобойко И.Н. Указ. соч. С. 48
[82] Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. М., 2003. С. 525.
[83] Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 110-111, 119, 123.
[84] Кругликов Г.П. Указ. соч. С. 3.
[85] Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994. С. 269.
[86] Вигель Ф.Ф. Записки. Т. 2. М., 2003. С. 776.
[87] Вяземский П.А. По поводу записок графа Зента // Вяземский П.А. Полн. собр. соч. СПб., 1882. Т. 7. С. 452.
[88] Вигель Ф.Ф. Указ. соч. С. 776-777.
[89] О военных поселениях см. подробнее: Ячменихин К.М. Армия и реформы: Военные поселения в политике российского самодержавия. Чернигов, 2006.
[90] Гец фон, П.П. Князь А.Н. Голицын и его время // Русский Архив. 1902. № 9. С. 101. Жиркевич И.С. Записки. Русская Старина. 1874. № 2. С. 225.
[91] ВД. М, 1976. Т. 14. С. 143.
[92] См., напр., Дубровин Н.Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (1807 – 1829). М., 2006. C. 430.
[93] Вяземский П.А. По поводу записок графа Зента. С. 460.
[94] Гец фон, П.П. Указ. соч. С. 107; Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883. С. 139; Смирнова-Россет А.О. Автобиография: (Неизданные материалы) // М., 1931. С. 123.
[95] Вяземский П.А. Озеров // Вяземский П.А. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 263.
[96] Пушкин А.С. <На кн. А. Н. Голицына>; Второе послание к цензору // Пушкин А.С. Указ. соч. М., 1949. Т. 2. Кн. 1. С. 117; 327.
[97] Левкович Я.Л. Указ. соч. С. С. 160—161.
[98] Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 133.
[99] Вяземский П.А. Старая записная книжка // Вяземский П.А. Полн. собр. соч. СПб., 1884. Т. 9. С. 244.
[100] О взаимоотношениях Голицына и Жуковского см., в частности: Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. С. 269 – 295.
[101] Флоровский Г., протоиерей. Указ. соч. С. 133.
[102] Сб. ИРИО. Т. 73. С. 81; Николай Михайлович, вел. кн. Генерал-адъютанты Императора Александра I, СПб. 1913. С. 47.
[103] Сб. ИРИО. Т. 73. С. 97, 184, 182, 474 и др.; СПб., 1891. Т. 78. С. 204, 214 и др.; Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1. С. 84.
[104] Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 69.
[105] Вяземский П.А. По поводу записок графа Зента. С. 458.
[106] РГВИА. Ф. 154. Оп. 1. Т. 1. Д.128. Л. 482 об. и др.
[107] Толстой Л.Н. Война и мир // Толстой Л.Н. Собр. соч. в 20-ти тт. Т. 7. М., 1963. С. 313.
[108] Бумаги покойного председателя Государственного совета И.В. Васильчикова // Русский Архив. 1875. Кн.1. № 3. С. 433.
[109] Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. 264.
[110] Сб. ИРИО. Т. 73. С. 109, 113.
[111] Бумаги покойного председателя Государственного совета И.В. Васильчикова // Русский Архив. 1875. Кн.1. № 3. С. 354 – 355.
[112] Греч Н.И. Указ. соч. С. 282.
[113] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. Царствование императора Александра I. 1802 – 1825. Изд. 2-е. СПб., 1875. С. 1230-1233.
[114] Базанов В.Г. Указ. соч. С. 15-16.
[115] Нечкина М.В. Указ. соч. С. 264. С Союзом благоденствия и - в широком смысле – с общественной инициативой связывает деятельность этого общества современный исследователь П.В. Ильин (см.: Ильин П.В. Метод «взаимного обучения» и русское прогрессивное общество (К проблеме просветительства в идеологии и практике либералов 1815 – 1825 гг.). Автореферат диссертации на… канд. ист. наук. СПб., 1996.)
[116] Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000. С. 107.
[117] Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. Спб., 2001. С. 351.
[118] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. С. 889.
[119] Там же. С. 1020, 1186.
[120] Месяцеслов с росписью чиновных особ, или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1820. Часть 1. СПб., 1820. Министерство духовных дел и народного просвещения. Особые заведения. Санкт-Петербургское общество учреждения училищ по методе взаимного обучения. С. 811.
[121] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. С. 1286.
[122] Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. С. 121.
[123] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. С. 1311.
[124] Бумаги покойного председателя Государственного совета И.В. Васильчикова // Русский Архив. 1875. Кн.1. № 3. С. 354 – 355; № 6. С. 128.
[125] Лорер Н.И. Указ. соч. С. 67.
[126] Рылеев К.Ф. Песня («Ах, где те острова…») // Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. С. 272.
[127] Цит. по: Рыбаков И.Ф. Указ. соч. С. 84 – 85.
[128] ОР РНБ. Ф. 859. К. 40. Д. 17 и др.
[129] Греч Н.И. Указ. соч. С. 288.
[130] Щебальский П.К. Указ. соч. С. 27 – 31.
[131] Записки гр. Ф.П. Толстого. М., 2001. С. 214.
[132] Греч Н.И. Указ. соч. С. 293-289.
[133] Невский Зритель. 1820. Ч.4. № 10. С. 29 – 31.
[134] Маслов В.И. Указ. соч. С. 1-2
[135] Котляревский Н.А. Указ. соч. С. 40.
[136] Петр Ракитин. Польской // Невский Зритель. 1820. № 10. С. 29-31; Р-нъ . Наине // Там же. С. 40; Р-нъ. Лиде, которая сказала, что я убегаю ее как смерти // Там же; Р-нъ . Эпиграмма «Невинен Простаков, держася глупых правил…» // Там же. С. 41; Р-нъ. Эпиграмма («Когда Орфей играл…») // Там же; П. Ракитин. Романс («Меня любила ты – я жизнью наслаждался…»)// Там же. № 11. С. 139-140. Черновой автограф этого стихотворения находится в архиве Рылеева в Рукописном отделе Института русской литературы Академии Наук РФ(Ф. 269. Оп. 1. Д. 91. Л. 1 об. – 2); П. Рактитин. Романс («Увы! И день и ночь веду я в огорченьи!..») // Там же. 1821. № 1. С. 38; П. Рактитин. Вино и любовь // Там же. № 2. С. 151-152; П. Р-нъ . Эпиграмма («Имея ум, чины, достоинства в кармане…»)// Там же. № 3. С.263.
[137] Невский Зритель. 1820. Ч.4. № 10. С. 41.
[138] Рылеев К.Ф. Эпиграмма («Не диво, что Вралев так много пишет вздору…») // Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. С. 93; См. то же: Рылеев К.Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 270.
[139] Цейтлин А.Г. Указ. соч. С. 38.
[140] Благонамеренный. 1820. № 9. С. 215.
[141] Невский Зритель. 1820. № 10 С. 85.
[142] Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 11—12.
[143] Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 204, 218, 258.
[144] Смирнова-Россет А.О. Автобиография: (Неизданные материалы). М., 1931. С. 123.
[145] См., напр., письмо историка и археолога З.Я. Доленги-Ходаковского (Адама Чарноцкого) к И.Н. Лобойко от января 1823 г.: «Карамзин подозревая ревность мою, вздумал беспощадно бранить меня и вредить всеми мерами… Я принужден был резко объясниться перед кн[язем] Алекс[андром] Никол[аевичем], жаловаться на сей недостаток патриотизма… Я желаю иметь судьею, протектором и отцом славянина, князя Голицына, и положил на нем все упование» // РО РНБ. Ф. 440 (И.Н. Лобойко). Оп. 1. Д 4. Л. 13 – 13 об.
[146] Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. С. 171.
[147] Цит. по: Рыбаков И.Ф. Указ. соч. С. 74.
[148] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 411, 412.
[149] Рылеев К.Ф. Письмо отцу, Ф.А. Рылееву. [Петербург]. 7 декабря 1812 г.; Письмо Ф.В. Булгарину. [Петербург]. Между 14 и 26 марта 1825 г. // Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. С. 429, 488.
[150] Муравьев-Апостол М.И. Воспоминания и письма. Пг., 1922. С. 45.
[151] Нечкина М.В. Движение декабристов. Т.1. С. 308.