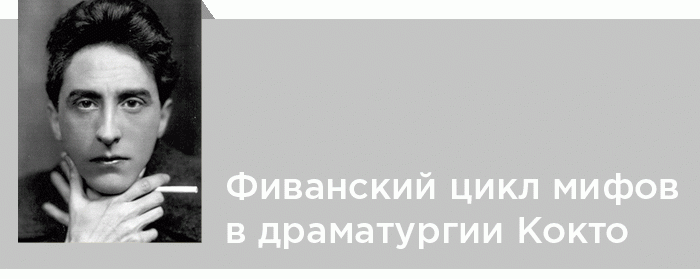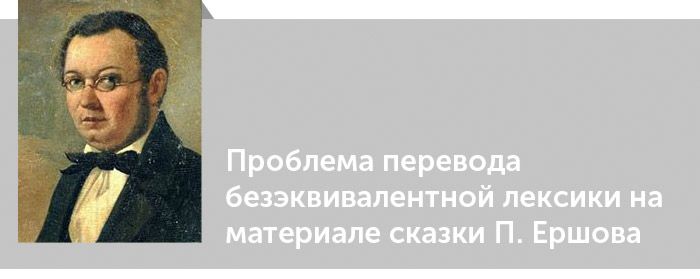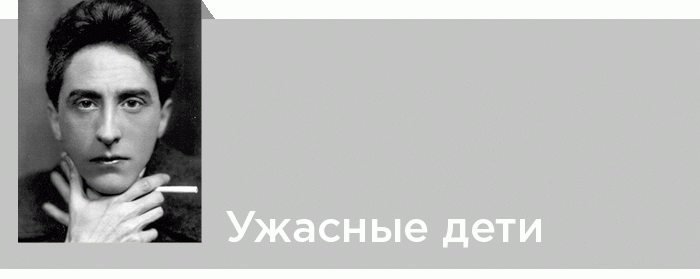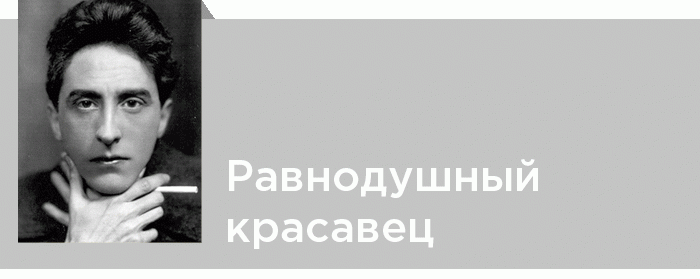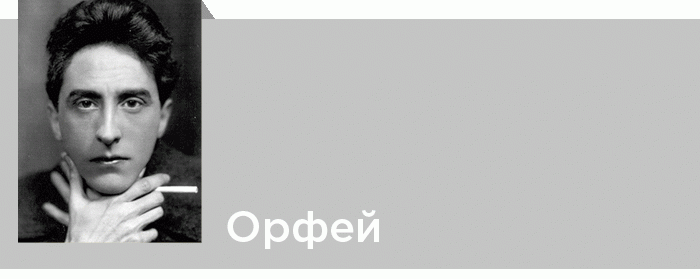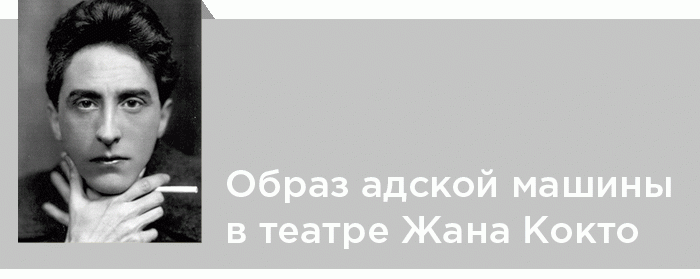Комическое начало в драматургии Жана Кокто
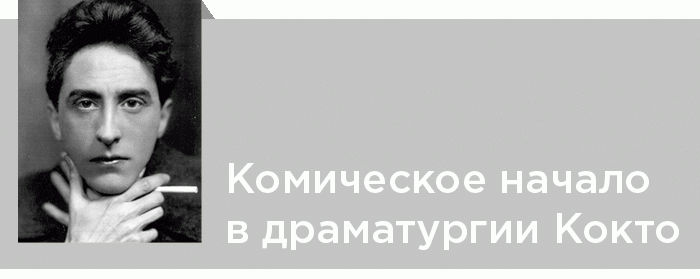
С. Н. Дубровина
Первая четверть XX в. - эпоха возрождения комического театра во Франции. В это время театр не только обращается к классической комедии (постановки Мольера Копо, например), но и к современной комической драме. Начало 1920-х гг. стало плодотворным периодом для жанра комедии и фарса: фарс для мариотток «Медведь и луна» Клоделя (1919), «Дело атлетов» Дюамеля (1920), «Фарс снятого повешенного» Геона (1920), «Дардамелла» Эмиля Мазо (1922), «Месса пропета» Марселя Ашара (1923), крестьянский фарс «Скверная 1югория» Мартена дю Гара (1922-1924) - вот неполный перечень драматургических произведений комического и фарсового жанров, созданных в начале 20-х. Мода на фарс со всей очевидностью являет себя в это время и в очень популярных тогда фильмах Чаплина, в его почта марионеточном передвижении по экрану, клоунской мимике и жестах.
«Именно в этом, - говорит театральный критик в
Эпоха 20-х годов прошлого столетия - это золотой век клоунады, когда стремление эпатировать буржуазную публику и освободить искусство от устаревших догм привело повсюду к царству игры, иллюзии, всплесков ярких клоунских красок. Клоуны пришли на сцену театра и в кино, театральные спектакли вошли в клоунский репертуар, актеры осваивали клоунскую манеру игры. Более популярный, чем театр, интернациональный (ведь его язык понятен всем), зрелищный - цирк позволил театру найти в стремительно меняющемся мире новые формы существования.
«Время желает, - писал Арман Лану в
В
Комическое в постановках Кокто конца 1910-х - начала 1920-х гг.
Активная деятельность Кокто в качестве театрального режиссера и драматурга началась с реалистического балета «Зазывалы» (Parade, 1917). Над этой постановкой он работал в сотрудничестве с Пикассо (декорации), Сати (музыка), Дягилевым (танцоры «Русского балета»), Мясиным (хореография). Несмотря на уверения авторов в том, что их основная идея сводилась «к простоте, к отказу от пестроты, перегруженности, разлада» спектакль был настолько новаторским, что публика могла воспринять его только как грубый фарс, гротеск. В набросках Кокто
Работа над балетом оказалась определяющей для дальнейшего творчества Кокто в театре, для формирования его концепции «поэзии театра». Однако первой самостоятельной пьесой драматурга стали «Новобрачные с Эйфелевой башни» (Les Mariés de la tour Eiffel, 1921), и если, по словам Аполлинера, постановка «Зазывал» стала «альянсом живописи и танца», то «Новобрачных...» с полным правом можно назвать альянсом живописи, танца и слова. Кокто был не только автором текста, но и одним из хореографов, а также разрабатывал - вместе с Жаном Гюго - костюмы и маски.
Незамысловатый «сюжет» пьесы - свадьба на одной из площадок Эйфелевой башни с необходимыми невестой, женихом, свадебным генералом, шаферами, подругами невесты - превращался в пародию на церемонию, когда птичкой из фотоаппарата оказывается то огромный страус, то купальщица с открытки, то весьма агрессивный ребенок. Основной целью этого фарса было реабилитировать общие места, поэтому именно с помощью лубочных образов (Жан Гюго говорил, что моделями костюмов послужили картинки из словаря Лapycca), повседневных фраз, содержание которых на поверку оказывалось абсурдным, можно было добиться яркого эффекта.
Постановка «Новобрачных...» также сопровождалась скандалом, поскольку публика восприняла пьесу как вызов едва ли не политической направленности. Интересно, что тридцать лет спустя в беседе с Андре Френьо Кокто говорит, что это была всего лишь веселая игра, что пьеса должна была «вызывать смех и поднимать настроение», а не вызывать скандал, однако в эпоху начала 20-х он, несомненно, относился к своему замыслу гораздо более серьезно, ведь его цель была - воплотить на сцене поэзию театра. Как и в случае «Зазывал», мы видим, что с течением времени «серьезное» (по крайней мере, с точки зрения автора) произведение может обернуться своей комической стороной.
Авангардные постановки конца 10-х - начала 20-х гг., в которых очевидно влияние циркового искусства, балаганного театра, казалось бы, абсолютно антагонистичны адаптации Кокто софокловской «Антигоны» (1922). На первый взгляд при создании «Антигоны» драматург совершенно меняет свою эстетику. Действительно, на фоне распространенного в искусстве начала века экспериментального подхода, ниспровергающего все каноны прошлых эпох (именно в таком стиле была осуществлена и постановка «Новобрачных...»), речь персонажей «Антигоны» кажется чересчур лаконичной, строгой, даже классической. После анархии костюмов и масок Жана Гюго, абсурдности ситуаций и реплик персонажей «Новобрачных...» бросается в глаза и простота языка героев «Антигоны», и сюжет, контуры которого абсолютно точно воссоздают фабулу Софокла. Кокто не позволяет себе ни малейшего отклонения от античного сюжета, единственное, что он меняет - это объем трагедии, значительно сокращенный в основном за счет монологов и партий хора. Казалось бы, при таком подходе элементам комического в адаптации не остается места. Однако это внешнее впечатление во многом обманчиво.
Пьесы «Новобрачные с Эйфелевой башни» и «Антигона» были изданы в
Словно противопоставляя свою интерпретацию Софокла классическим постановкам конца XIX в. с Муне-Сюлли в роли Эдипа, виденным им в детстве, Кокто предлагает «простое», близкое современнику (в «ритме современной эпохи», по его собственным словам) прочтение сюжета.
Очевидно, что взгляд со стороны на знаменитую древнегреческую трагедию, непрерывная традиция интерпретации которой во французском театре на протяжении нескольких столетий привела к появлению свода «канонических» методов ее постановки, должен был привести к комическому эффекту. Действительно, драматург, например, настаивал на совершенно новой декламационной манере актера: хор в «Антигоне» говорил очень громко и очень быстро, а костюмы в спектакле Дюллена в театре «Ателье» (1922, 1927) были не просто необычны для постановок античных трагедий, но, несомненно, должны были вызывать смех у публики: черные обтягивающие трико, маски наподобие масок фехтовальщиков.
Декорации Пикассо также не вязались с традиционной стилизацией «под античность». Это был весьма условный фон: раскрашенный задник из грубой ткани, в котором были вырезаны отверстия для появления актеров, пирамида масок в центре, изображавшая хор. Все это, несомненно, было нацелено на эпатаж публики, в постановке звучал намеренный вызов традиционному пониманию древнегреческого шедевра, явно прослеживались пародийные, фарсовые нотки. Недаром присутствовавший на представлении «Антигоны» 15 января
Этот спектакль инициировал скандал в среде сторонников классической интерпретации - как и предыдущие авангардные постановки: «Новые маски (для спектакля
Более поздняя адаптация Кокто софокловского «Царя Эдипа» (1925-1927), текст которой создавался как либретто к одноименной оратории Стравинского, также написана достаточно строгим классическим языком и не предполагает прочтения ее как высмеивающего фарса. Тем не менее, следуя в целом идее Стравинского о создании «сухого» латинского варианта трагедии, Кокто изменяет пьесу на свой лад при постановке в
Интересно, что уже в
По утверждению самого Кокто, к древнегреческой трагедии он пришел именно через цирк: «Клоуны воодушевляют меня. Только они дают мне идеи о том, какими могли быть великие сцены инцеста, пурпура и воплей. Видя Фрателлини, творящих свой жестокий фарс (machiner leurs farces atroce), выдирающих волосы, плачущих, стучащих друг по другу молотком, пинающихся, разрывающих свои костюмы и тела, убивающих, хоронящих друг друга и возрождающихся, преследующих друг друга на ходулях, я думаю о греческих трагедиях до того, как они стали скучными, об Атридах на высоких подошвах, убивающих друг друга великолепными жестами, о масках Иокасты, Эдипа, рычащих в опасных как львы в клетке».
Показательно, что «Антигона», а впоследствии и «Адская машина» Кокто были поставлены у режиссеров, на которых цирковое искусство оказало весьма значительное влияние. В начале века, непосредственно до Первой мировой войны, когда слава братьев-циркачей Фрателлини достигла своего апогея, и Дюллен, и Жуве были воодушевлены цирком; при этом, если Дюллен шел по пути практического применения приемов клоунады в театре, то Жуве придерживался более теоретического, книжного их осмысления.
В
В одной из статей Кокто так объясняет причину своего обращения к комическому, к буффонаде: «Часто задаются вопросом, почему, например, будучи поэтом, я культивирую комическое в театре. Нужно понять, что это комическое, возникающее из сжатости изложения, часто не только кажется мне наименее смешным в мире, но мне даже случается достичь под предлогом буффонады яркой рельефности, которой зал не потерпел бы в драматической форме. Я льщу залу, развлекаю его, даю ему сахару, и, благодаря этим хитростям, я даю ему живительный наркотик, пряча за ними его горечь».
Эту же мысль Кокто высказывает в своем ответном письме (между 16 и 23 января
Для того чтобы обеспечить себе мгновенный успех, драматург может намеренно расставить ловушки у входа в балаган: попавшись в такую ловушку, часть публики довольствуется самой поверхностной стороной представления, в то время как другая часть ее, не поддавшаяся искушению, зайдет внутрь и увидит представление истинное.
Таким образом, за буффонадой, которая служит лишь формой, угодной публике, поэт стремится увидеть многозначность истины, а за оболочкой цирковых персонажей «Новобрачных...» внимательный зритель мог бы разглядеть античных героев, как видит их сам поэт: «в “Новобрачных с Эйфелевой башни” есть моменты сценической полноты, где я вижу Электру, Антигону, Эдипа, тогда как зал не различает ничего кроме очаровательного фарса...».
В целом можно сказать, что комическое начало в авангардных постановках Кокто и в его адаптациях софокловских трагедий сосредоточено в основном на пластическом уровне пьес. Именно благодаря решению экстравербальных элементов спектаклей, декораций, костюмов, пластики актеров, большинство критиков восприняли эти пьесы как грубый фарс, как насмешку над традицией.
Комическое и «трагедия рока»
Критика неоднократно упоминала о фарсовых элементах в театре Кокто в связи с его ранними спектаклями, однако комическое в драматургии Кокто середины 1920-х - 1950-х гг. остается практически неисследованной областью. В отличие от ранних драматургических опытов, где намерение автора рассмешить зрителя, пародируя обыденные ситуации, лежит на поверхности, в более поздних произведениях комическое, не заметное на первый взгляд, подспудно присутствует на заднем плане, всегда оставаясь стержнем пьесы.
В первой своей оригинальной пьесе «Орфей» (1925) Кокто словно оказывается на перепутье - от авангардных постановок начала 20-х к театру языка 30-40-х гг. С одной стороны, интерпретация античного сюжета здесь вполне традиционна для французского интеллектуального театра эпохи между двумя войнами: как и в пьесах Жида, Жироду, Ануя, драматург переносит древнюю историю на современную почву, его персонажи говорят обыденным языком современника, трагедия превращается в трагикомедию, где смешаны элементы нескольких жанров: трагедии, мелодрамы, комедии, детективной истории и т.д. С другой стороны, драматург все еще тяготеет к цирковому театру, что более всего очевидно в указаниях будущему постановщику пьесы.
Описывая декорации к «Орфею», драматург часто прибегает к образу балаганного театра. Во-первых, потолок в «Орфее» накрывает сцену словно крышка ящика (boîte) (отметим, что одно из просторечных значений слова boîte - «кабаре»). Во-вторых, расположенные на столе фрукты, тарелки, стаканы и т.д., по замыслу автора, напоминают «картонные предметы жонглеров», а декорации в целом должны вызывать в памяти ярмарочные фотографии и взаимодействовать с персонажами так же «наивно и жестко», как модель и окружающий ее разрисованный фон портрета-фотографии. Наконец, гостиная на вилле Орфея, где происходит действие пьесы, согласно ремарке автора, очень напоминает гостиные иллюзионистов, фокусников.
Даже костюмы столь различны по стилю, что создают впечатление о ярких лубочных образах, каждый - в своем характерном костюме. Единственное, что их объединяет - это их современность («нужно, чтобы костюмы были той эпохи, когда ставится трагедия»). При этом по-деревенски простая одежда Орфея и Эвридики соседствует с «бледно-голубым комбинезоном рабочего» Эртбиза. Изысканный наряд Смерти, ее элегантное розовое бальное платье фигурирует на сцене одновременно с амуницией «оперирующих хирургов», костюмами ее помощников Азраэля и Рафаэля. Наконец, ко всему этому параду в последних сценах присоединяются полицейские в «черных пальто, шляпах, с бородками и ботинками на пуговицах».
На сцене «Орфея» живут трюкачи, фокусники. Все декорации, костюмы, предметы служат поэту, творящему свое произведение на театральной площадке, для того чтобы из них, словно из различных материалов, создать поэму. Дом Орфея - это дом фокусника, в котором за обычными предметами кроется их мистическая сущность, и именно хозяин дома, Поэт, способен эту сущность раскрыть.
Орфей дрессирует свою Лошадь (не стала ли ее прототипом цирковая лошадка из «Зазывал», также «сделанная» из людей, как Лошадь в «Орфее» изображает актер, спрятанный в нише?), Эртбиз, как фокусник, висит в воздухе, и только простушка Эвридика вынуждена наблюдать весь этот цирк в своем собственном доме. Даже сама смерть Эвридики походит на трюк, разыгрываемый дамой в бальном платье (Смертью) перед зрительным залом: мгновение - и на конце нити вдруг появляется голубь. «То, что было сначала описано как хирургическая операция, незаметно стало номером иллюзиониста». Но, в отличие от настоящего цирка, Кокто стремится «решать проблему трюков, не применяя самих трюков», т.е. собирать чудесное из самого обыкновенного, показывая под новым углом зрения обычные предметы.
И все-таки, в противоположность ранним адаптациям софокловских трагедий, комическое в «Орфее» и в следующей пьесе «Адская машина» (1932) на сюжет об Эдипе занимает в первую очередь вербальный пласт спектакля, и лишь затем - его пластические уровни. Так, в «Орфее» введение в реплики Эртбиза таких «смешных» для публики слов как каучуковые перчатки заставило Кокто, сыгравшего роль Эртбиза, изобретать различные предосторожности, чтобы зал не рассмеялся. По признанию самого поэта, это ему удавалось отнюдь не всегда.
Об эпохе между двумя войнами французский критик Одетта Аслан писала: «Создается новая мифология, в которой клоун становится царем». Именно клоун стал царем в «Адской машине» Кокто (1932): клоун, играющий фарс. «Адская машина», несомненно, является весьма благодатной почвой для исследования комического в театре Кокто, поскольку подспудно фарсовый характер интерпретации вступает здесь в разительное противоречие с трагичностью самого сюжета. Интересно, что сам драматург на вопрос Андре Френьо о том, была ли «Адская машина» задумана как трагедия (comme une grande tragédie), сразу же отвечает: «Нет, совсем нет, она создавалась постепенно». Кокто изначально предполагал написать фарсовую сценку «Сфинкс» для Бати и Жамуа, впоследствии дополнил ее еще тремя действиями, и первоначальная жанровая направленность этой сцены оказала значительное влияние на всю драму в целом.
Устами своих героев Кокто прямо указывает на роль фарса в его пьесе: Эдип, находясь на финишной прямой своей трагедии, называет разворачивающиеся события фарсом: «Мне необходимо ее (Иокасту. - С.Д.) спросить, чтобы ничто не осталось в тени, чтобы этот дурной фарс закончился». Первоначальная задумка Кокто о создании «грубого фарса» не была реализована в «Адской машине», однако иронические, пародийные, комические элементы составляют самую основу драмы и позволяют выявить сущность драматургического метода Кокто, состоящего в создании контрастного противостояния и взаимодополнения трагедии и ее иронического обыгрывания, обычного предмета и его магического предназначения, театрального персонажа и осознаваемой им самим роли.
«Снижение» образа трагического героя
Комическое в «Адской машине» задает тон, является главным героем пьесы, преобразует античную трагедию в трагикомедию в духе века. «Хорошо, когда герой становится немного смешным», - фраза, сказанная Сфинксом об Эдипе, могла бы быть в некотором роде девизом «Адской машины». Словно следуя этим словам, драматург исподволь подсмеивается над трагическими героями и над их роком.
Первое, что подвергает автор своему ироническому взгляду, - это сам протагонист пьесы, Эдип. Совсем еще молодой, любопытный, слишком тщеславный юноша, - «Любопытство и амбиции поглощают его» - Эдип Кокто становится полной противоположностью Эдипа в знаменитой интерпретации Муне-Сюлли, убеленного сединами старца. Драматург постоянно настаивает на молодости своего героя, подчеркивая его возраст - всего лишь 19 лет.
Очень метко характеризует Эдипа Ф. Ферпоссон, сравнивая его со спортсменом или с подвизавшимся на поприще политики юнцом: «Юный Эдип, нетерпеливо вопрошающий Сфинкс, мог бы быть победителем велосипедной гонки или амбициозным политиком. Этот тщеславный, донельзя самоуверенный юноша отнесся к прорицанию оракула как к метафоре или к попытке жрецов удалить его от власти. Он все обдумал и решил, что ужасное пророчество просто абсурдно, а потому не может быть правдой. Однако герой намеренно им воспользовался, чтобы убежать от ставшего ненавистным родительского крова навстречу неизвестному, навстречу своей славе.
Эдип беспечен и хвастлив. До встречи с крылатой девой он уже один раз убил - старца Лая, - но быстро забывает об этом, считая себя невиновным. «Сначала моя звезда!» - говорит он. Навстречу монстру он идет, уверенный в победе, так как считает, что, обучаясь при дворе, сможет отгадать загадку гораздо лучше всех фиванцев. Он даже думает ошеломить саму Сфинкс: «Я не думаю, что этот наивный монстр предполагает встретиться лицом к лицу с учеником самых просвещенных людей Коринфа».
Комичность Эдипа еще более рельефно вырисовывается в сравнении с Иокастой. Его трагическая значимость в античном мифе оказывается в пьесе французского драматурга приглушенной фигурой его матери-жены. Иокаста в пьесе Кокто, в противоположность трагедии Софокла, становится главным персонажем драмы. Это именно она оставляет своего сына на горе со связанными ногами, а домочадцам говорит, что сын умер и она сама похоронила его. Лай же в этой версии абсолютно непричастен к злодейству. Иокаста первой появляется на сцене, тогда как сам Эдип и Сфинкс появятся только во втором действии.
Образ Иокасты в пьесе Кокто получает совершенно неканоническое звучание. Романтичная, взбалмошная женщина, анархистка даже, не желающая вступать в политические интриги, что плетут вокруг нее льстивые царедворцы, - в первом действии, в третьем она появляется как чуткая мать, нежно лелеющая своего первенца, и, наконец, в четвертом действии предстает в привычном для зрителя облике мужественной царицы, умеющей с честью прийти к страшному финалу трагедии. И все же в самом конце пьесы она преображается в обычную мать, поддерживающую сына на его трудном пути, подбадривающую его простыми, незамысловатыми фразами: в потустороннем мире нет царицы, есть только мать. В целом в Иокасте гораздо меньше комических черт, чем в образе Эдипа, однако для трагической героини это все же слишком приземленный персонаж.
Слепой мудрец Тиресий становится у французского драматурга исключительно комическим персонажем. «Нужно было взять другого гида. Я почти слеп», - говорит он Иокасте при первом появлении на сцене в первом действии. Это «почти» фазу же низводит божественного пророка до инвалида, от старости лишившегося зрения. И вслед за этим голос Иокасты сразу же утверждает необычный образ прорицателя: «Интересно, какая польза быть прорицателем! Вы даже не знаете, где здесь ступеньки». И хотя Тиресий тут же обижается, говоря, что его «внутренний глаз» вовсе не предназначен для подсчета лестничных ступенек, сам этот обиженный тон делает его первое появление на сцене еще более смешным.
Пророческий дар Тиресия постоянно подвергается осмеянию, да он, похоже, и сам не очень-то верит в него. «Зизи, что вы знаете с вашими курицами и вашими звездами? Послушайте этого младенца», - советует Иокаста. Однако слушать какого-то солдата, да еще почти ребенка, якобы видевшего призрак Лая, предрекавшего несчастье, не входит в планы прорицателя, и он становится смешон вдвойне: ведь он не только не умеет сам разгадать происходящее, но и не желает поверить в истину, что открылась другим.
Диалоги Тиресия и Иокасты, с одной стороны, напоминают льстивое отношение царедворца к своей повелительнице, а с другой - снисходительно ласковый говор любовника со своей пассией. Так, царица наделяет прорицателя нежным прозвищем Зизи (Zizi), а он, в свою очередь, мягко укоряет ее за упрямое желание совершить опасное ночное путешествие: «Моя маленькая овечка, нужно понять бедного слепца, который тебя обожает, который заботится о тебе и который хотел бы, чтобы ты спала в своей комнате вместо того, чтобы бегать во тьме, в ночь грозы, по крепостной стене». Моя маленькая овечка, моя голубка - ласково называет свою госпожу старец, превращаясь из пророка в любимца взбалмошной государыни, с которой он, видимо, давно уже на короткой ноге.
Как и Тиресий, Лай, точнее, его призрак, - в первую очередь персонаж комический. Во-первых, он появляется из испарений мерзкой клоаки, что само по себе нивелирует его бывший царственный облик. Во-вторых, он вынужден прибегнуть за помощью к простым солдатам, чтобы сообщить о предстоящей драме Иокасте. И, наконец, все его поведение, манера речи, слова кажутся жалкими, совершенно недостойными фиванской короны. Солдаты относятся к царственному призраку сначала как к развлечению, отвлекающему их от забот, от страха перед Сфинкс, а потом молодому солдату даже удается получить выгоду от его появления в виде продвижения по службе. Лай говорит прерывающимся голосом, повторяет слова, словно забывчивый старец, умоляет о помощи: «Он говорил быстро и много, захлебываясь, и никак не мог закончить того, что хотел сказать», - рассказывал солдат о разговоре с ним. Но такой жалкий облик царя, как оказывается, отнюдь не обусловлен его нынешним состоянием призрака, он и при жизни был таким же: «Это он! Мой бедненький!», - сразу же узнает его по описанию жена.
Загадочная природа Сфинкс, которую не суждено постигнуть никому из живых, на протяжении всей пьесы становится для персонажей любопытной темой для разговора.
В первом действии ее обсуждают между собой солдаты. Противоречивый образ крылатой девы на основе их диалога предстает одновременно как ужасающий и немного комический. С одной стороны, дева явно внушает им, особенно неопытному молодому солдату, невыносимый ужас, так что нервы его совершенно выходят из строя. С другой, те предположения, что ходят о Сфинкс в народе, скорее могут вызвать улыбку, чем страх. Так, судя по словам молодого солдата, о Сфинкс говорят, что она по размеру «не больше кролика, и что у нее малюсенькая женская головка». Старый солдат склонен к более прозаическому образу «Эго вампир! Простой вампир! Человек, который скрывается, и на которого полиция еще не положила глаз». Он совсем не похож на красивую женщину, это совсем старый вампир, «с бородой, с усами и с брюхом».
После всех этих предположений предстающая перед зрителем в начале второго действия картина оказывается поистине ошеломляющей: Сфинкс появляется в образе девушки в белом платье, а ее крылья, когтистые лапы и круп неподвижно лежат на возвышении, словно театральный костюм. Голова Анубиса мирно покоится на коленях девушки, и зритель, от которого пока скрыто остальное его тело, скорее всего подумает, что перед ним обыкновенная девушка, вышедшая на прогулку с собакой.
В целом в «Адской машине» драматург достигает комического эффекта, противопоставляя ожидаемые зрителем трагические облики персонажей «реальным», весьма сниженным образам героев.
Так, образ страшного чудовища контрастирует, с одной стороны, со смешным представлением о нем героев пьесы, а с другой, - с еще более разительно отличающимся от него персонажем Сфинкс: хрупкой молодой девушкой. Сфинкс оказывается не только не кровожадной, как ее склонны представлять, а, напротив, она боится убивать, в страхе ждет следующую жертву, надеясь, что та не придет. Так же и Эдип оказывается не славным героем, побеждающим бич города, а всего лишь стремящимся к славе, к легкой добыче юнцом, для которого все средства достижения почестей равно приличны; Тиресий, в свою очередь, превращается из ожидаемого мудрого, спокойного старца в хитроумного царедворца, с успехом плетущего сети интриг.
О персонажах «Адской машины» вполне можно было бы сказать, как о протагонисте романа «Самозванец Тома»: «В мире наоборот, нарисованном Кокто, где “обманщик”- герой, разве не может в нем “герой” иногда показаться обманщиком?».
Снижение трагического пафоса античного сюжета очень ярко видно на примере интерпретации в пьесах Кокто персонажа хора. «Хор и корифей (в “Антигоне”. - С. Д.) объединены в одном Голосе, который говорит очень высоким голосом и очень быстро, как если бы читал газетную статью. Этот голос исходит из дыры в центре декорации». Тем самым Кокто вступает в спор с прекрасно известной ему с детства традицией декламации, характерной для театра священных чудовищ конца XIX в. Вокализация Сары Бернар, например, была тщательно проработана, включала целую гамму интонаций, от нежного пианиссимо до разъяренного вопля раненого зверя, то же можно сказать и о Муне-Сюлли, который, словно оперный певец, мог прочитать две строчки александрийского стиха на одном дыхании.
Что касается сведения хора от двенадцати человек в античном театре к одному герою, то этот прием станет в интерпретациях трагедий в XX веке традиционным. Роль хора либо исполняет один человек, как, например, в «Антигоне» Ануя (собственно хор), либо функции хора выполняют несколько разных персонажей (в «Электре» Жироду - Нищий, Садовник). Решение Кокто еще более необычно: хор в его драме - это всего лишь голос, издающийся из дыры в центре сцены.
С одной стороны, такая интерпретация позволяет проводить параллели между хором - невидимым голосом и оракулом, вещающим пророчества; хор приобретает у Кокто черты пророка, вестника иного мира. С другой стороны, невидимый голос хора, зачитывающий свои слова точно газетную статью, сразу же ассоциируется с голосом радиоведущего, а радио в мифологии Кокто в дальнейшем также выступает в роли проводника идей запредельного мира (самый яркий пример - радио в машине героя в фильме «Орфей», передающее поэту стихотворные строчки, автором которых является Принцесса).
По сравнению с ролью хора в адаптациях Кокто софокловских трагедий, где этот персонаж, хотя и сведенный к голосу, исходящему изо рта неподвижной статуи, все же непосредственно участвует в действии, персонаж хора в «Адской машине» практически исчезает. Практически - поскольку остается Голос, который, в отличие от хора в «Антигоне» и в «Царе Эдипе», уже совсем не вступает в диалог с другими героями, а только информирует зрителя перед началом каждого действия о том, что ему предстоит увидеть. При этом персонаж Голоса полностью оправдывает свое имя: в постановке Жуве
Таким образом, от роли античного хора драматург оставляет только четыре небольших пролога.
Еще один прием пародирования античного сюжета - введение в действие драмы «сниженных» персонажей, персонажей «из народа». Такими героями являются комиссар полиции и его подручный в «Орфее», солдаты и их начальник, матрона в «Адской машине». Так, комиссар из «Орфея» весьма напоминает одну из масок балаганного театра. Его претенциозная манера речи, абсурдные подозрения, неудачное расследование и нежелание признать очевидное превращают его в фарсовый персонаж, плоский, как картинка, наделенный известными чертами и не отступающий от своего заранее заданного образа. Например, комиссар бросает банальные фразы, очень смешные в сравнении с тем, что происходит в это же время за его спиной. После убийства Орфея он требует от Эртбиза предъявления тела («Когда налицо преступление, налицо и тело»), тогда как голова поэта спрятана на постаменте за той самой дверью, рядом с которой он сидит; он утверждает, что бюст Орфея совсем не похож... на Орфея; он требует от ангела Эртбиза бумаги, удостоверяющие его личность.
Игра персонажей в трагедию рока
Абсурдность, фарсовый характер ситуаций в «Орфее» и «Адской машине» подчеркиваются еще и тем, что орудия божественного рока, вакханки, Сфинкс, Анубис действуют не от своего лица, а от имени им самим не известных богов. Так, Сфинкс всего лишь играет роль монстра, но так же, как и обыкновенные смертные, она не понимает цели своего представления и никогда не видела режиссера.
Перед своей будущей жертвой Сфинкс становится актером, разыгрывая для нее спектакль, как для единственного зрителя в своем театре. «Я покажу тебе спектакль», - говорит крылатая дева во втором действии Эдипу, прежде чем продемонстрировать ему свою мощь, показать, что случилось бы с ним, бедным путником, если бы он не оказался столь удачлив, что понравился самой Сфинкс.
В последний момент, когда, казалось бы, уже предречен конец драмы, Сфинкс заявляет, что Эдип свободен. Оказывается, его спасение заключено всего-навсего... в глагольном времени. Удача Эдипа, таким образом, зависела от тщательного воспроизведения «палачом» сослагательного наклонения.
Тирада монстра о «методах» умерщвления, по меткому замечанию Франсиса Рамиреса, напоминает, с одной стороны, образ жуткого насекомого, паука, плетущего вокруг своей жертвы страшные сети, а с другой, - явно пародийный образ многофункциональной машины, которая непрерывно и монотонно делает свое дело: «Эти два основных образа... придают тексту одновременно оттенок фантастического и комического».
Монотонное, механическое перечисление в монологе Сфинкс множества действий навязывает актрисе, играющей роль крылатой девы, определенную манеру декламации, весьма сходную с захлебывающейся речью комических персонажей. Так, Кокто советует Люсьен Богаер, что «она должна говорить как пулемет- телеграф - безумная и дерзкая наездница». Или - «как если бы она зачитывала протокол». Напомним, что похожее наставление было и в ремарке автора к «Антигоне», где все актеры должны были говорить, как если бы они читали газетную статью.
Нужно отметить, что пример такого прочтения монолога Сфинкс показал сам Кокто (роль Эдипа исполнял Жан-Пьер Омон): он читал его быстрыми, высокими звуками, напоминающими заклинание. В прочтении автора больше, чем у других актеров, смех просачивается сквозь ужас самих слов: «Он читает его (монолог. - СД) на полпути от смеха, на что не отважился бы ни один актер. Этот чудовищный текст на самом деле подспудно комический, то есть это текст, который вызывает смех, но смех одновременно необходимый и неосуществимый».
Победа Эдипа над чудовищем оказывается еще более мнимой, чем деятельность самой крылатой девы. О последней зрителю, по крайней мере, известно, что до момента встречи с Эдипом она убивала все свои жертвы, хотя во время действия пьесы и ограничилась одним говорением. Лавры же Эдипа абсолютно незаслуженны. Как только, заранее зная отгадку, Эдип в присутствии свидетеля - Анубиса - произносит решающее «человек», ему становятся неинтересны ни Сфинкс, ни его помощник. Он убегает навстречу славе, восклицая: «Победитель!» Он ничего не завоевывал, он был бессловесной жертвой, преклоненной перед чудовищем, единственная его заслуга в том, что ему хватило мужества не упасть в обморок и запомнить отгадку. «Он вос-хи-ти-те-лен!», - явно издевается Анубис, но герой уже ничего не слышит, он горд своей удачей, он вприпрыжку бежит к Фивам, вслух похваляясь псевдогероическим поступком: «Я убил грязное животное».
В целом персонажи Кокто, конечно же, уже не участвуют в трагедии в первоначальном, античном смысле этого слова: они рассматриваются автором как составляющие того образа, который предстает в сознании современного человека при словах «античность», «миф», «Эдип», а потому не воспринимают всерьез самих себя. С одной стороны, герои «Адской машины» наделены яркими чертами, создающими цельный, психологически обоснованный, живущий на сцене образ. Но в то же время подспудно они словно знают (и это прочитывается в их репликах), что они всего лишь образы из знаменитого мифа. Можно сказать, персонажи Кокто в некотором смысле стали скульптурами в музее вместо одухотворенных живых героев. Так, в одном из стихотворений сборника «Опера» - «Царе Эдипе» - древнегреческие герои напоминают светское общество на театральном представлении, так ярко изображенное Кокто в сцене театральной ложи в фильме «Кровь поэта» (1930): Œdipe illustre, le péan, Créon, Jocaste,
Tout ce ioli monde* à des balustrades en craie Jacasse terriblement vu de près ;
Et pousse des cris vers l’est et l’ouest
Du haut de l’estrade en pierre non payante
Où s’étale le grand pouce du pied d’Œdipe.
Столкновение и сосуществование комического и трагического
«Уныния и слез смешное вечный враг. С ним тон трагический несовместим никак», - говорил Буало о комедиях Мольера. Однако же насыщенные яркими фарсовыми элементами комедии Мольера вот уже несколько столетий заставляют задумываться о самых что ни на есть серьезных и даже трагических проблемах человеческого бытия. В современной драме смешались все жанры, и трагическое, комическое, фарсовое начала зачастую неразрывно связаны друг с другом, вместе служа единой цели создания захватывающего драматического действия.
Пародийное начало в театре Кокто присутствует скрыто, подспудно, постоянно переплетаясь с подлинно трагическим ощущением рокового стечения обстоятельств, в котором оказываются герои. Заметим, что этот прием свойствен не только театру Кокто. Так, в его романе «Самозванец Тома» (1922) основная сюжетная линия построена на истории «псевдогероя» Тома, обманным путем проникшего на сцену военных действий. Ключевой образ романа - театр войны, где все играют некую мрачную комедию, а военные пейзажи весьма похожи на театральные декорации. Например, здесь появляется полковник со странным именем Жокаст (Jocaste - в пер. с французского Иокаста), гротескный облик которого контрастирует с его античным именем и с реальностью кровавой бойни. В этом романе автор достигает смешения трагического и комического, когда образ войны контрастирует с образом театра, а ожидаемый образ героя-воителя с псевдогероем Тома.
Кокто-драматург также словно задается целью постоянно вводить зрителя в заблуждение, стремительно меняя свои маски - от фарсовой до трагической, при этом каждый раз благополучно ускользая от однозначного определения жанра.
С одной стороны, словами своих персонажей автор наталкивает зрителя на мысль о том, что перед ним разыгрывается комедия. Анубис в конце второго действия, когда согласно сюжету Эдип побеждает Сфинкс - самая героическая, казалось бы, часть драмы, говорит Сфинкс: «Делайте все, что вам угодно, чтобы эта постыдная комедия закончилась, и вы могли вернуться к себе». И действительно, как иначе, кроме как постыдной комедией можно назвать этот позор Эдипа, который не только не победил Сфинкс, но в ужасе молил о пощаде, а будучи спасенным, фазу же стал размышлять о том, в каком виде лучше всего предстать перед городом победителем, нести ли тело монстра так или иначе. В конце концов решение принято: лучше всего будет взвалить его на плечи, как когда-то сделал Геркулес со львом. «Как полубог!» - тщеславно восклицает герой и удаляется в направлении Фив. И разве не комедия - конструирование самого доказательства мнимой победы, «трупа» Сфинкс, составленного из разных частей: голова шакала, клыки и когти от «костюма» крылатой девы?
Кокто никогда четко не детерминировал жанр своих произведений, его драмы - не комедии в чистом виде, но они балансируют на грани смешного и трагического. «Риск оказаться смешной», с одной стороны, делает пьесу захватывающей, интересной для зрителя, а с другой, составляет для нее постоянную угрозу превращения трагикомедии в обыкновенный фарс: «Подспудный смех пронзает пьесу и смертельно ранит ее. Однако именно этот риск, согласно Кокто, может сделать искренним театральный спектакль и придать ему, как цирку или корриде, в высшей степени опасный статус, которого нет ни у живописи, ни у литературы».
Интересно отметить, что в «Адской машине», как и в пьесе «Троянской войны не будет» Жироду, драматург словно пытается вплоть до финала показать, что трагедия не сможет состояться. Но катастрофа тем не менее происходит, скорее несмотря на происходящие на сцене события - влюбленность Сфинкс в Эдипа, ее нежелание убивать новые жертвы, провидение Тиресия и знание Креона, наконец, многочисленные попытки призрака Лая предупредить беду, - нежели благодаря им. У Жироду, однако, такая игра автора вынесена в заголовок пьесы, драматург изначально подстегивает любопытство зрителя, принуждает его с большим интересом следить за действием: а вдруг войны действительно не будет? Название драмы Кокто, напротив, добавляет уверенности в традиционном развитии сюжета. Адская машина не преминет свершить свое дело.
От начала пьесы к ее финалу ощущение трагичности происходящего все более нарастает. Конец второго действия является переломным моментом, когда фарс внезапно оборачивается трагедией. Игра Сфинкс с Эдипом заканчивается в тот момент, когда, снова обращаясь в любящую женщину, Сфинкс требует мести за пренебрежение героя. И эта месть, уже настоящая, скоро свершится, она как раз и состоит в том, чтобы отпустить Эдипа навстречу своему року, который гораздо страшнее, чем челюсти Анубиса. Словно противоположные стороны ленты Мебиуса, фарс в этот момент оборачивается трагедией.
Так обманщик Тома в момент своей смерти срастается с той маской, которую, играя, надел на себя, игра оборачивается другой своей стороной - реальностью.
Таким образом, как в ранних авангардных постановках и в адаптациях софокловских трагедий, в «Адской машине» драматург стремится за внешним обликом веселого фарса, понятного зрителю, скрыть истинную трагедию. «Поэзия, - сказал Кокто еще в “Профессиональной тайне” (1921) - совершенно не мешает живости, дурачествам, розыгрышам, шуткам, безумному смеху, который у поэтов соседствует с самой невероятной печалью». Обратной стороной медали фарса, бурлеска всегда оказывается трагическое. Как за смехом Чаплина сквозят слезы истинно трагического героя, так и фарсовый характер героев театра Кокто зачастую, словно прозрение, оборачивается своей трагической стороной.
Как это ни странно, именно в «трагедии рока» «Адская машина» наиболее явно проступает комическое начало. Более поздние пьесы, более традиционные, не претендуют на трагичность сюжета - и уже в силу этого у драматурга не оказывается предмета для пародии.
Драмы, созданные Кокто в конце 30-х гг. в духе пьес бульварного театра («Трудные родители» (1938), «Пишущая машинка» (1939), «Священные чудовища» (1940)), несомненно, имеют в своем арсенале приемы комического. Однако это, так сказать, комическое поверхностное, проявляющееся на уровне остроумных реплик персонажей, игры слов. Комическое начало являет себя в этих пьесах и в виде необычного развития интриги, когда сами герои в недоумении задаются вопросом: не фарс ли их собственная история? Так, героиня «Трудных родителей», обнаружив, что любовница ее племянника оказалась одновременно и любовницей его отца, говорит: «Уж не знаю, драма это или фарс. Во всяком случае, это шедевр». Герои Кокто сами сознают, что играют комедию с хорошо закрученной интригой, которую наверняка было бы очень смешно наблюдать из зрительного зала. «Все эти гениальные господа, - делает вывод Жорж, еще один персонаж “Трудных родителей”, - писавшие гениальные произведения, создавали их из таких же вот чудовищных историй. Потому эти книги и увлекают нас. Но есть все-таки между нами разница. Я не трагедийный герой. Я герой комедийный. Положения подобного рода очень нравятся, очень развлекают. Так уж повелось. Слепой своим видом исторгает слезы5, но глухой вызывает смех. Моя роль вызывает смех. Обманутый мужчина - это уже смешно, мужчина моего возраста, которого обманывают с юношей, это еще смешней. Но если человеку изменяют с его собственным сыном, рождается хохот! Это шедевр хохота, фарс, отличнейший фарс, всем фарсам фарс!»
В том-то и дело, что у этих пьес нет другого полюса - трагического, поэтому, как это ни странно звучит, комическое в них не воспринимается всерьез.
Л-ра: Вопросы филологии. – 2002. – № 2. – С. 90-99.
Произведения
Критика