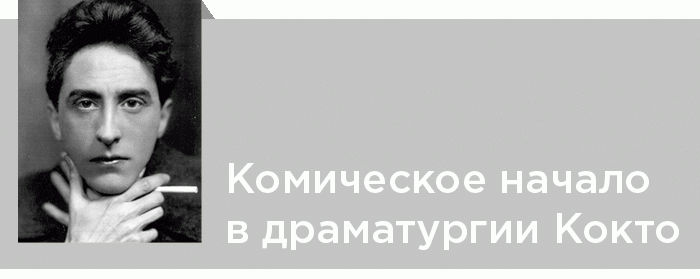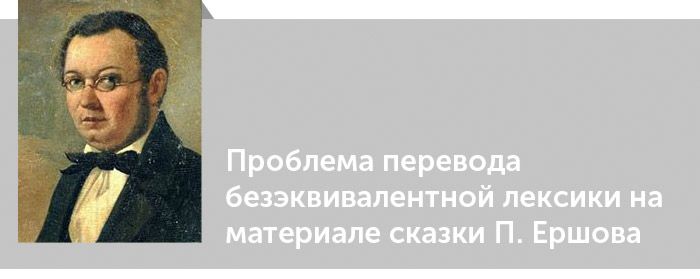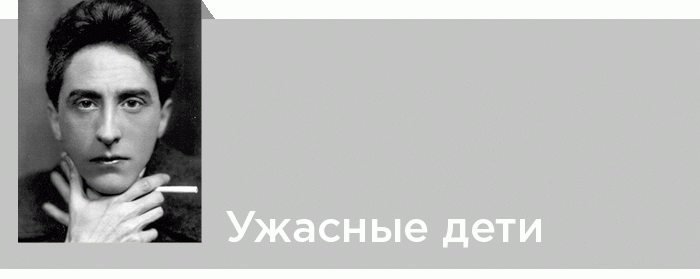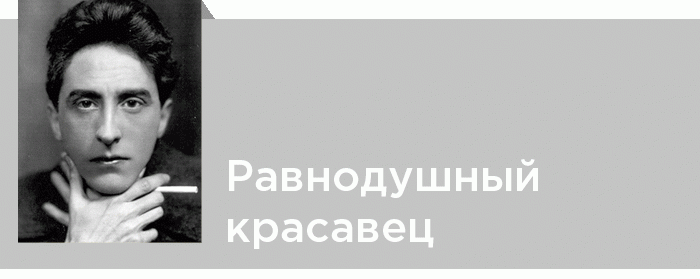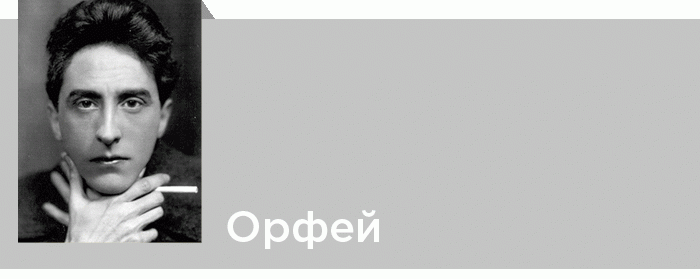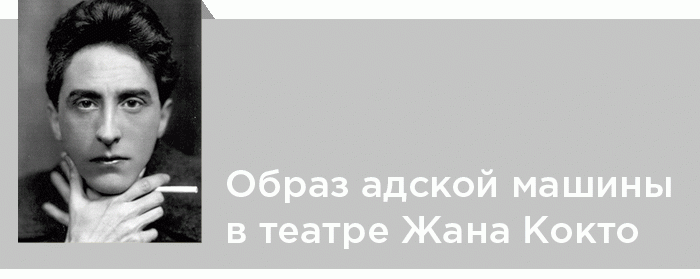Об интерпретации фиванского цикла мифов в драматургии Жана Кокто
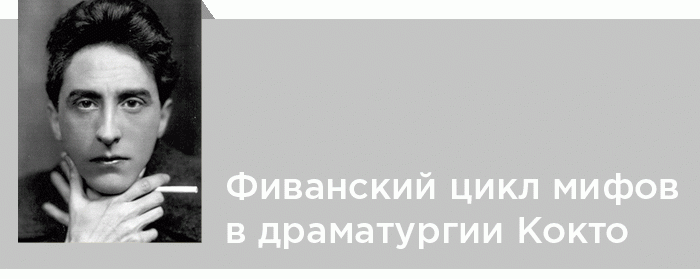
М. М. Владимирова
Когда речь заходит о единстве формы и содержания в искусстве, об их совершенной гармонии, невозможно не вспомнить древнегреческих трагиков, особенно Софокла. Это тот момент в истории становления греческой трагедии, когда она выходила из полной погруженности в дионисийскую стихию и, сохраняя с нею живую связь, обретала черты аполлонийской осмысленности и уравновешенности.
Еще Аристотель в «Поэтике» отмечал композиционное совершенство трагедий Софокла, в частности, искусство перипетии, которое подготавливало стремительную развязку и катарсис. Охваченный процессом сопереживания и просветляющего потрясения, зритель, конечно, не всегда замечал строгую рассчитанность архитектоники произведения, подобную античному храму или пропорциям скульптурных изображений, изваянных Фидием или Поликлетом.
Ф. Шеллинг писал в «Философии искусства», что в греческой трагедии во всей полноте проявились «чистота и рациональный характер греческого искусства». Он полагал, что греческую трагедию «можно рассматривать почти как геометрическую или арифметическую задачу, допускающую чистое решение без остатка и дробей». При этом Шеллинг видел сущность трагедий Эсхила и Софокла и высоком нравственном уровне, коренившемся в самом духе эпохи, и писал: «У Софокла моральная доброта сливается с красотой и благодаря этому созидается высший образ божественности».
Близость конструкции классической трагедии к геометрическому построению, к математической теореме отмечали авторы разных эпох, причастные к различным философским течениям и филологическим школам. Среди них — В. Г. Белинский, Вяч. И. Иванов.
Этот ряд наблюдений и теоретических обобщений эстетиков получил образное воплощение в драме Жана Кокто «Адская машина», задуманной в
В «Адской машине» автор не просто дает драматическую интерпретацию античной трагедии, но, опираясь непосредственно на миф, создает свою версию судьбы Эдипа, которая предстает как воплощение человеческого удела (difficulté d’être — тяжести бытия в концепции человека Кокто). Философская тема выражена через систему образов, где мифологические образы, заимствованные из трагедии Софокла, органично сочетаются с порождениями мифотворческой фантазии поэта XX в.
Как известно, Софокл изобразил в трагедии «Эдип-царь» кульминационный момент судьбы Эдипа — трагическое прозрение и раскаяние в связи с эпидемией чумы в Фивах и поисками убийцы царя Лаия. Кокто существенно расширил хронологические рамки действия, изобразив поворотные моменты в судьбе Эдипа, известные из мифа, — встречу со Сфинкс, венчание на царство в Фивах и трагический финал его «счастливого» правления. Соответствующим эпизодам предшествует I действие трагедии, события которого синхронны с изображенной во II действии встречей Эдипа со Сфинкс: явление на крепостной стене города призрака царя Лаия, стремящегося предупредить Иокасту об опасности (контаминация сюжетов мифа и «Гамлета» Шекспира). Единство действия трагедии обусловлено мотивом рока.
Пьеса в целом и отдельные действия сопровождаются авторским комментарием от лица персонажа, именуемого «Голосом», роль которого исполнял Кокто. В его монологах наиболее полно развит мотив «адской машины» — образа, передающего неотвратимость рока античной трагедии в интерпретации драматурга.
Софокл как религиозный мыслитель и поэт в трагедиях по фиванскому циклу мифов всеведению и мудрости богов противопоставил ограниченность человеческого знания. В партии хора («Эдип-царь», Стасим) ясно звучала мысль о том, что рок призван покарать заносчивых смертных, которые посягают на законы правосудия и «не чтят кумиров божьих». То есть в трактовке древнего поэта рок знаменовал справедливое возмездие высших сил человеку за нарушение божественных законов, управляющих вселенной.
В концепции поэта XX в. мотив античного рока постепенно трансформировался в ощущение абсурдности мира, которым управляют жестокие боги, забавляющиеся заблуждениями и муками людей. Уже в Прологе к одноактной трагедии «Эдип-царь» (1925)
светлой картине белоколонной Греции, гармонической античности, вошедшей в сознание европейцев начиная с эпохи Веймарского классицизма, Кокто противопоставил образ выжженой, бесплодной земли под жестоким небом: «стены из камня», «решетки, ... потайные двери, ... чума». «Идеальное местопребывания для богов, которые любят сооружать и ставить ловушки. Греческие боги обладали детской жестокостью, и их игры дорого стоили смертным». Тема ловушки, западни, ожидающей человека по воле жестоких богов, станет лейтмотивной в «Адской машине».
Один из эпиграфов гласит: «Боги существуют: это дьявол». В дальнейшем дьявольские козни богов предопределяют каждый значительный шаг, каждый поворот в судьбе Эдипа, непреложно ведущие его к роковому финалу. Не довольствуясь непосредственным развитием действия, подчиненного логике рока, Кокто в партиях «Голоса» подчеркнул тему западни, тему адской машины. В прологе к драме, излагая миф об Эдипе, он объясняет замысел, свой взгляд на роль богов в судьбах людей и название пьесы. Он расставляет акценты там, где попытки героев избегнуть роковых предначертаний, толкают их навстречу роковым событиям.
«Для того, чтобы боги как следует повеселились, важно, чтобы их жертва упала с высоты». Рассказав о мудром царствовании Эдипа, об эпидемии чумы, случившейся в Фивах 17 лет спустя, о том, как Эдип истово искал виновного, «словно опьяненный несчастьем, как он «уперся в стену», Голос констатировал: «Западня захлопнулась. Наступило прозрение». «Смотри, зритель, на одну из самых совершенных машин, построенных адскими богами для математического уничтожения смертного, заведенную так, что пружина медленно раскручивается на протяжении всей человеческой жизни»6.
Андре Боннар, цитируя заключительный пассаж Пролога Кокто, признал, что название «Адская машина» вполне подходит к античной трагедии, техническое совершенство которой «четкостью своего действия отражает механическое развитие катастрофы, как хорошо подготовленное неведомым».
В самом деле, Софокл в «Эдипе-царе» выбирает тот момент, когда горестная история героя близка к развязке и вводит зрителя в самую сердцевину событий. Трагедия изображает момент жизни Эдипа, когда роковое предсказание уже свершилось, но сам герой, пребывая в зените славы, об этом не ведает и мнит себя избранником судьбы. Нарастание предчувствия беды в трагедии Софокла обосновано постепенным прозрением Эдипа. В финале он жестоко казнит себя за невольную вину самоослеплением. Тем самым он признает справедливость богов, карающих того, кто поколебал гармонию миропорядка. Боги в трактовке Софокла скорее суровы и справедливы, чем жестоки. Покаяние, самоослепление и добровольное изгнание Эдипа закономерно трактуется рядом исследователей, в том числе А. Боннаром, как обретение Человеком свободы воли перед лицом необходимости, знаменуемой античным роком. (Эдип: «Аполлон обрек меня несчастью. Но я сам, своей рукой, выколол себе глаза»). Боннар подчеркивает, что Эдип сам требует кары, сам ее избирает.
Все это заставляет усомниться в правомерности применения метафоры Кокто «адская машина» к трагедии Софокла. При всей математически просчитанной логичности в развитии действия, когда каждая попытка противостоять року толкает героя к осуществлению предсказания, здесь нет ловушки, нет западни, нет адской машины. (Кстати, само это словосочетание означает бомбу замедленного действия, предназначенную для взрыва в нужный момент, для уничтожения человека). У Софокла как ни раздавлен Эдип роком, он не уничтожен. В порыве раскаяния он находит выход. И Боннар в своей интерпретации трагедии прекрасно это показал.
Концепция мира и человека писателя XX столетия отличается от концепции античного трагика глубоким пессимизмом. Кокто много размышлял о смерти, о непереносимой тяжести бытия (см. его книгу «
Не случайно в «Антигоне» Ануя в партии Хора прозвучит рассуждение о трагедии как о механизме, основанном на принципе самодвижения, с неизбежностью ведущем к роковому концу. Здесь преломляется и представление о трагедии как произведении с неразрешимой коллизией, в самой жанровой природе которого заложено неумолимое движение к катастрофе, и образ западни, ранее развитый в «Адской машине» Кокто, метафорически воплощавший ощущение тотальной несвободы человека в абсурдном мире, и категория трагического жеста, характерная для экзистенциалистской этики и наглядно воплощенная в максимализме маленькой Антигоны.
Кокто в «Адской машине», опираясь на мотивы трагедии Софокла, создает свою, оригинальную версию судьбы Эдипа. Тема рока осталась центральной в его произведении, но трансформировалась в духе экзистенциалистских идей абсурдности мира и экзистенциалистского понимания свободы воли. Трансформировался и образ Эдипа. Кокто изобразил юного Эдипа, начиная со встречи со Сфинкс. Внутренним стержнем характера героя остался образ, созданный Софоклом. У древнего трагика Эдип не только мужественный герой, вступивший в поединок со Сфинкс, мудрый правитель, заботящийся о благе подданных, нежный отец, он в то же время вспыльчив, заносчив, властолюбив. Трагическая вина героя Софокла состояла в том, что в дерзаниях и победах он заносился слишком высоко, превышая меру, отпущенную богами человеку, чем навлек на себя их гнев. Изображая юного Эдипа, Кокто усилил присущие герою Софокла недостатки. Его Эдип молод, жаждет приключений и славы. Это самонадеянный юноша. В диалоге со Сфинкс он горделиво говорит о своей попытке преодолеть рок, т.е. о бегстве из Коринфа, где жили его приемные родители. Более того, в «Адской машине» Эдип наделен честолюбием, которое мешает ему видеть истинную логику вещей и настоящую опасность.
Кокто раскрывает образ Эдипа в парадоксальном ракурсе. Как и полагается в античном мифе, трагедия человека выявляется в столкновении с богами. Во II действии «Адской машины» автор выводит таких богов, как Сфинкс, Анубис, Немезида. Он по-новому трактует образ Сфинкс, используя в то же время характерный для античного мышления принцип метаморфоз, демонстрируя свободное владение мифологическими образами.
В «Мифологической библиотеке» Аполлодора рассказывается о насланном Герой на Фивы чудовище Сфинкс, сочетавшем зооморфные и антропоморфные признаки. В комментарии В. Боруховича отмечается: «По-гречески Сфинкс — существо женского пола, но утвердившееся в русском языке словоупотребление сделало его существом мужского рода». О женской сущности Сфинкс, или Сфинги, писал в одной из своих работ С. Аверинцев. В драме Кокто имя Сфинкс сопровождается артиклем мужского рода. Но, будучи поэтом, наделенным воображением, родственным мифотворческому, Кокто представил Сфинкс в процессе сложных трансформаций. Во-первых, это чудовище, терроризировавшее Фивы (само имя Сфинга означало «душительница»). Но монстр в изображении Кокто наделен способностью перевоплощаться в девушку, обретать человеческий облик. Более того, Кокто сделал Сфинкс воплощением подлинной человечности, сострадания, способности любить и жажды любви.
Третья ипостась Сфинкс в пьесе — образ Немезиды. Чудовище, способное на гуманные порывы, вместе с тем являлось воплощением возмездия. В минуту, когда Сфинкс опускается до проявления чисто человеческой слабости влюбленной женщины, Анубис напоминает ей о подлинной миссии: «Вы, взявшая на себя роль Сфинкс! Вы, Богиня из Богинь! Вы, великая среди великих! Вы, неумолимая! Вы, мстительница! Вы, Немезида!».
Сфинкс в драме Кокто предстает как существо, которое устало выполнять карающие функции, душить и убивать. Она сострадает несчастным людям и мечтает положить конец бесцельным жертвам. Но оказывается, по мысли Кокто, в мире властвует всеобщая несвобода. Анубис призывает Сфинкс к выполнению долга и поясняет: «Будем повиноваться. У тайны есть свои тайны. Боги имеют своих богов. Мы имеем наших. Они имеют своих. Это то, что называется бесконечностью». Анубис замечает кстати, что эти самые «наши боги» доказали свою мудрость, воплотив его в бесчеловечной форме (это божество с головой шакала), что позволяет ему сохранять невозмутимое самообладание, перегрызая затылки фиванцам, приносимым в жертву Сфинкс. Между тем Сфинкс, приняв человеческое обличье, из монстра превращается во влюбленную девушку, подсказывающую Эдипу разгадку роковой загадки. Несмотря на это, сердце Эдипа остается холодным, глухим к ее чувствам. Он толкует Сфинкс о блеске славы, о фанфарах и орифламмах, в этом видит он смысл жизни. «Сфинкс. И вы называете это жизнью? Эдип. А вы? Сфинкс. Ну нет. У меня совсем другие представления о жизни. Эдип. Какие? Сфинкс. Любить. Быть любимой тем, кого любишь. Эдип. Я буду любить свой народ, он будет любить меня. Сфинкс. Публичная площадь не может быть домашним очагом».
Диалог ясно показывает различие ценностных установок двух персонажей. По контрасту с глубоко очеловеченным и опоэтизированным монстром (причем превращенным не в исключительную, а в обычную, даже заурядную женщину), Эдип предстает существом казенным, начисто лишенным человеческой души. Он не захочет понять, что Сфинкс его полюбила. Очертя голову ринется он в Фивы навстречу своему роковому будущему, возглашая свою мнимую победу.
В этом действии Кокто нарочито дегероизировал Эдипа. В трагедии Софокла тот был мудрым и смелым победителем Сфинкс.
В драме Кокто он стал недалеким честолюбцем, воспользовавшимся состраданием влюбленной женщины и присвоившим себе лавры победителя.
В пьесе Кокто немало трагифарсовых ситуаций. Парадоксальность параллельного развития образов Сфинкс и Эдипа иронически резюмирует Анубис: «Убежден, что если вы похожи на смертную девушку, он смахивает на молодого бога». Ощущающий себя полубогом, Эдип не замечает, что именно в этот момент он оказался в капкане. Грозная Немезида, оскорбленная в ипостаси влюбленной женщины, шлет вслед ему проклятия, она хочет его видеть «бегущим из одной западни в другую, как безмозглую крысу». Когда Эдип возвращается за трофеем, за шкурой чудовища, которая станет подтверждением его миссии спасителя Фив, Сфинкс замечает: «Фивы и будущее воздадут Вам по заслугам» и, когда слышится сигнал, возвещающий о том, что крепость закрывается, она продолжает: «Фивы не оставят героя за воротами». Эпизод завершается контрастом ликующего возгласа Эдипа: «Я спас город!.. Я женюсь на царице Иокасте! Я буду царем!» и вырывающегося из глубины души Немезиды стона: «Бедные, бедные, бедные люди... Я больше не могу, Анубис... Я задыхаюсь. Покинем землю».
В действии III, изображающем брачную ночь Эдипа и Иокасты, трагикомические интонации сменяются грустно-лирическими мотивами воспоминаний-предчувствий, снов наяву (образов почти сюрреалистических). Образ Эдипа — любителя фанфар — раскрывается в сопоставлении с образом Тиресия. По контрасту с достоинством жреца, который служит не царям, а богам, еще более выпукло предстает ничтожность честолюбивых притязаний Эдипа, который гордится своим темным происхождением, видя в нем печать избранничества. На протяжении всей пьесы Кокто развивает заложенную в трагедии Софокла тему внутренней слепоты Эдипа в отличие от проницательности слепого Тиресия, которому внятно будущее.
Этот мотив в «Адской машине» достигает эмоциональной кульминации в пророческой сцене, когда Эдип, заглянувший в слепые глаза Тиресия, увидел в них, как в кристалле, свое будущее. Он как бы заранее ощущает страшные физические и моральные мучения, которые ему суждено пережить 17 лет спустя, в момент самоослепления. Но прозрение еще не наступило. Эдип по-прежнему остается гордецом, который «упрямо сопротивляется светилам». Он не внемлет ни роковым предначертаниям, ни предостережениям жреца, как не внял он мудрому совету Сфинкс, показавшей ему бесспорный способ избегнуть инцеста — жениться на девушке, которая моложе его.
В III действии пьесы Кокто Эдип все еще лжегерой, который мнит себя полубогом и который в действительности, по мысли автора, иге эти годы оставался королем карточной колоды в руках жестоких Логов. Известно, что в античной трагедии перипетия (перемена от несчастья к счастью, часто мнимая) в судьбе героя подчеркивала эффект трагической иронии. Это имеет место и в драме Кокто. Если в Изображении Софокла Эдип после решения загадки Сфинкс стал Мудрым правителем Фив, любимым подданными, то в «Адской машине» «боги захотели.., чтобы все неудачи возникали под видом удачи». «После ложных успехов царь узнает подлинное несчастье, настоящее коронование, которое сделает, наконец, человеком этого короля карточной игры в руках жестоких богов».
Оно представлено в IV действии «Адской машины», где образ Эдипа ближе всего к той его трактовке, которая давалась в античной Трагедии. Очнувшийся от честолюбивого угара «полубог» через Нечеловеческое потрясение и страдание, наконец, очеловечивается. Казня себя слепотой, Эдип обретает внутреннее зрение. Тиресий, Который по-прежнему выступает истолкователем воли богов, удерживает Креона от вмешательства в грозное развитие событий. Смертным нельзя идти против рока. Предначертания богов должны свершиться: «Гроза приходит из глубины веков. Молния поразила этого человека». И хотя в этой сцене присутствует языческая символика, нельзя не обратить внимания на то, сколь созвучен христианским настроениям мотив возрождения через страдание.
В пьесе Кокто глубокая укорененность образной системы в античной мифологии сочетается с нарочитой модернизацией ряда ситуаций. Конечно, в трактовке Эдипа поэт 30-х годов не мог обойтись без фрейдистских оттенков в развитии линии Эдипа — Иокасты. Подобные мотивы очевидны в I и III действиях (интерес Иокасты к молодому солдату, который заставляет ее вспомнить о сыне; ответ Эдипа на предостережение Тиресия о разнице в возрасте его и Иокасты: «Я отвечу вам, что всегда мечтал о любви в этом роде, любви почти материнской»; образ Эдипа в супружеской, спальне, склонившего голову на свою колыбель).
Созданные Кокто образы чужды модной псевдонаучной вульгаризации. В них ощутима нота трагических переживаний матери, пожертвовавшей младенцем во имя сохранения жизни мужа и не знавшей радостей материнства, и сына, знавшего тепло и ласку лишь приемной матери и подсознательно тосковавшего о родной. В финале трагедии, вернув человечность Эдипу, Кокто делает его спутником и поводырем призрак умершей Иокасты. При его появлении Эдип восклицает: «Жена! Не касайся меня... Иокаста. Твоя жена мертва, она повесилась, Эдип. Я твоя мать, это мать пришла к тебе на помощь». Обретшему человечность и внутреннее зрение Эдипу Кокто возвращает материнскую заботу и поддержку. И это свидетельствует об избавлении от рока. Тяготевший над Эдипом рок был связан с его гордыней.
Есть указание специалистов на то, что мотив инцеста в мифологии был символом неограниченной свободы фантастических существ и героев, их вызова высшим силам, но боги милостивы к человеку, научившемуся их понимать и чтить. Эдип с Иокастой и Антигоной уходят в легенду. Тиресий поясняет Креону, что они вне его власти, они «будут принадлежать народу, поэтам, чистым сердцам». Какой будет эта легенда? Автор не дает ответа. Пьеса завершается скептической репликой Тиресия: «Кто знает?» Этот открытый финал, как и вся образная система произведения, с трудом поддающегося однозначной трактовке, говорит о том, что Кокто создал не притчу, не параболу во имя утверждения собственной концепции. Мастер поэтического театра, он создал свою интерпретацию мифа, внес лепту в непрерывный процесс коллективного творчества, в котором живет миф. Легенда продолжается.
Кокто хотел, чтобы в драме было нечто от древнего ритуального действа, от молитвы. Вот почему он насыщает «Адскую машину» мотивами предчувствий, вещих сновидений. В этом же ряду и образ призрака Лаия, подобный тени отца Гамлета у Шекспира, пророческая роль вещей (шарф, брошь Иокасты). Кокто не принимал примитивного рационализма многих современников, людей, живших в эпоху, когда «сумерки богов» уже наступили. Эти настроения он выразил не только в драматургии, но и в эссеистике, и в поэзии.
Присутствие таинственного сообщает поэтичность драме Кокто. Она не становится драмой идей в чистом виде, ее жанровая природа многогранна. Поэтическое мировосприятие Кокто оказалось родственным мифу не только способностью воссоздавать метаморфозы, но и тем, что допускало в свой кругозор сверхчувственное, нуминозное начало. Как соотносится по свойство с жесткой концепцией рока, заданной самим названием пьесы, реализованной всем движением сюжета? Кокто довел до максимализма идею непреложной закономерности, управляющей жизнью людей, заложенную в трагедии Софокла и отмеченную многими на протяжении веков. Оказывается в эстетике первобытного искусства определенной ступени развития, которую Леви-Стросс назвал «неолитическим парадоксом», проявилась «мания геометризма», свойственная и «формально правильным структурам мифа».
Не случайно Вяч. Иванов, сочетавший строгость филологического анализа с поэтическими интуитивными прозрениями, считал математическую правильность построения достоянием того типа древнегреческой трагедии, которая еще пронизана дионисийским началом: «Чем меньше сознательности привнесет художник в свое творчество, тем решительней в его искусстве будет преобладать логика стихий, механика слепых страстей, тем разительней будет показано противоборство хаотических сил, тем настоятельней скажется, вместе с тем, потребность в чисто механических средствах изобразительности (Вспомним трагедию Эсхила, который гораздо больше нуждался в театральных машинах, нежели Софокл)».
Жесткий механизм действия адской машины в изображении Кокто, которая представляет, по словам Тиресия, «шедевр ужаса», вовсе не противоречит менталитету человека доклассового общества, в котором фантастические образы, основанные на признании сверхчувственного начала, уживались с почти математической логикой. Своеобразие структуры драмы Кокто сказалось в этом парадоксальном сочетании иррационального начала и логицизма, которые заложены в мифе. Древняя Греция рисовалась автору как суровый и сотрясаемый небывалыми страстями полуварварский мир, ознаменованный культом Диониса в его ницшевском варианте. В облике древней цивилизации он прозревал константы, вечные приметы человеческого бытия, во всяком случае приметы, еще действующие в XX в. «Подобно Ницше и Гельдерлину, Кокто восстанавливает примитивный смысл, скрытый от взглядов эллинистов, начиная с XVII в., под ложной маской «греческой ясности».
Отход от одностороннего рационализма, интерес к вненаучным формам познания, к числу которых принадлежит миф, богатство художественного воображения, толкавшего его к смелому экспериментаторству, попытка продлить жизнь античных мифов и средневековых легенд, цитирование и пародирование классики позволяет видеть в Кокто постмодерниста avant la lettre.
Л-ра: Филологические науки. – 1997. – № 5. – С. 32-42.
Произведения
Критика