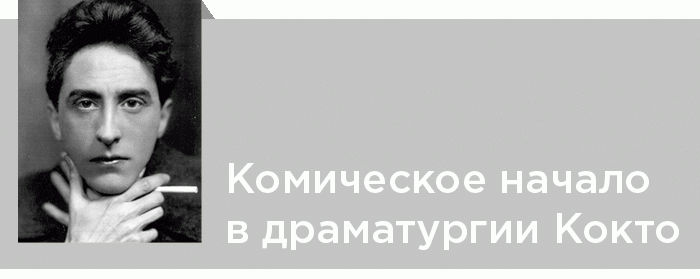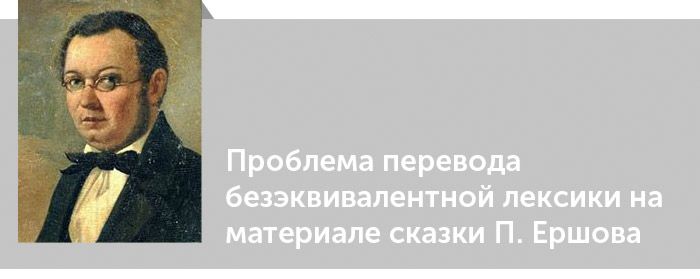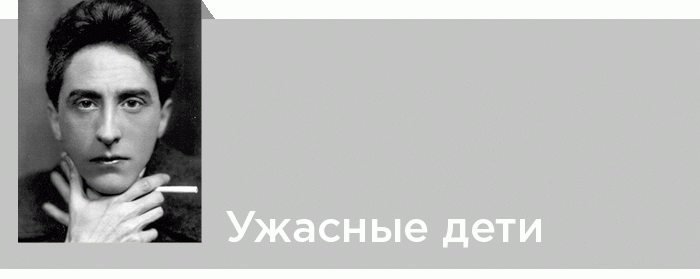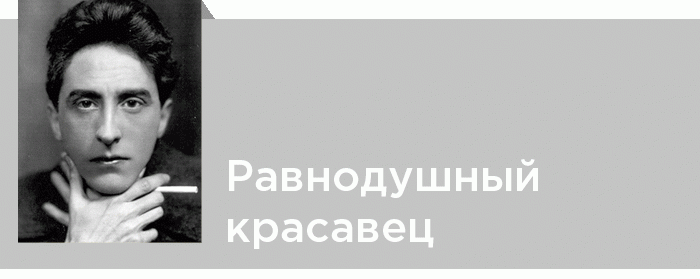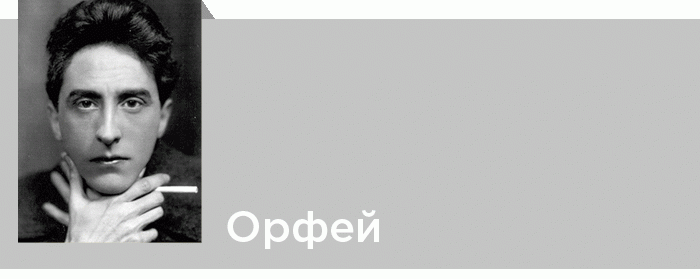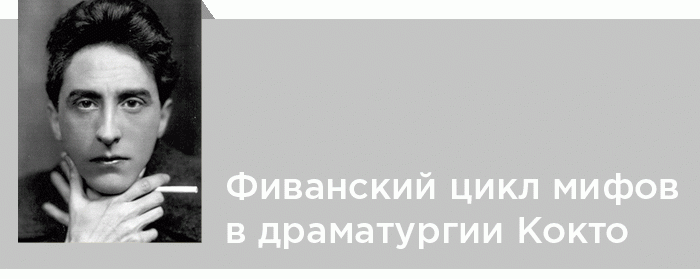Образ адской машины в театре Жана Кокто
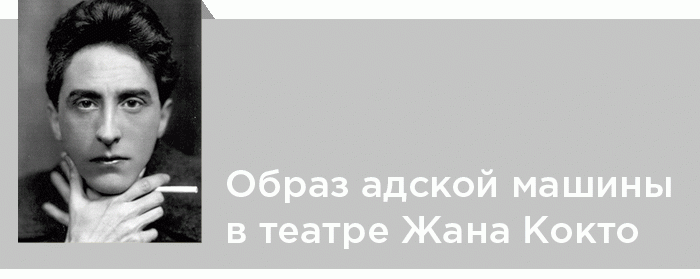
С. Н. Дубровина
Les dieux existent, c’est le diable
В начале 20-х гг. XX в. в искусстве распространилась футуристическая терминология. В поэзии повсеместно использовалась метафора электричества как некоей мистической силы, позволяющей контактировать с неизведанным миром. Столь же часто возникал и образ «машины». Для Ле Корбюзье, например, современный автомобиль столь же совершенен, как и Парфенон, а Парфенон, в свою очередь, — это машина, призванная взволновать. Для дадаистов и сюрреалистов машина не являлась воплощением точности и совершенства, а, напротив, выступала в роли «необычной и подозрительной игрушки... или магического предмета, ловушки иррационального». Сам сюрреализм был назван Арагоном «машиной для потрясения духа». Первая мировая война добавила к этому образу еще одну смысловую грань: машина стала не столько любопытным чудом, сколько орудием убийства.
Эстетика кубизма, кроме процесса творчества как некоего механизма, «механизировала» и сам объект — произведение искусства. Поэма, картина превратились в сложные устройства, которые необходимо сконструировать из разных деталей. Монтаж, коллаж стали одними из самых значимых приемов в искусстве.
В эту эпоху роль Творца, Поэта все чаще сводится к роли простого ремесленника. Так, в своей книге «Искусство и Схоластика» (1920) Жак Маритен утверждал, что искусство не абсолютно, не самоценно и что художник должен довольствоваться только ролью хорошего рабочего.
Аналогичную идею высказывают в начале 20-х гг. такие поэты, как Макс Жакоб, Реверди, Сандрар, для которых произведение искусства предстает как некий сконструированный объект, а миссия художника похожа на роль инженера-конструктора. Параллельно возникает «принцип полезности», «чистого» лиризма в искусстве в противоположность искусству орнаментированному, приукрашенному.
В текстах Кокто образ машины является одним из ключевых. Автор использует слово «машина» для обозначения нескольких разных понятий. С одной стороны, машиной зачастую называется тело человека, сложный механизм, строение которого не всегда понятно для его хозяина, а с другой — механизмом может быть и сама Вселенная. Кроме того, очень распространенный образ, к которому прибегает поэт, — процесс говорения или театрального действа, рассматриваемые как запущенный в ход механизм. Так, свою пьесу «Двуглавый орел» Кокто называет «изнурительной машиной для современных актеров».
Впервые образ адской машины появляется в самой ранней пьесе драматурга на древнегреческий сюжет, «Антигоне» (1922), когда Хор, не ведая, кто осмелился нарушить приказ Креона и совершил над Полиником запрещенные обряды, в ужасе вопрошает: «Хотел бы я узнать, не машина ли это богов».
Мотив жестокости богов, забавляющихся людскими страданиями, повсюду расставляющих людям ловушки, явственно звучит и в следующей пьесе автора, «Царе Эдипе» (1925), первоначально написанной как либретто к одноименной опере Стравинского, а впоследствии переработанной в драму. Ключевым мотивом пьесы является образ бессердечных богов, играющих «в людей» точно в игрушки, с одной стороны, и ничего не ведающего героя, уверенного в себе, но неспособного заглянуть за границу своего мира, по ту сторону смерти, — с другой. «Греческие боги, — говорится в прологе, — обладают жестокостью детства, и их игры дорого стоят смертным. Сам того не ведая, Эдип борется с силами, которые наблюдают за ним с другой стороны смерти...»
Зловещий механизм, орудие равнодушных богов, материально воплощается на сцене в «Орфее» (1925). Это уже не отвлеченная идея, так или иначе проявляющая себя в репликах персонажей, а настоящая электрическая машина, требующая настройки и дополнительных приборов (бобины и хронометра, например), с помощью которой Смерть забирает Эвридику в мир мертвых.
Образ адской машины характерен не только для пьес Кокто на античные сюжеты, но и для пьес с вполне современным сюжетом. Так, «Адская машина» имеет своего «двойника» «Пишущую машинку» (
Адская машина: грани образа
В пьесе «Адская машина» (1932) в отличие от «Орфея» образ бездушного механизма не столь конкретен (на сцене нет никакой реальной электрической машины), но благодаря, своей многогранности он становится еще более ярким и цельным: «источник питания» механизма — бездушная иерархия божественного мира, представленная служителями, мелкими сошками иерархической лестницы Анубисом и Сфинкс, и призраком Лая — одним из бесчисленных подчиненных потустороннего мира; цель создания машины — развлечение скучающих богов; сам механизм действия, который демонстрирует крылатая дева перед зачарованным Эдипом, и наконец, результат действия этой машины — преобразование Эдипа.
Одной из главных составляющих образа адской машины является ее механистичность. Жесткий, холодный расчет руководит безжалостными богами. Человек для них, судя по словам исполнителя их воли Анубиса, — не более чем цифра «ноль», «даже если бы каждый из этих нулей был разверстым ртом, молящим о помощи». Мотив механизма, монотонно попирающего героя, впервые возникает в пьесе «Царь Эдип»: «Бедный Эдип! Что за бог топчет тебя и прыгает по тебе огромными прыжками?» В «Орфее» механистический процесс имитируется в сцене Смерти (сцена VI) благодаря стремительности и одновременно четкой монотонности действий персонажей, ясным инструкциям Смерти, заранее известным шагам операции (сколько раз их уже проделывала в своей практике Смерть!).
В «Адской машине» в монологе крылатой девы из второго действия пьес наиболее явственно проступает метафора механизма, медленно, целенаправленно приближающегося к герою, чтобы уничтожить его. Перед будущей жертвой Сфинкс разыгрывает спектакль — демонстрацию своей мощи и неминуемого поражения человека.
Длинный монолог Сфинкс, прерываемый только краткими возгласами зачарованного Эдипа: Отпусти меня!, Смилуйся.., Меропа!.. Мама!, состоит из четырех частей. В первой крылатая дева монотонно перечисляет образы, ее представляющие (прожорливее насекомых, кровожаднее птиц...), во второй — усыпляет длинным списком глаголов-метафор (.я говорю, я работаю, я вычисляю, я обдумываю, я плету, я вяжу...); в третьей части монолога говорит о том, что всегда происходит с попавшимся в ее сети героем, о его ужасе, стыде, мольбах; в четвертой крылатая дева представляет свою загадку, которую герой пытается разгадать.
Тирада монстра о «методах» умерщвления, по меткому замечанию Франсиса Рамиреса, напоминает, с одной стороны, образ жуткого насекомого, паука, плетущего вокруг своей жертвы страшные сети, а с другой — «многофункциональной машины, которая непрерывно и монотонно делает свое дело».
Монотонное, механическое перечисление в речи Сфинкс множества действий навязывает актрисе, играющей роль крылатой девы, определенную манеру декламации, весьма сходную с захлебывающейся речью комических персонажей — или с речью взбалмошной, болтливой женщины. Так, Кокто советует Люсьен Богаер, исполнительнице роли Сфинкс, что «она должна говорить как пулемет — телеграф — безумная и дерзкая наездница». Или — «как если бы она зачитывала протокол». Похожее наставление актерам есть и в ремарке автора к «Антигоне», где указывается, что все актеры должны говорить, как если бы они читали газетную статью. Нужно отметить, что пример такого прочтения монолога Сфинкс показал сам Кокто (роль Эдипа исполнял Жан-Пьер Омон): он произносил его быстро, в высокой тональности, как заклинание.
В «Орфее» наиболее ярко воплотилась идея Кокто о поэте-медиуме, пытающемся раскрыть непознанную сущность мира. Вся истина мира, по мысли драматурга, заключена в самом поэте, она проступает сквозь него, сквозь обыденность, которая ею окружает, и его цель — вытащить эту истину на свет божий, быть успешным посредником между потусторонним и посюсторонним: «Этот внутренний персонаж, что обитает во мне, — персонаж абсолютно вневременный, которого я... чрезвычайно плохо знаю... Я всего лишь посредник. Медиум. Чернорабочий».
Образ поэта-медиума тесно связан с эстетикой сюрреализма. Как известно, одним из сюрреалистических приемов было автоматическое письмо, т.е. процесс создания поэтического произведения посредством записи образов бессознательного. При этом сам поэт становился посредником между своим внутренним миром и его вербальным выражением, в идеале его роль сводилась только к записи, но не к сознательной корректировке возникающих картин.
В таком понимании образ поэта-медиума оборачивается своей противоположной гранью: поэтом-машиной, чем-то вроде пишущей машинки, инструмента для записи приходящих идей. Как первая, так и вторая сторона образа (поэт — медиум и поэт — машина) предполагают пассивность посредника между мистическими силами и словом.
Протагонисты большинства пьес Кокто — Антигона, Эдип, Станислас, Ганс (из пьесы «Бахус» (1951)), несомненно, многое заимствовали от этого образа поэта-машины для фиксирования высшей истины. Они оказываются марионетками в руках судьбы, слепо следующими заданной мистическими силами траектории.
Так, внешний облик Смерти из «Орфея» скорее сходен с марионеткой, следующей за движением чьей-то руки, чем с одушевленным существом: элегантное бальное платье, меховое манто и «огромные голубые глаза, нарисованные на полумаске. Она говорит быстро, сухим и рассеянным тоном». Рот ее должен быть тщательно очерчен в виде сердечка на карте червей. В первоначальном издании пьесы была еще одна красноречивая ремарка: «Ее загримированное лицо — это маска идеальной красоты». Орфей в свою очередь безропотно записывает все, что слышит от Лошади (или то, что исходит из радио в машине, — в фильме «Орфей» (1949)), а Эдип, хотя и пытается избежать пророчества, на деле механически точно выполняет его, т.е. записывает словами своей жизни указания высших сил. Наконец, протагонист «Двуглавого орла» сам оказывается машиной смерти: «Чем больше я узнавал эту блистательную женщину (Королеву. — С.Д.), — признается Станислас, — тем больше она относилась ко мне как к идее, как к машине смерти».
Обыденные предметы в пьесах Кокто часто исполняют роль ловушки, инструмента богов, помогающего герою проникнуть в тайну иного мира. Так, перчатки Смерти, один из магических предметов в «Орфее», позволяют, точно ключ, пройти из одного мира в иной через дверь-зеркало. Именно благодаря забытым на столе гостиной перчаткам герой может оказать услугу самой Смерти, вернув их ей и получив в награду жену. Резиновые перчатки — один из самых ярких метафорических образов эстетики Кокто.
Этот образ упоминает драматург в письме Жаку Маритену, написанном в то же лето, что и пьеса, как уже давно известный собеседнику: «Небо, чтобы дотронуться до нас не запачкавшись, иногда надевает перчатки. Раймон Радиге был небесной перчаткой. Его форма, точно перчатка, подходила к небу. Когда небо вынимает свою руку, это смерть. Принимать эту смерть за настоящую, значит смешивать пустую перчатку с отрезанной рукой». То, что небесные перчатки из этого отрывка имеют непосредственное отношение к резиновым перчаткам Смерти из «Орфея», становится еще более очевидным из признания Кокто в том, что «смерть Радиге оперировала (его) без хлороформа», так же как безо всякого хлороформа оперирует Эвридику Смерть.
Интересно, что эта метафора воплощается на сцене материально: «Когда небо вынимает свою руку (из перчатки. — С.Д.), это смерть», — и как только Смерть в пьесе снимает перчатки, — Эвридика мертва. Стремление Кокто передать реальность точным, живым словом находит в этом небольшом эпизоде яркое воплощение.
Еще одна метафора, используемая автором в шестой сцене «Орфея», сцене смерти Эвридики, — метафора хирургической операции. Во-первых, к мотиву операции отсылает обмундирование персонажей: помощники Смерти в униформе хирургов, с резиновыми перчатками и в масках, а сама Смерть, хотя и в бальном платье, надевает на него сверху белый халат. В черных чемоданах они принесли инструменты. Смерть требует от подчиненных «порядка и чистоты как на корабле», а перед началом операции моет руки. Электрическая машина Смерти становится, таким образом, еще и хирургическим инструментом, с помощью которого оперируют Эвридику, преобразуют ее в новую Эвридику, обитающую отныне в потустороннем мире.
Зеркало также выступает как атрибут божественной машины, материальное воплощение поэта-медиума. Оно отражает внутреннюю глубину поэта, в которую тот пристально всматривается, пытается проникнуть. Путешествие Орфея по ту сторону зеркала — метафора поэтического творчества. Цель этого путешествия — поиск своей внутренней линии, возвращение к самому себе через все разнообразие встречаемых на пути пейзажей. В фильмах «Кровь поэта» и «Орфей» эта роль зеркала наиболее очевидна: на глазах у зрителя поэт проникает по ту сторону зеркала и обнаруживает за этой гранью целый мир. В «Двуглавом орле» зеркало также помогает Станисласу обрести свою истинную ипостась, обнаружить свое сходство с портретом умершего царя.
Зеркало в то же время не только путь к самому себе, но и путь в запредельное (поскольку над бессознательным в человеке властвуют мистические силы Поэзии), через него поэт может познать иной мир, познавая одновременно себя самого: «Зеркала — двери, сквозь которые входит и выходит Смерть», объясняет Эртбиз Орфею.
В «Адской машине» предметами-посредниками между человеческим и божественным миром выступают золотая брошь Иокасты, которой Эдип в финале выкалывает себе глаза, ее красный шарф, орудие самоубийства царицы, и лестницы, которые все первое действие угрожают Иокасте падением.
Иокаста оказывается жертвой заговора обыденных вещей. Предметы, окружающие царицу, почти одухотворены, и героиня физически ощущает их враждебность, С первого действия она уже предчувствует их будущее предательство и, точно пророчества, бросает фразы-метафоры, что обернутся в финале драмы роковой правдой. Так, в своей первой реплике царица упрекает Тиресия в том, что он не в состоянии безопасно провести ее по ступенькам, которые, по ее словам, «доводят (ее) до безумия». А затем, в конце первого действия повторяет: «И лестницы ненавидят меня. Лестницы, броши, шарфы. Да! Да! Они меня ненавидят! Они хотят моей смерти».
Отметим, что внимание Кокто к предметам, к материальной составляющей спектакля в целом, несомненно, имеет общие корни с ролью обыденных предметов в сюрреалистической эстетике. Бытовая вещь сама по себе зачастую становилась у сюрреалистов явлением искусства (в творчестве Дюшана, например) или же главным персонажем произведения искусства (в живописи Дали).
Иерархическая машинерия потустороннего мира
Все предметы-посредники между двумя мирами оказываются, таким образом, атрибутами адской машины, поскольку через них герои попадают из мира живых в мир мертвых. Одновременно они служат и путем к высшей истине, ведь результатом действия запущенного в ход механизма является преображение героя, преодоление им косности обыденности и возрождение к новой жизни.
Метафорой этого пути служит образ лестницы, который для Кокто неразрывно связан с мифом об Эдипе: на множестве его рисунков протагонисты трагедии, Иокаста и Эдип, изображены на ступенях храмов. На самом известном рисунке из этой серии, созданном автором для оригинального издания «Адской машины»
Мы не случайно остановились на образе лестницы: для Кокто этот образ является олицетворением устройства всего божественного мира, механизированное строение его иерархии воплощается в нем в виде четкой прямоугольной структуры ступеней, потенциальной бесконечности лестницы. Он чем-то напоминает эскалатор: в непрерывном движении наверх — с последующим резким падением (вспомним слова из пролога к «Адской машине»: «Чтобы боги вдоволь поразвлеклись, нужно, чтобы их жертва упала с достаточной высоты»).
Мотив лестницы в «Адской машине» перекликается с образом божественной иерархии (иерархической лестницы): «Подчинимся, — уговаривает Анубис Сфинкс. — У мистерии есть свои мистерии. У богов — свои боги. У нас — наши. У них — свои. Это то, что зовется бесконечностью». Так же как и Сфинкс в «Адской машине», Смерть в «Орфее» — всего лишь мелкая служащая бесконечной божественной иерархии, «один из многочисленных обликов смерти». Она манипулирует смертью людей, так же, как ею манипулирует кто-то, стоящий выше ее на небесной лестнице. Таким образом, Смерть, Сфинкс, наводящий ужас на огромный город, и его подручный Анубис сами подчинены безжалостной машине, не вольны выбирать свою судьбу: «Мы не свободны», — говорит Анубис Сфинкс.
Устройство божественного мира напоминает, следовательно, бюрократическую систему, систему, где невозможно найти ни начала, ни конца, обрекающую свою жертву на безрезультатные поиски истины. Действия адской машины абсолютно бессмысленны, по крайней мере, ни смертные, ни исполнители божественной воли Анубис и Сфинкс не в силах разгадать их. «Зачем все время действовать бесцельно, бесконечно, неосознанно. К примеру, Анубис, зачем эта собачья голова? Почему бог мертвых должен иметь вид, который ему приписывают доверчивые люди? Откуда в Греции египетский бог? Почему бог с собачьей головой?» Все эти бесчисленные вопросы задает Сфинкс, который, казалось бы, должен знать на них ответы.
Согласно ремаркам автора, действие «Адской машины» происходит на небольшом освещенном пространстве в центре сцены. Это маленькое, купающееся в «мертвенно-бледном, неправдоподобном свете пятно окружено полотнами темной ткани». Закрытое пространство создает аллюзию на образ ловушки, сконструированной богами для людей.
Образ ловушки появляется уже в прологе к «Царю Эдипу»: события трагедии, по словам автора, разворачиваются в идеальном месте для богов, которые «любят строить и расставлять ловушки». Забавляющиеся боги охотятся на героя, точно на зверя, а Сфинкс выступает здесь не как ужасный монстр, из-за которого страдал город и с которым мужественно сражался Эдип, но только как пассивная приманка, брошенная рукой бога. В прологе автор говорит: «Эдип отгадал загадку. Сфинкс мертв. Этот Сфинкс не внушает никакого доверия. Я нахожу, что у него вид дичи, брошенной сюда богами, как бросают дичь перед своими ловушками охотники на льва».
В пьесе «Царь Эдип» ловушка оборачивается для героев «бездонной пропастью, которую невозможно измерить, невозможно увидеть». Ослепляя себя, Эдип сам становится этой глубокой, темной, безграничной пропастью на плоскости ограниченного мира, он — герой-ночь среди людского дня: «Я — ночь. Глубокая ночь. Я царь, который стал ночью. Я — ночь посреди ясного дня. О мое облако безграничной тьмы! Иглы воспоминаний убивают меня».
История Эдипа смыкается здесь с историей Антигоны, тоже оказавшейся в «безымянной пропасти» (trou sans пот), а вслед за ней так же стремительно несется к «бездонной пропасти» (trou sans fond) Креон. Безымянная, бездонная пропасть, которую невозможно осознать, — это именно тот беспредельный мир, где обитают бездушные боги.
Ловушка, в которую попадает благодаря сладкой приманке герой «Адской машины», больше похожа на клетку, чем на бездонную пропасть. В прологе к третьему действию Голос предупреждает, что, «несмотря на некоторые знаки и вежливые предостережения судьбы, сон помешает им (Эдипу и Иокасте. — С.Д.) увидеть ловушку, которая навсегда захлопывается за ними». Первая же реплика Иокасты в третьем действии снова настаивает на образе пойманной жертвы: «Боюсь, как бы эта комната не стала для тебя клеткой, тюрьмой».
Образ ловушки, символический для пьесы в целом (ловушка бессердечных богов, построенная для человека), в третьем действии несет в себе ясно прочитываемую аллюзию на женское лоно, вынашивающее ребенка. Мистически-тревожное настроение создается прежде всего благодаря декорациям. Действие происходит в комнате Иокасты, «красной, словно небольшая мясная лавка посреди городских строений». Таким образом, само лоно Иокасты становится ловушкой для Эдипа: он с рождения пойман в сеть родственных уз.
Адская машина — жестокое орудие бездушных богов — и ее преодоление: поэтическое познание потустороннего мира
Механическая бездушность адской машины, пущенной в ход богами, имеет в мире Кокто своего «положительного» двойника — математическую точность, ясную, строгую образность истинной поэзии, творения Поэта.
Образ поэта-мастера, ремесленника, своими руками творящего поэзию, характерен для Кокто и, несомненно, заимствован им из античной эстетики, где истинный поэт в первую очередь также должен был быть мастером, в совершенстве владеющим своим ремеслом, ремеслом слова. Так, драматург называет поэтов «краснодеревщиками» или даже рабочими: «Мы — рабочие тьмы, которая нам свойственна и которая нас избегает (Nous sommes les ouvriers d’une ténèbre qui nous est propre mais qui nous échappe)».
В пьесах 20-х годов тяга Кокто к точности, «материальности» поэтического языка проявилась ярче всего. «Надо ли говорить, — предупреждает автор в заметках к постановке “Орфея”, — что в пьесе нет ни одного символа. Ничего, кроме бедного языка, “стихотворения в действии”». Как каждый элемент декорации абсолютно необходим на сцене, выполняет определенную функцию, так и каждое слово служит созданию образа и должно быть незаменимым.
В чрезвычайно сгущенном языке «Антигоны» и «Орфея» нельзя убрать ни одного слова, в нем нет ничего лишнего. А весь стиль оратории «Царь Эдип», сухой, жесткий, напоминает скорее математическую формулу, нежели поэтическое произведение.
«Поэт не мечтает; он считает». Не только число («поэзия — это точность, число»), но даже техника становится инструментом поэзии: «У поэтов есть своя мощная техника. Поэзия... — это нечто вроде высшей математики, высшего языка».
«Боже, ...Мы благодарим вас за мое спасение, ведь я обожал поэзию, а поэзия — это вы». Завершающая «Орфея» молитва поэта — ключ к «античному» театру драматурга. Единственным священным храмом в мире Кокто является храм Поэзии, его святые — поэты, дети, чистые сердца, а рок, преследующий героев его пьес, — это рок поэта, вынужденного следовать своей музе, никогда не отступать от своей внутренней линии, даже если это противоречит общепринятой морали, мнению толпы.
Все герои Кокто принадлежат к одной расе, расе чистых сердцем, к обладателям «гениальности в ее наиболее редкой форме,.. гениальности сердца». Эпиграф к «Адской машине» (отрывок из Бодлера) раскрывает сущность этой расы: «Я еще раз попытался, как и все мои друзья, закрыться внутри системы, чтобы проповедовать в свое удовольствие. Но система — это нечто вроде проклятия... Я вернулся к поискам укрытия в безупречной наивности. Именно здесь мое философское сознание нашло свое отдохновение». Выход из зачаровывающей, затягивающей системы, таким образом, возможен только для абсолютно наивной души. Такими безупречно наивными героями и оказываются Антигона, Эдип, Орфей.
Итак, механическому ходу адской машины в мире Кокто противостоит неотступное движение к истинной Поэзии. Этот трудный путь героев — от мира обыденного к запредельному — является стержнем всех «античных» пьес Жана Кокто. Антигона, Орфей, Эдип, сами того не желая, попадают в оборот адской машины, сметающей на своем пути все живое. Их целью становится преодоление этой бездушной механистичности посредством создания истинно поэтического творения, посредством творческого созидания шедевра из своей собственной судьбы, из самого себя.
Л-ра: Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 2002. – № 3. – С. 101-113.
Произведения
Критика