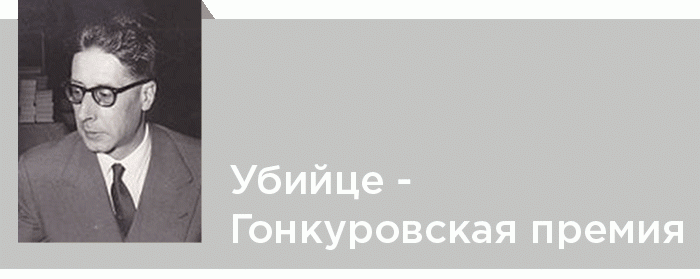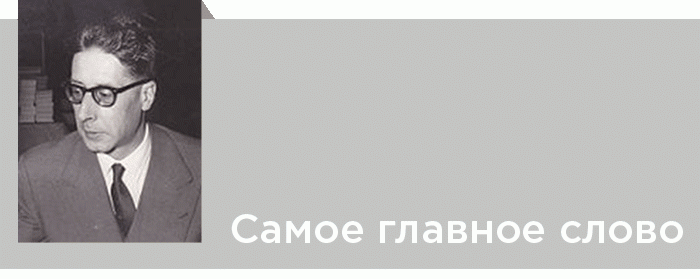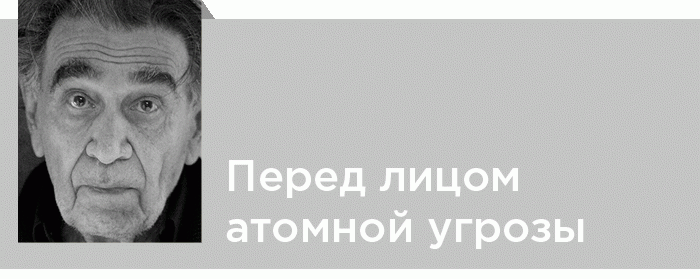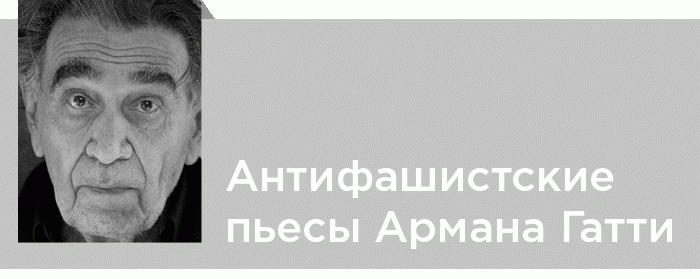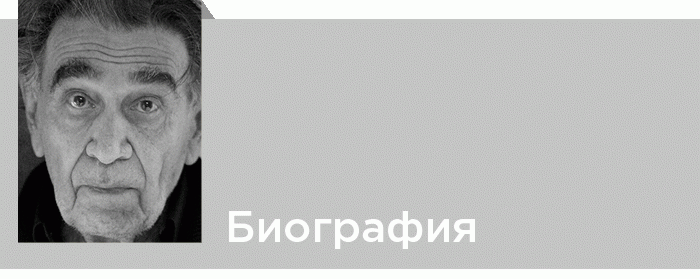Театр Армана Гатти: между искусством и политикой

Т. Проскурникова
Во Франции пик интереса к политическому искусству приходится на конец 60-х годов. В стране, охваченной тогда острой политической и социальной борьбой, многие театральные деятели стремились к искусству, активно вторгающемуся в жизнь. Но если для ряда французских драматургов и режиссеров обращение к политической тематике носило временный характер, то Арман Гатти на протяжении всей своей творческой деятельности видит одну из главных задач театра в установлении «между искусством и политикой непосредственных и активных взаимоотношений».
На протяжении вот уже тридцати лет Гатти — драматург и режиссер — с поразительной самоотверженностью и настойчивостью стремится превратить театр в арену острейших столкновений различных взглядов на современный мир, привлечь внимание людей к болевым точкам и проблемам своего времени, разбередить души и сердца зрителей картинами жестокой социальной несправедливости.
Во французском политическом театре нет другой такой фигуры, как Арман Гатти, — в его творческой судьбе нашли отражение многие общие проблемы, связанные с эволюцией, которую претерпело политическое искусство во Франции в последние десятилетия.
Начав свой творческий путь в послевоенные годы как журналист, к концу 50-х годов Арман Гатти становится признанным драматургом. С первых же шагов в театре он прочно связывает свое творчество с демократическими театрами Франции, его театральный дебют связан с именем Жана Вилара, поставившего в октябре 1959 года в ТНП одну из ранних пьес Гатти — «Жаба-буйвол».
К середине 60-х годов Арман Гатти — популярнейший драматург, произведения которого появляются на сцене каждый сезон. Интервью с ним публикуют «Леттр франсэз» и «Монд», «Нувель критик» и «Магазин литтерер». Телевидение щедро предоставляет ему свой экран. Гатти получает возможность обстоятельно и подробно изложить свои взгляды на театральное искусство.
«Я за театр, который разделяет, а не объединяет, в котором все встречаются со всеми, за театр, который разделяет как можно более глубоко. Необходимо, чтобы благодаря театру даже самые обездоленные классы осознали свою силу, научились рассчитывать на самих себя». Именно такой, классовый подход к искусству Гатти считает единственно возможным, точнее, он считает его единственно реалистичным, так как попытки объединить в театре представителей классов, постоянно воюющих между собой в действительности, кажутся ему идеализмом и утопией. «Демобилизующее театральное представление уже самим фактом демобилизации представляет собой политический акт». Для Гатти очевидно, что настоящий театр должен быть будоражащим, агитационным, закладывающим основы общественного поведения людей. Чтобы взбудоражить публику, разбередить ее, необходимо, по его мнению, задавать себе вопросы, — «когда человек начинает задавать себе вопросы, он начинает меняться и есть надежда, что однажды ему захочется изменить мир». Необходимо, чтобы театр обязательно оказывал воздействие на людей, «поддерживая одних, будоража других, переориентируя третьих». Театр и драматург не должны забывать о том, что заполняющие зрительный зал люди приходят из мира, полного острых и сложных проблем, что они приносят с собой свой жизненный опыт, иногда помогающий, а иногда и мешающий найти верный ответ на встающие перед ними вопросы. «Приходящий в театр человек приносит туда не только свое тело. Он приносит туда повседневную жизнь, и в основе его реакций лежат его специфическое настроение, его нужды, его конкретный опыт. И никогда он не реагирует как простой зритель, потому что простой зритель не существует, да никогда и не существовал». Вот поэтому-то, считает Гатти, «театральное представление — это встреча на вершине пережитого. Того, что пережито автором, и того, что пережито зрителями». Отправные точки драматических произведений Гатти всегда лежат на пересечении его жизненного опыта и опыта его зрителей, но он категорически против того, чтобы превращать театр в кальку с действительности, создавать на сцене иллюзию реальности. Он за открытую театральность, за предельное обнажение условности искусства.
Но с первых же шагов на новом поприще Гатти обнаруживает несоответствие своих замыслов привычным рамкам современного ему театра. «Мне пришлось констатировать следующее: либо я не гожусь для театра, либо театральный язык не годится в том виде, в каком он существует, чтобы передать драматизм переживаний современного человека».
Причины неприятия Гатти современного ему французского театра серьезны и глубоки, в нем нет огульного отрицания все и вся. Показательно его отношение к «антитеатру», завоевавшему к концу 50-х годов широкую популярность.
«Театр абсурда — это сегодняшний театр и в этом качестве бесспорно заслуживает интереса. Я даже думаю, что он представляет собой очень продвинутое исследование некоторых проблем некоторых людей. То, к чему стремимся мы, прямо противоположно. Театр абсурда исходит из того, что жизнь человека на земле бессмысленна, мы же пытаемся создать театр, показывающий человека, участвующего в созидании, становящегося, в свою очередь, созидателем, выковывающего свою судьбу, приобретающего свое собственное человеческое лицо». Для Гатти важно, что представители «антитеатра» «участвовали в разламывании каркаса буржуазной драмы», но не дали зрителю даже намека на то, что на смену воцарившемуся буржуазному социальному строю придет социальный строй, менее абсурдный и более разумный. Гатти отказывает этому театру в динамизме и оптимистичности, которые ему необходимы в театре как последователю Вишневского, Брехта и Пискатора.
Глубоко чужд Гатти и индивидуалистический пафос абсурдистской драматургии, утверждение враждебности людей друг другу, постоянное изображение затравленности человека ему подобными, одно присутствие которых превращает для него жизнь в ад. Гатти против театра, стирающего всякое разграничение на друзей и врагов, близких и чужих соратников и противников, последовательно развивающего сартровскую формулу «ад — это другие». «Другие — это не враждебное человеку понятие. Наоборот... Это единственная возможность для человека существовать во множественном числе, что для меня означает огромное богатство, — говорит Гатти. — Другие — это не граница, проведенная раз и навсегда, не что-то изначально агрессивное, хотя опыт и доказывает иногда противоположное. Другие — это всегда возможность наполнения, обогащения». Но как далек будет от истины тот, кто, прочтя эти слова Гатти, решит, что мир его пьес идилличен и прекраснодушен. Трудно найти в современной французской драматургии произведения, наделенные большей взрывчатой силой, большей остротой столкновений противоборствующих сторон. Палачи и жертвы, угнетатели и угнетенные, пассивные созерцатели и несгибаемые борцы населяют мир театра Гатти, раздираемый социальными противоречиями. Суть глубочайшего различия в отношении Гатти и драматургов театра абсурда к проблеме «индивидуум и другие», вероятно, прежде всего заключается в том, что если в абсурдистском театре присутствие «других» является своего рода залогом неизбежности уничтожения, духовного или физического, превращения человеческого существования в ад или тюрьму, то для Гатти наоборот: «другие» — это одна из гарантий того, что стены тюрьмы могут быть разрушены, что из ада можно выбраться.
Главное для Гатти — это внутренние, духовные возможности каждой человеческой личности, позволяющие ей выстоять или превращающие ее в послушное чужой воле орудие.
Граница, разделяющая людей на жертвы и борцов, по Гатти, проходит внутри каждого человека. Это необычайно важная для творчества Гатти тема. Он выступает против априорного представления о жертвенности и униженности в силу социальной или расовой предопределенности. «У меня не вызывает жалости тип людей, распростертых на земле, принимающих смерть, навязанную им другими людьми, — говорит Гатти. — Человек всегда должен уметь держаться стоя... Человек поднимается, встает, и даже если смерть выходит победительницей, ни одно движение человека, боровшегося сознательно до конца, чтобы жить стоя, не окажется бессмысленным». Эта позиция гражданина и художника нашла яркое выражение в одной из центральных тем творчества Гатти, в теме борьбы с фашизмом, которой посвящены несколько его пьес и фильм «Загон».
Фильм «Загон» очень личностный фильм, и дело здесь не только в собственном опыте режиссера (в 1942 году восемнадцатилетний Гатти ушел к партизанам, в маки, был схвачен немцами и отправлен в концлагерь Линдерманн), но и в его желании противопоставить свою картину другим произведениям, создаваемым на том же материале, тем из них, которые выносят на первый план жестокость и ужасы, воспроизводя тем самым, по его мнению, внешнюю сторону трагедии, создавая некий застывший образ кошмара. «Загон» — картина остросюжетная, но главное в ней — это пристальный и подробный анализ характеров-судеб. Именно характер-судьба интересует Гатти, то есть характер человека, определивший его судьбу в критической ситуации, требующей от него предельного напряжения всех духовных и физических сил.
Стремясь показать, что человек, избравший для себя путь борьбы, обязательно выстоит, не будет сломлен враждебными ему силами, а тот, кто пассивен, всегда оказывается жертвой, Гатти большое внимание уделяет биографии своих главных героев. Если Давид Штейн, часовщик из маленького французского городка, всю жизнь стремился прожить тихо и незаметно, ни во что не вмешиваясь, лишь бы не трогали его самого, то Карл Шонгауэр уже в юности прошел университеты классовых сражений: его биография — это биография целого поколения немецких антифашистов. Сделав героем своего антифашистского фильма немца, Гатти стремился показать классовую природу фашизма, утвердить мысль о том, что не национальной принадлежностью определяется выбор человеком своей жизненной позиции.
Гатти снимал в фильме актеров из многих стран. Ему было важно не только, чтобы узников разных национальностей играли их соотечественники, но и сам факт их участия в съемках фильма об интернациональном братстве в фашистских застенках. Он рассказывал, как необходим ему был этот непосредственный контакт с многонациональной съемочной группой, как даже посредничество переводчика казалось ему не помощью, а помехой. Для творческих и жизненных принципов Гатти очень важен момент переплетения искусства и жизни, их взаимопроникновение. Особенно очевидно этот принцип проявился в его театральных работах конца 60-х — начала 70-х годов, но уже на съемках «Загона» он нащупывал какие-то точки пересечения, которые считал очень важными.
Глубокая психологическая мотивированность поведения героев, пристальное внимание к индивидуальным человеческим судьбам, характерные для фильма «Загон», контрастируют с почти плакатной публицистичностью драматических произведений Гатти 60-х годов. В лучших своих пьесах: «Публичная песнь перед двумя электрическими стульями» (1962), «Одинокий человек» (1964), «Страсти по генералу Франко» (1965), «В, Как Вьетнам» (1967), драматург стремится сочетать интерес к отдельному человеку с пристальным анализом социальных и политических явлений, вовлекающих индивидуума в свою орбиту и в конечном итоге определяющих его судьбу. «Отрицательные герои» его пьес, силы подавления и угнетения не персонифицированы, а представляют собой собирательный, часто абстрактно-гротесковый образ. Это обезличивание отнюдь не связано у Гатти (как, скажем, в произведениях абсурда) с универсализацией понятия зла, его обличительный пафос имеет четкий и определенный адрес. В пьесе «В, как Вьетнам», например, живым и запоминающимся образам вьетнамцев противостоят американская электронная машина «Шатэнь», состоящая на службе в военном ведомстве, Квадратура, Теорема, Генерал «Бульдог», Мегашериф и прочие «персонажи» военных авантюр США.
Одновременно с работой над постановкой «В, как Вьетнам» он ставит в апреле-марте 1968 года вместе с руководителем ТЭП Ги Реторе уникальный в своем роде эксперимент, приглашая три десятка постоянных зрителей ТЭП, людей из разных социальных слоев и разных профессий, собраться вместе и вообразить себя в роли авторов. Магнитофон должен был зафиксировать их разговоры на самые разные темы, интересующие современного человека: например, о проблемах урбанизации, женской эмансипации, каникул и отпусков, о неудовлетворенности рабочих своим положением, об отношении к классовой борьбе и просто о скачках. «И неостановимо, как морской прилив, — рассказывал потом Гатти, — наступали самые острые проблемы сегодняшних событий...» Написанная на основе собранного материала пьеса получила название «Тринадцать солнц улицы Сен-Блэз» и была поставлена весной 1968 года Ги Реторе на сцене ТЭП.
Что же сталось с коллективно сочиненным текстом предполагаемой пьесы? За исключением нескольких фраз, от него практически ничего не осталось, что вызвало при первом чтении Гатти своей пьесы перед «соавторами» их недоумение.
Если изложить приблизительно содержание пьесы, то оно таково: учительница вечерних курсов для взрослых, расположенных в XX округе Парижа (там же, где и ТЭП), просит учеников написать сочинение, в котором они должны высказать свое отношение к предполагаемому сносу домов на старинной улочке Сен-Блэз и к постройке на их месте многоэтажных современных зданий из стекла и бетона. При этом ученики должны написать все это не от своего собственного имени, а как бы увиденное «глазами» солнца, привычно встающего по утрам над обсаженной платанами улочкой. Так появляются тринадцать «солнц»: «неудовлетворенное» и «эксцентрическое», «умеренное» и «раздумчивое», «муниципальное» и «маргинальное», «солнце-подсолнух» безработной цветочницы и даже «черное солнце» негра, подметальщика улиц... Одна мечтает о вечных каникулах и превращении улицы в филиал средиземноморского клуба, другой — о возрождении революционных традиций этого рабочего квартала. Символическим образом времени становятся часы (в спектакле макет часового механизма занимал центральную часть сцены) героя Парижской коммуны, одного из основателей I Интернационала, рабочего-переплетчика Эжена Варлена. Для Гатти был очень важен этот образ: часы коммунара, по которым и сегодня рабочие сверяют свое время. Но чтобы эти часы не остановились, нужно, чтобы их питала сегодняшняя революционная борьба. В «Тринадцати солнцах» много споров о том, какой она должна быть сегодня, и, сталкивая точку зрения коммунистов и леваков, Гатти не высказывается определенно, на чьей он стороне. Он дает лишь понять, что необходимой сегодня революционной акцией должно быть создание новой, живой культуры, противостоящей холодной и мертвящей официальной культуре (не забудем, это март, а не май 1968 года). Учительница (представительница культуры официальной, состоящей на службе у властей) недовольна сочинениями учеников и отправляет их за никчемностью в «мусорную корзину истории», так как не хочет поддерживать стремление разрушить существующий порядок вещей. Ученики тяжело переживают крушение своих фантазий, и только рабочий-металлист Антуан Марпо говорит в финале пьесы: «Там, за умершими небесными светилами должен же существовать маленький кусочек пространства, в котором найдет свое продолжение улица Сен-Блэз». Мое изложение содержания пьесы весьма приблизительно и представляет собой логически выстроенные выжимки из поразительно перегруженного метафорами и символами текста.
Критика на сей раз единодушно отмечала неудачу задуманного Гатти и Реторе эксперимента. Режиссеру не удалось преодолеть туманность, тяжеловесность текста и запутанность метафорических построений. Выдвигая как один из главных тезисов необходимость создания новой культуры, которая, по выражению Гатти, «должна противостоять мертвым праздникам духа буржуазной культуры», он попытался в «Тринадцати солнцах» представить объективный образ современного общества, который на деле оказался умозрительной конструкцией.
Эта постановка явилась последней работой Гатти на сцене-коробке. Той же весной 1968 года он осуществляет еще один эксперимент, доверяя университетскому театру в Страсбурге свою пьесу «Журавль». В этой пьесе тоже есть солнце, но солнце, взорвавшееся атомной бомбой. В первоначальном варианте пьеса называлась «Тысячный журавль», и в центре ее был образ девочки Ойанаги, делавшей бумажные журавлики, чтобы не умереть от поразившей ее «атомной болезни». Пьеса состояла из картин воображаемой жизни Ойанаги, которые девочка придумывала, уверенная в том, что сумеет сделать тысячу журавлей, которые, по старинному японскому преданию, спасут ее от смерти. Она представляла себе, как вырастет, станет взрослой женщиной, какая у нее будет семья. Она успевала сделать только 703 журавлика и умирала. Дорабатывая пьесу для университетского театра в Страсбурге, Гатти выдвигает на первый план другой персонаж — японского солдата, который, демобилизовавшись, возвращается в свой родной город Нагасаки уже после взрыва. Согражданам он кажется пришельцем с другой планеты, их шокируют его цветущий вид и его речи. А Энемон — так зовут солдата — пытается убедить их, что как бы ни было ужасно случившееся, нельзя замыкаться в своем горе, что нужно упорно день за днем трудиться, чтобы создать новый город, новую жизнь. Он выступает и против военных, утверждающих, что, проиграв войну, нельзя не чувствовать себя униженными. И против религиозной проповеди справедливости понесенных жертв, и против тех, кто объявляет бессмысленной любую активность, так как «впереди третья атомная бомба». Энемон никому не обещает земного рая, а лишь полную труда и забот жизнь, которая вернет людям и веру в свои силы, и надежду на возрождение города, и заставит отступить чувство обреченности и ожидание смерти. И для тех. кто поверит ему, Энемон станет тем самым «тысячным журавлем», который, семь раз падая, поднимется восемь раз.
Вместе с режиссером Жаком Юрстелем Гатти решает в постановке «Журавля» важную для себя проблему преодоления традиционных рамок сценического пространства, замены «фронтального театра театром пространственным», который позволил бы свободно переносить действие в самые разные участки помещения, включая при этом в него и зрителей.
Само помещение университетского театра в Страсбурге представляло собой большой зал, в разных концах которого расположены различной формы помосты, соединенные взаимопересекающимися переходами. Зрители размещались в образуемых этими пересечениями ячейках или отделениях, оказываясь в самой сердцевине пространства, на котором происходило действие. «Современная театральная архитектура не годится для театра, о котором мы мечтаем. И тогда мы прибегаем к полумерам с помощью света, разделения сцены надвое по вертикали или по диагонали, симультанного действия. Но никогда не добиваемся того эффекта, который достигается одновременным действием на разных сценических площадках, по той простой причине, что установка таких площадок в традиционном театральном помещении полностью блокировала бы всякое передвижение. Следовательно мы нуждаемся в пространствах, гораздо более протяженных, широких и разнообразных». Конечно же, идеи Гатти о преобразовании сценического пространства не новы (их разрабатывали режиссеры с самого начала XX века, в том числе и в советском театре) и увлечение ими Гатти не оригинально, так как приблизительно в это же время ими «болели» многие французские режиссеры, но они взялись за их осуществление уже после театрального бума в связи с событиями мая 1968 года, Гатти же и Юрстель пробовали реализовать свой замысел еще до мая.
В мае-июне 1968 года Гатти, конечно же, участвовал в демонстрациях (в стычке с полицией сломал руку) и в стихийно возникавших дискуссиях. По свежим следам событий он создает цикл «мини-пьес» на темы, связанные с актуальными политическими событиями, со становлением политического самосознания французской молодежи (в связи с внутренним положением во Франции, войной во Вьетнаме, Че Геварой и партизанским движением в Латинской Америке). Гатти назвал этот цикл «Маленький учебник городской герильи». Но помимо этого, лежащего на поверхности выпада против власть предержащих у «Учебника» Гатти было иное, гораздо более важное назначение: он должен был помочь тем, кто профессионально или любительски занимался театром, найти контакт с публикой прямо на месте работы людей или в жилых кварталах. Спектакли должны были длиться не более полутора часов, число участников не превышало семи, не было нужды ни в декорациях, ни в настоящих театральных помещениях. Эти «мини-пьесы», по замыслу Гатти, должны были помочь профессиональным или любительским «мини-театрам» вести свою «партизанскую войну в городских условиях», не попадая в зависимость от государственных администраций и субсидий. Одной из пьес «Маленького учебника городской герильи» была суждена долгая сценическая жизнь: руководимая Жан-Мари Лансело Группа V, возникшая в 1968 году, показывала ее в течение 1969/70 года в общежитиях, домах молодежи, больницах. В 1972 году ее с успехом поставил Театр перманан де Пирене (Театр Пиренеев) и показал в Париже. Пьеса называется «Почему домашние животные? или День медицинской сестры» и представляет собой монолог молодой женщины, встающей каждый день в 5:15 утра, тратящей 2 часа на дорогу, проводящей 8 часов в больнице и тратящей 5 часов на домашнее хозяйство. Единственная ее привязанность — это котенок Дзампано, названный так в память о давно погибшем в Алжире возлюбленном Луизы. В пьесе нет ответа на вопрос, правы ли люди, которые, подобно Луизе, делают все, чтобы «укрепить стены своей собственной тюрьмы», и не является ли одиночество неизбежной расплатой за это. Гатти хотел, чтобы ответ зрители и участники труппы искали вместе в обсуждении увиденного спектакля. Рецензии на разные постановки этой «мини-пьесы» свидетельствуют о живой и заинтересованной реакции различных зрительских аудиторий на поставленную в пьесе проблему, решать которую приходится всем вместе и каждому в отдельности.
Другие пьесы «Маленького учебника городской герильи», более тесно связанные с событиями и настроениями весны — лета 1968 года, в дальнейшем не ставились. Но сам жанр короткой пьесы — отклика на какое-то конкретное событие полюбился Гатти, он и в дальнейшем не раз прибегал к нему, в частности в связи с запретом в 1965 году его пьесы «Страсти по генералу Франко». Осенью 1968 года Жорж Вильсон пригласил Гатти поставить эту пьесу в ТНП, впервые во Франции, до этого она шла лишь на сцене городского театра западногерманского города Касселя (судя по откликам прессы, с большим успехом).
Чтобы не вызывать дипломатических осложнений, Гатти убирает из названия имя Франко, и пьеса получает новое, нейтральное название — «Страсти в лиловом, желтом и красном». Премьера назначена на февраль, репетиции идут полным ходом, а в декабре, в связи с протестом посольства Испании, спектакль был запрещен. Против этой акции министерства культуры (во Франции впервые запрещали спектакль, еще не увидевший свет) выступили многие видные деятели литературы и искусства, такие, как Арагон и Триоле, Сартр и де Бовуар, Сезер, Гарран, Серро, и многие другие. Для возмущенных происшедшим актеров ТНП Гатти написал небольшую пьесу-импровизацию «Запрещение страстей по генералу Франко».
Конечно, один из лозунгов начала 70-х годов: «Политизировать театр и театрализовать политику» — был очень близок Гатти и не только не требовал от него никакой перестройки или переориентации, но, наоборот, казалось, знаменовал приход «его эры», реализацию многих замыслов об изменении самой сути театрального искусства. «У нас есть наши герои, — сказал он в одном из интервью, — и они стоят других прочих. Почему не говорить о них? Какая ложная скромность нас удерживает? Никто не говорит о Сакко и Ванцетти, об американском рабочем движении, например. А ведь это не менее возвышенно и трагично, чем населяющие сцену Комеди Франсэз принцы. Нам необходимо вернуть себе собственное достоинство, и мы добьемся этого с помощью наших героев, перенеся их на театральные подмостки». В другом интервью он говорил о том, каким видится ему сегодняшний театр: «Помечтаем. Каким мог бы быть театр? Прежде всего искусством города, который мог бы в этом зеркале отражать самого себя и свои мечты. Театр собрал бы вокруг себя всех. Здесь жили бы рядом и поэт и тот, кто работает по дереву или по железу. Здесь бы люди беседовали о прошедшем дне и о лучшем будущем». Действительность взорвала эту несколько идиллическую картину «театра в городе», но укрепила Гатти в убеждении, что театр может и должен стать перекрестком, на котором сталкиваются самые острые проблемы времени, и что драматическое искусство нуждается в новых театральных формах и новом театральном языке.
Весной 1971 года состоялась знаменательная беседа Гатти с Дени Бабле, одним из ведущих театроведов Франции. В этой беседе Гатти рассказывает о причинах, побудивших его параллельно с творческой деятельностью пойти работать на завод в ФРГ. «По-моему, политический театр сегодня — это завод. Именно на заводе необходимо постигать новый формирующийся язык, здесь необходимо пережить его биение и почувствовать создаваемый им мир. Если не проникнешься этим языком, то останешься представителем привилегированных интеллектуалов. Поэтому было необходимо, чтобы я пришел работать на завод, стремясь не подделываться под рабочего, а изучить этот язык, обрести дыхание, которого у меня нет в данный момент. Это кажется мне совершенно необходимым, если я хочу продолжать творить... Опираясь на приобретенный навык, я смогу создать что-то более соответствующее действительности, что-то вне ностальгических мелкобуржуазных формулировок». О том, что создал Гатти, «проникнувшись этим новым языком», можно судить по спектаклю «Колонна Дуррути» — об известном командире бригады анархистов в Испании периода гражданской войны, работать над которым режиссер начал осенью 1971 года и который был показан в Брюсселе в июне 72-го.
Приглашенный преподавать на театральном отделении Института искусств средств массовой коммуникации (Инститю дез ар де диффюзьон, сокращенно ИАД) при Лувенском университете, Гатти решает приступить к практическим занятиям со студентами первых трех курсов, поставить с ними спектакль. Он приезжает в Лувен, а затем в Брюссель наездами и решает все сообща со студентами. В качестве будущего «театрального помещения» выбирается заброшенный завод Раскине в Брюсселе, в качестве отправного сюжетного момента — история жизни и борьбы известного лидера анархистов Дуррути в период гражданской войны в Испании. «Пережить заново борьбу Дуррути, рабочего-металлиста, этого человека, знавшего лишь завод и тюрьму, можно лишь на заводе или в тюрьме, перенести эту историю в театральный зал — значило бы убить все», — говорил Гатти, настаивая на выборе заводского помещения. И с этого момента завод одним своим существованием начал, по мнению Гатти, диктовать определенные средства выражения, манеру игры, оформление. О декорации в каком бы то ни было виде не могло быть и речи: на стенах были расклеены лишь листовки, которые позволяли студентам свободно обмениваться мнениями по разным вопросам и как бы воссоздавали атмосферу «майской улицы» (имеется в виду май 1968 года). Гатти убежден, что вот такая, дающая простор обмену «словами и мнениями» улица является альтернативой масс-медиа. Листовки выражали главным образом отношение студентов к спектаклю, который им предстояло создать. Один писал: «Я — буржуазный интеллектуал. Мне здесь хорошо. Люблю понимать». Другой: «Этот спектакль помогает мне продолжать Май 68-го и мою борьбу против существующего порядка вещей, а также говорить о вещах, которые существуют в этой системе и которые я хотел бы сжечь». Гатти много беседовал со своими студентами, тут же рождался замысел спектакля и каждый был волен выбрать себе тот персонаж, который казался ему ближе и понятнее всего. Постепенно само отношение участников постановки к ее содержанию, к «колонне Дуррути» стало занимать столь большое место в их работе, что Гатти решил дать спектаклю и второе название: «Зонтики колонны ИАД» (зонтики появились в связи с тем, что во время репетиций постоянно шел дождь, а крыша протекала).
Излюбленный прием Гатти — отображение не самого события, а отношения к нему — был доведен в этом спектакле до абсолюта. По его собственным словам, в процессе работы «историческая колонна» (то есть подразделение, которым командовал когда-то Дуррути. — Т. П.) отступила, чтобы дать место колонне мифической, и в конце концов на первый план выдвинулась колонна ИАД, студенты, участники постановки». История борьбы и смерти Дуррути превратилась в некий связующий стержень, на который нанизывались всякого рода «импровизации по поводу».
Из помещений бывших цехов создатели спектакля сделали переходящие один в другой «залы», по которым в процессе спектакля перемещались участники и зрители. У каждого «зала» было свое название, определявшее «угол зрения» на историю Дуррути: зал Сакко и Ванцетти, зал Розы Люксембург, зал одинокого герильеро, зал Астурийской коммуны... В представлении участвовали марионетки высотой три с половиной метра, изображавшие политических деятелей 30-х годов. Эти гигантские куклы изображали не только реальные исторические фигуры, но и инспирированные ими акции: так, например, куклы Гитлер, Муссолини и Франко проносились над головами присутствующих, как пикирующие на Мадрид бомбардировщики. После окончания спектакля зрителям предлагалось оценить достоинства кукол, приговорив худших к «повешению». Правда, по признанию создателей спектакля, так и осталось непонятно, чем определялась зрительская оценка: отношением к куклам или к изображаемым ими персонажам.
Своеобразным продолжением «Колонны Дуррути» явился показанный на Авиньонском фестивале 1974 года спектакль «Против чего воюет племя Карканы?» Спектакль был создан как отклик на казнь в Барселоне в марте 1974 года Сальвадора Пюих Антиша и прославлял образ «революционного борца», прототипами которого кроме Антиша были известные анархисты периода гражданской войны в Испании Буэнавентура Дуррути и Рамон Каркана. И снова факты реальных биографий имели минимальное значение и служили лишь отправным моментом для туманных рассуждений о революции и анархии. Пересказывать содержание спектаклей «Против чего воюет племя Карканы?» и «Колонна Дуррути» — занятие неблагодарное и бессмысленное, так как событийный ряд полностью отсутствует в традиционном его понимании и подменен изложением политической платформы, облеченным в причудливую форму зрелища, творимого на глазах у зрителей. Проповедь анархизма в произведениях Гатти после мая 1968 года весьма сумбурна и эклектична. И в одном и в другом спектакле очевидна попытка дать родословную анархизма и утвердить его «истинную революционность», якобы единственно противостоящую буржуазному миропорядку. При этом помимо фигур анархистов в ряд «истинных революционеров» произвольно отбираются и те, чья деятельность кажется Гатти по тем или иным причинам подлинно революционной. Гатти не пытается исторические личности, не имевшие отношения к анархизму, объявить задним числом анархистами; просто их самоотверженное служение делу революции соответствует его представлению о беззаветном борце за свободу и справедливость, которое для Гатти связано прежде всего с героями-анархистами. В финале «Карканы» участники спектакля скандировали: «Новый человек уже вышел на улицу. Он давно уже там. Его создает каждодневная борьба. А уж потом он получает имя Дуррути, Лумумбы или Пюих Антиша, но он всегда там».
Среди многочисленных откликов на выступление «племени Гатти» на Авиньонском фестивале 1974 года интересны прежде всего рецензии в коммунистической прессе, свидетельствующие о намерении серьезно разобраться в новом повороте творчества Гатти. «Против чего воюет племя Карканы? По ходу спектакля, — пишет в «Юманите-диманш» Франсуа Сальвен, — зрителям не раз хотелось задать этот вопрос автору. Из всех стрел, которые посылает блистательное, хотя и многословное перо Гатти и за полетом которых не всегда удается проследить, лишь немногие, по-моему, посланы в ту цель, которая служила мишенью для Карканы и продолжает сегодня оставаться ею для многих народов, — капитализм. Но мне показалось, что многие стрелы адресованы тем, кто боролся против фашизма в прошлом и борется в настоящем... И может быть, не случайно сегодняшняя туманная и запутанная идеологическая позиция Гатти рождает театр, где поток слов намного опережает ясность действий». Театральный обозреватель «Юманите» Жан-Пьер Леонардини, отдавая должное умению Гатти передать «умонастроения испанского анархизма», отмечает, что «спектакль сплетает противоречия, как паук свою паутину. Это типичный пример властвующего воображения, которое, как всегда, оказывается воображаемой властью. Перед нами — доведенное до крайней степени мышление образца 68 года». Конечно же, обыгрывая слова «воображение» и «власть», Леонардини имеет в виду лозунг «К власти приходит воображение!», столь популярный в майские дни 1968 года. И он бесспорно прав, связывая спектакль Гатти 1974 года с умонастроениями той поры.
Своеобразный трагизм, на мой взгляд, творчества Гатти в 70-е годы в том и состоит, что он продолжает мыслить политическими и эстетическими категориями времени, которое уже ушло в прошлое, уже изжило себя. Причем если для многих художников опыт искусства, связанного с потрясениями мая 1968 года, стал либо временным увлечением, либо одним из этапов их творчества, в преломленном свете отразившего эволюцию их взглядов на предназначение театрального искусства и на формы театрального зрелища, то для Гатти этот этап оказался пока своеобразным итогом его многолетних поисков, своего рода оптимальным вариантом будоражащего, активного театра. Спектакль «Против чего воюет племя Карканы?» подтвердил, что неистовый нонконформист Гатти в значительной степени канонизировал те находки и те приемы театрального представления, которые рождались в определенной атмосфере и в конкретных ситуациях, во многом обусловивших стремление ряда театральных деятелей вырваться из стен традиционных помещений на улицы, противопоставить себя искусству официальному и традиционному, взорвать изнутри привычные театральные формы. Вынужденные давать свой спектакль в одной из часовен Авиньона, Гатти и его «племя» не преминули оговориться во вступлении к спектаклю, а затем и к печатному изданию текста пьесы, что «если они иногда и играют в рамках «системы», то это не значит, что они отрекаются от своей маргинальности (во французском тексте это звучит как изгоняют из себя маргинальность), но, наоборот, отстаивают свое право на нее». Столь характерный для всякого оппозиционного искусства на Западе страх оказаться интегрированным в систему заставляет Гатти и его учеников не только все время декларировать свое «отщепенство», но и упорно держаться за «улицу» как символ «контрмасс-медиа». Как и в «Колонне Дуррути», в «Каркане» улица — и одно из главных «действующих лиц» и один из элементов композиции. Пьеса, а соответственно, и спектакль делятся не на акты или действия, а на «улицы». Так и обозначено: «первая улица», «третья улица» и т. д.
Это отсутствие реальных стен, кажется, вселяет в Гатти надежду, что он будет так меньше отгорожен от зрителей в самом широком смысле этого слова. И как ни парадоксально, такой опытный деятель театра, как Гатти, совершенно очевидно питает иллюзию, что отсутствие стен, улица даруют ему массового зрителя-единомышленника.
Между «Колонной Дуррути» и «Против чего воюет племя Карканы?» Гатти успел осуществить эксперимент, к которому он давно стремился и о котором он рассказал Арману Делькампу в связи с публикацией материалов о «Колонне Дуррути» в журнале «Травай театраль». «Мы стремимся, — сказал тогда Гатти, — взорвать привычное представление о спектакле и играть там, где нас захотят принять: на спортивных площадках, во дворах, в гаражах, в квартирах и бистро. ...Мы хотим создавать спектакли без зрителей». «Лозунг нашего племени — «За спектакль без зрителей!» — будет написано в предисловии к «Каркане». Эксперимент Гатти хронологически точно совпадает с проводившимися под тем же лозунгом поисками «театра без зрителя» Питера Брука и Ежи Гротовского. Но эксперименты Брука и особенно Гротовского носили в значительной мере лабораторный характер и если и не исчерпывались, то, во всяком случае, определялись развитием творческих способностей замкнутого круга людей. Гатти предложил иное понимание лозунга «без зрителей».
В основе эксперимента Гатти лежит своеобразное утопическое стремление создать «театр для всех», но в этом «все» прежде всего для него важна та, большая часть населения любой из западноевропейских стран, которая практически от театра отторгнута. В его понимании «спектакля без зрителей» это «без зрителей» носит не ограничительный и замкнутый характер, как у Гротовского, и не является промежуточной стадией, как у Брука, а, наоборот, необыкновенно расширяет границы театрального зрелища, практически стирает их. «Без зрителей» у Гатти означает, что все присутствующие являются участниками спектакля, его создателями. И здесь имеется в виду не спонтанность хеппенинга, а заранее оговоренное участие каждого в представлении, которое создается на тему, связанную с интересами и потребностями этих людей. В эксперименте Гатти речь идет не о самовыражении актеров-профессионалов, не о каком бы то ни было их диктате: они должны явиться своеобразным катализатором творческих возможностей, которые, по убеждению Гатти, заложены в каждом человеке.
И вот с сентября 1972-го по май 1973 года он проводит в бельгийской провинции Брабант, причем в валлонской, то есть наиболее индустриально и культурно отсталой ее части (в эту же провинцию , входят Брюссель и Лувен, университетский город, в котором как раз в начале 70-х годов развернулась ожесточенная борьба за разделение университета на французский и фламандский), эксперимент, который называется «Спектакль без зрителей», длившийся восемь месяцев и давший возможность встретиться всем человеческим возрастам Эксперимент Гатти — это свидетельство полной погруженности в интересы жителей Брабанта. Именно такова была задача Гатти и «колонны ИАД». После «Колонны Дуррути» рецензент «Монд» Мартин Эвен с грустью писал: «Никогда студенты ИАД не станут настоящими актерами, никогда они уже не смогут быть такими же, как раньше. Куда пойдут они завтра, эти дети респектабельных людей, превратившиеся в колонну ИАД?» Если понимать это «завтра» Мартина Эвена символически, то ответом на его риторический вопрос может служить многолетняя совместная работа Гатти и его бывших студентов, ставших его актерами. Если же говорить о «завтра», более приближенном к спектаклю «Колонна Дуррути», то они «пошли в народ», стремясь пробудить в нем дух творчества, помочь жителям Брабанта рассказать о том, чем они живут и что их волнует. «Спектакли, предложенные мужчинами и женщинами, детьми и стариками Брабанта, должны были соответствовать их потребностям и их возможностям, а не нашим», — писал Гатти в «Кайе-театр Лувен». И он с гордостью вспоминал, что он и его ученики убедились, что «даже самый удачный спектакль значит мало по сравнению с тем, как с их помощью школьник, крестьянин, домашняя хозяйка или тракторист с радостью обнаруживали в себе способности выразить свой внутренний мир, способность придумывать, фантазировать».
Гатти признавался, что этот эксперимент многое дал ему и его ученикам в создании «языка улицы», который они стремились противопоставить традиционному театральному языку. Бывшие студенты ИАД разделились на несколько групп: одни придумывали и делали вместе с жителями Брабанта оформление, частью которого почти обязательно были огромные куклы; другие писали вместе с «непрофессионалами» текст, так как при значительном удельном весе импровизации во всех этих постановках имелся написанный текст; третьи разучивали с ними роли. «Литературная часть» выпускала журнал «Амбиорикс», в котором проделала интересную социолингвистическую (если так можно сказать) работу, сравнив одни и те же слова, имеющие разное смысловое значение в Лувене — городе и Брабанте — сельской местности. Это «разделение труда» внутри труппы, лозунгом которой является коллективное творчество, закрепилось и в следующих постановках Гатти.
«Брабантский эксперимент» Гатти завершил его поиски оптимального приближения к зрителям, к их потребностям и интересам. В нем был учтен и окончившийся неудачей опыт «коллективного творчества» при создании «Тринадцати солнц улицы Сен-Блэз», когда автор превратился в драматурга, а «творчество» зрителей послужило для него лишь сырьем. В текстах спектаклей в Брабанте очевидна тематическая и языковая самобытность, получившая элементарную литературную обработку, простота и ясность жизненного материала, свидетельствующие о том, что на этот раз Гатти действительно удалось сдержать свою неуемную фантазию и исходить из потребностей и, главное, возможностей своих «соавторов». Публикуемые в «Театральных тетрадях» фотографии свидетельствуют, что при «оформлении» представлений и ученики Гатти и жители Брабанта проявили много фантазии и изобретательности, что, вероятно, очень оживляло и украшало эти спектакли.
В «брабантском эксперименте» ощутим и до конца реализованный Гатти замысел самодеятельного спектакля на материале повседневной жизни его участников, который он пытался осуществить в 1970 году вместе с рабочими Бельфора. В этом крупном по французским масштабам городе больше половины взрослого населения трудится на предприятиях электромеханической и электронной промышленности. Совершенно очевидно, что это — высококвалифицированные рабочие и техники, но и они, как и жители Брабанта, обречены на пребывание в «культурном гетто» с той лишь существенной разницей, что бельфорцы постоянно вступают в соприкосновение с mass media. В интервью, взятом у Гатти корреспондентом «Леттр франсэз» в связи с постановкой его «Журавля» в 1971 году, он рассказал, что причиной его встречи с рабочими Бельфора было их острое недовольство той «культурной продукцией», которую им постоянно приходится потреблять. И они обратились к Гатти с просьбой помочь им создать спектакль о самих себе. Гатти предложил им в качестве отправного момента тему преемственности борьбы рабочих за свои права, выбрав две временные вехи: 1936 год — мощное забастовочное движение, предшествовавшее созданию Народного фронта, и год 1968 — всеобщая забастовка трудящихся Франции, последовавшая за выступлениями студентов. Материалом спектакля должно было стать — и стало — отношение рабочих, Бельфора к этим событиям, отстоящим друг от друга на протяжении тридцати лет. Гатти не смог довести дело до конца, так как бывал во Франции лишь наездами, и передал начатую работу Жану Юрстелю, который без помощи актеров-профессионалов, опираясь лишь на силы рабочей самодеятельности, поставил спектакль, имевший большой успех не только в Бельфоре, но и в других промышленных городах страны. Работа Гатти и Юрстеля в Бельфоре лежала в русле тех поисков, которые предпринимал французский демократический театр в конце 60-х — начале 70-х годов, стремясь «внедрить» театральное искусство в широкие слои трудящихся.
Параллельно с поисками новых театральных форм и нового театрального языка Гатти пишет пьесу, которая представляет собой своеобразное скрещение художественных принципов его «домайской» драматургии с «послемайской» политической платформой. Пример тому — поставленный им в 1971 году в западногерманском городе Касселе спектакль к столетию со дня рождения Розы Люксембург. Спектакль состоит как бы из двенадцати самостоятельных пьес, связанных между собой композиционно сценами телепередачи о Розе Люксембург, которая якобы снимается на седьмом канале ТВ ФРГ и называется, как и вся пьеса Гатти, «Роза-коллектив», то есть «Коллективная Роза». Участники каждой из двенадцати мини-пьес так или иначе связаны с именем Розы и являются, по замыслу Гатти, каждый по-своему, продолжателями и преемниками ее «революционной страстности». Например, Клаус — студент, написавший на фронтоне университета в Кёльне «Роза» и исключенный за это из университета; Ильза — студентка, входящая в группу «Розы Люксембург» в Мюнхене. Есть тут и представитель «черных пантер» и жена латиноамериканского дипломата, украденная в качестве заложницы западногерманскими террористами, и т. д. и т. п. Короче говоря, Гатти связывает с именем Розы Люксембург все разновидности современных оппозиционных леворадикальных движений.
Связующие сцены на телевидении возникли не только из потребностей композиционной завершенности, но прежде всего, как это обычно и бывает у Гатти, как отклик на конкретное злободневное событие: убийцы Розы Люксембург и Карла Либкнехта подали в суд на создателей передачи о Розе на телевидении Штутгарта и выиграли процесс. О процессе ничего не говорится в пьесе Гатти, но именно сцены на телевидении воссоздают исторические события и образ реальной Розы Люксембург. В них участвуют приглашенные телевизионщиками соратники Розы по борьбе: ее секретарь Фрида Беккер и «спартаковец» Петер Рейнхард, вспоминающие о том, какой она была. Эти рассказы очевидцев проникнуты любовью и восхищением перед удивительной женщиной, отдавшей всю себя революционной борьбе. В студии висят плакаты и фотографии Берлина 1918-1919 годов, на которых в частности, легко прочесть призывы расправиться с Люксембург и Либкнехтом. Гатти не вводит в свою пьесу подлинные тексты, автором которых была Роза Люксембург, и нигде не позволяет себе вольных домыслов по поводу ее личной жизни. В его обращении к образу Розы Люксембург нет того привкуса искусственно подогреваемого интереса к биографиям деятелей пролетарского революционного движения XX века, который характерен для произведений многих деятелей крайне левого толка. На обложке отдельного издания «Розы-коллектив» приведены слова Гатти о том, что «Май 68-го словно прорвал что-то в нас, отбросив каждого к его истокам», и если можно и нужно оспаривать правомерность соотнесения сегодняшних гошистских акций с деятельностью Розы Люксембург, то нельзя не признать, что Гатти стремится обнаружить «свои истоки» в данном случае в подлинной революционной борьбе.
О том, что Гатти не отказался полностью от драматургического стиля, присущего ему до весны 1968 года, свидетельствует и спектакль, поставленный им в Париже в марте 1976 года по своей пьесе «Страсти по генералу Франко», написанной в 1965 году. Конечно же, в выборе пьесы для возвращения в театральную жизнь Парижа сказалось и желание Гатти поставить тот спектакль, после запрещения которого он покинул Францию. Но как раз вот этот элемент сенсационности и отсутствует не только в самом спектакле, но и в тексте прораммы к нему. Объясняется ли это соображениями цензуры, или Гатти не захотел ворошить былое, сказать трудно, но название пьесы звучит теперь так: «Страсти по генералу Франко (представленные самими эмигрантами)». Это добавление в скобках — не только вынесение в название содержательного момента (пьеса об испанских эмигрантах), но и дань признательности и тем живущим в Тулузе испанским политэмигрантам, которые живо обсуждали с Гатти текст его пьесы в 1965 году, и тем испанским рабочим, что приехали в ФРГ на заработки и приветствовали постановку «Страстей по генералу Франко» в Касселе в 1976 году, съезжаясь на спектакли со всей страны, привозя транспаранты «в поддержку» пьесы и устраивая после спектаклей политические дискуссии и импровизированные концерты.
«Страсти по генералу Франко» — произведение сложное и, как всегда у Гатти, многоплановое. Схематично можно выделить три основные линии: первая — судьба испанских эмигрантов, покинувших страну после прихода к власти Франко, живущих в Тулузе, Киеве, Гаване, Мехико или Франкфурте-на-Майне и мучительно переживающих разлуку с родиной, даже когда им оказывалось самое радушное гостеприимство. Трагична судьба женщины, муж которой погиб, сражаясь во франкистской «Голубой дивизии», а сын, став взрослым, не принял тот строй, за победу которого отдал жизнь отец, и эмигрировал из Испании. Вторая линия — картины прошлого и настоящего Испании, вызванные к жизни памятью или воображением эмигрантов. (В первоначальном варианте это были сновидения эмигрировавших испанцев.) Щемящую грусть вызывает сцена возвращения в Тулузу Долорес, ездившей ненадолго в Мадрид и рассказывающей своим друзьям Марио и Хуану о царящей в стране успокоенности и равнодушии. И они, с жадным нетерпением расспрашивавшие ее о том, что говорят в народе, чем занята молодежь, не виделась ли она с женами политзаключенных, приходят к выводу, что Долорес увидела лишь то, что хотела увидеть, не заметив... и дальше идет перечисление имен казненных и замученных в тюрьмах, сотен уволенных забастовщиков, закрытых из-за студенческих волнений университетов. Вне родины они продолжают жить ее страданиями, ее борьбой, в которой для них залог того, что когда-нибудь они обретут ее вновь.
И третья, сатирическая линия — гротескные сцены жизни испанской военной и церковной верхушки и прочих сильных мира сего. Главные действующие лица этих сцен — адмирал Карреро Бланко, жена Франко Кармен и его многочисленные министры, не названные поименно, но, вероятно, легко узнаваемые для тех, кто хорошо осведомлен о политической жизни Испании. Блистательно сделана сцена смотра Иисусов, проведенная Карреро Бланко по заказу каудильо. В жюри помимо адмирала и министра культов входят Христосы — баскский и кастильский, андалузский и наваррский и т. п. И все они живо заинтересованы в том, чтобы у испанцев был Христос на все случаи жизни. Организованная по принципу показа мод демонстрация «Христов» вызывает оживленные комментарии членов жюри, которые, не стесняясь друг друга, да и практически не замечая этого, раскрывают падение прогнившего режима, и в то же время пытаются всеми доступными им способами придать ему пристойный вид. На их суд представлены многочисленные варианты Христа: голубой Христос в мундире фаланги; Христос-победитель, увешанный драгоценностями (фальшивыми, так как все настоящие находятся у Кармен Франко) и орденами; Христос крестьянский («Самый дешевый Христос в Европе», — комментирует ведущий показа мод); Христос делового мира («Легко стирается, как пара нейлоновых чулок, а потому всегда чист и не изнашивается»). В ответ на вопрос наваррского Христа, кто же будет «помещен на крест», министр культов, не задумываясь, отвечает: «Каудильо. (Конечно же, символически)». А Карреро Бланко добавляет: «С тех пор как мы начали кампанию «Франко на алтари!» — он только и мечтает об этом». Сам Франко не появляется в спектакле, но о нем так много говорят (например, как он читает газеты с чистыми листами, приступая к изучению прессы лишь после того, как она пройдет через цензуру), что он как бы постоянно «освещает» или, лучше сказать, омрачает все своим присутствием. Не все сатирические сцены равно удались Гатти, чрезмерно затянута история махинаций, которые устраивает «первая дама Испании», чтобы заполучить знаменитое бриллиантовое колье умершей Эвы Перон. Но в целом эти сцены обладают разящей разоблачительной силой, представляя людей-марионеток, алчных и предельно циничных, которые словно сделаны из другого материала, чем персонажи остальных сцен.
При чтении «Страсти по генералу Франко» оставляют очень сильное впечатление, свидетельствуя о бесспорном таланте Гатти-драматурга. Несмотря на присущую всем его произведениям дробность, в этой пьесе ему удалось создать обобщенный образ гордого и непокоренного народа, сыны и дочери которого в эмиграции сумели сохранить верность идеалам, за которые они боролись. И этот образ, складывающийся из множества индивидуальных судеб, становится содержательным и композиционным стержнем пьесы.
В этой пьесе Гатти сошлись все ведущие мотивы его творчества. Она написана вдохновенно и взволнованно и позволяет вообразить себе столь же взволнованное и вдохновенное театральное представление. Но спектакль, поставленный самим Гатти весной 1976 года в Париже, таким не получился.
В связи с этой постановкой Жан-Пьер Леонардини писал в «Юманите» в марте 1976 года, что новый режиссерский вариант ничем не напоминает того замысла, который Гатти практически уже успел осуществить на сцене ТНП в 1969 году и не смог, по не зависящим от него обстоятельствам, показать зрителям.
Мне сравнивать не с чем, но совершенно очевидно, что увиденное мною создавалось Гатти в соответствии с теми принципами, которые он выработал в «послемайский» период. Он снял для спектакля огромный пустой склад, только что построенный фирмой «Кальберсон» на окраине Парижа и дававший безграничный простор его режиссерской фантазии. В центре склада была водружена многоярусная металлическая конструкция, которую, по мере необходимости, перекатывали в ту или иную сторону. Она служила «подмостками» для сцен, изображавших испанских правителей. В разных концах помещения стояли деревянные лестницы-стремянки с укрепленными наверху национальными флагами Франции, Кубы, Мексики, ФРГ, Украинской ССР. Вокруг этих стремянок группировались эмигранты. Над каждой стремянкой были прикреплены таблички с названиями авиамаршрутов: «Мадрид—Тулуза», «Мадрид—Франкфурт-на-Майне» и т. д. — это маршруты современной экономической эмиграции из Испании, и, по мере того как действие переносилось в ту или иную страну, участники этой сцены расставляли «свою стремянку». «Маршрут без маршрута» — это сама Испания.
Основное место действия — ничем не ограниченное пространство в центре склада. Актеры были одеты в черные костюмы типа тренировочных и изредка добавляли к ним какие-либо «опознавательные» детали: белые воротнички монашек, элементы кубинского карнавального костюма и т. п. Наиболее костюмированы были персонажи правящей испанской верхушки. В стороне сложены гигантские куклы и «доисторические животные», которые участники спектакля по ходу действия проносят над головами присутствующих. «Доисторические животные» участвуют в самой сумбурной и путаной сцене, в которой Гатти решил представить все силы антифашистского блока, участвовавшие в гражданской войне в Испании. Тут уж Гатти дал волю своей необузданной фантазии, вручив этим символическим птеродактилям, динозаврам и диплодокам знамена коммунистов, анархистов, троцкистов и республиканцев.
Зрители могут располагаться, где хотят, и свободно передвигаться по складу — так как им не отведено никаких специальных мест, они практически все время смешиваются с участниками представления, но сами ими не становятся. Никакого контакта, запланированного или спонтанного, между ними и актерами не возникает. Поражает трагическое несоответствие между эмоциональной напряженностью, иногда почти истеричностью участников спектакля и полнейшим равнодушием зрителей. Нет той ответной реакции, той заинтересованной взволнованности, на которую явно были рассчитаны усилия Гатти-постановщика. А ведь известно, что «зритель всегда прав». Тем более что на описываемом мною представлении присутствовали, совершенно очевидно, зрители посвященные, молодежь, студенты, часто слышалась испанская речь. Может быть, мое впечатление и субъективно, но мне показалось, что та форма, в которую Гатти «влил» спектакль, лишь усложняла для зрителей восприятие по-настоящему эмоционального, полного драматизма текста, не позволяла им сопереживать происходящему. Не берусь судить о том, сколь включенной в действие оказывалась публика на спектаклях «Колонны Дуррути» или «Против чего воюет племя Карканы?», но в постановке «Страстей по генералу Франко» она была выключена полностью.
Осталось ощущение, что Гатти цепляется за форму театрального представления, уже себя изжившую, так как ушло время, ее породившее. Что это своего рода тупик, который Гатти не осознается, от чего еще больше усиливается драматизм предпринимаемых им бесплодных попыток «законсервировать» эту форму, не потеряв притом ее жизнеспособности. Когда-то, еще в начале 60-х годов, Гатти писал, что для него театр — «это средство постоянного освобождения не только от предрассудков и несправедливости (что само собой разумеется), но и от конформизма, от некоторых разновидностей мышления, которые, застыв, превращаются в гроб». Сегодняшний Гатти верен определившему все его творчество пафосу борьбы с социальной несправедливостью, постоянному отклику на животрепещущие проблемы современности. Но та форма театрального представления, которую он пытается утвердить с начала 70-х годов, разрушая сам принцип неидентичности искусства и жизни, отказывая профессиональному театру в силе воздействия на зрителей, в способности разбудить их души и сердца, оказывается сегодня по своей сути не менее конформистской, чем тот буржуазный театр, против которого так страстно воевал Гатти в 60-е годы. Этот своего рода «конформизм наоборот» со всей очевидностью выявил утопичность той части выдвинутой Гатти программы, в которой он декларировал возможность и необходимость действенного вторжения театра в реальные проблемы современности. Ниспровергая и разрушая театральные формы, представлявшиеся ему сами по себе олицетворением сегрегативности современного буржуазного общества, он практически поставил свое творчество вне искусства театра вообще. И каждая его новая работа (а их отделяют друг от друга годы) служит новым подтверждением того, что Гатти продолжает верить в правильность избранного им в последнее десятилетие пути.
Так, например, на Авиньонском фестивале 1982 года он показал спектакль «Лабиринт», созданный им совместно с Ателье народного творчества, существующим в Тулузе. Перед этим он провел некоторое время в Северной Ирландии, где снимал фильм о детях католического гетто в Дерри. «Лабиринт» — это рассказ о десяти узниках блоков Эйч, печально знаменитой ольстерской тюрьмы, о людях, объявивших голодовку в борьбе за статус политических заключенных и погибших. В усыпанном гравием внутреннем дворе монастыря кармелитов, ставшем уже давно одной из сценических площадок Авиньонского фестиваля, Гатти выстроил огромный, обнесенный решеткой вольер, который должен был символизировать Ольстер. В центре проволочные кубы — тюремный квартал Эйч. Тут и там по вольеру были разбросаны чучела птиц, у исполнителей на спине были вышиты грубыми нитками имена персонажей или их функции — скажем, «следователе», «тюремщик». Перед каждым эпизодом зрителям показывался плакат, на котором было написано, в каком жанре эта сцена будет разыграна: «трагикомедия», «психологический театр», «агитпроп» и т. п. Текст одних сцен скандировался хором, другие могли быть пропеты как погребальный плач. Естественно, что для актеров-любителей оказалась не по силам возложенная Гатти на их плечи задача изображения различных видов театрального искусства, да и сам этот замысел кажется по меньшей мере странным в связи с обращением к подлинной трагедии, потрясшей весь мир. Правда, будь он талантливо осуществлен, он и не носил бы некоторого оттенка кощунственности, который возникает, на мой взгляд, неизбежно, когда положенные в основу того или иного произведения искусства реальные трагические события оказываются включенными в какую-то холодную головную конструкцию. Право же, если Гатти хотелось продемонстрировать своим зрителям различные приемы театрального представления, то можно было найти для этого более нейтральный сюжет. Не подозревая создателя «Лабиринта» в равнодушии, зная огромный гражданский темперамент Гатти, его по-своему уникальное «трагико-политическое» (как сказал один из критиков) видение мира, приходится, однако, констатировать, что в какой уже раз результат оказывается прямо противоположным тому, к чему Гатти стремится: зрители остаются равнодушными. Гатти не хочет, а вероятнее всего, и не может понять давнюю истину, что чувства и убеждения художника не могут быть сколь бы то ни было действенными, увлекать за собой других, если они не облечены в подлинно художественную форму, если они не обладают силой настоящего искусства.
Драматург и режиссер много сделал в 50-60-е годы для поддержания и укрепления веры в возможность взаимопроникновения поэтического и политического театра, утверждал своими лучшими спектаклями — такими, например, как «Воображаемая жизнь мусорщика Огюста Г.», или «Публичная песнь перед двумя электрическими стульями», или «В, как Вьетнам», — театр политический, социально активный благодаря не только выраженным в нем идеям, но и его подлинной художественности. […]
Л-ра: Театр. – 1984. – № 9. – С. 148-159.
Произведения
Критика