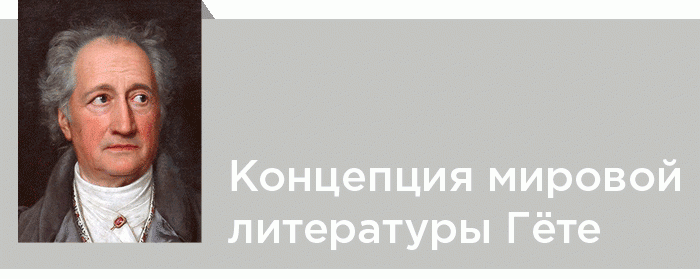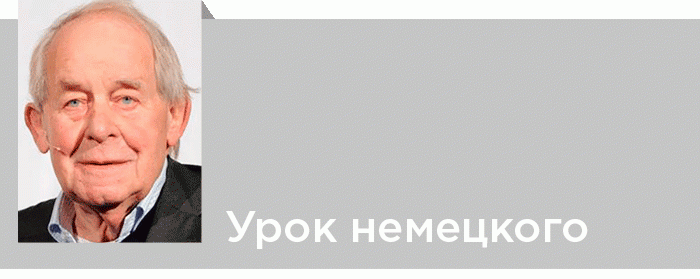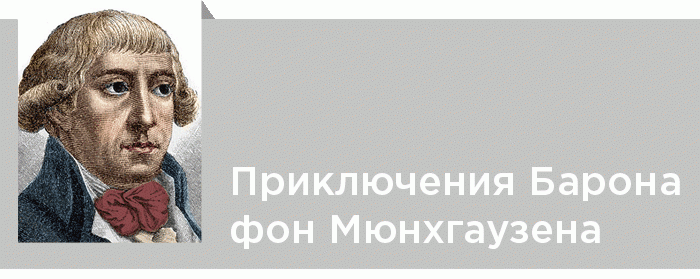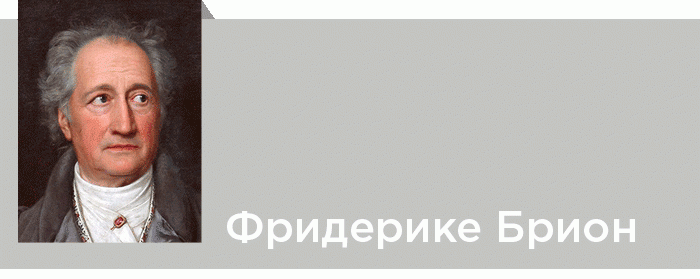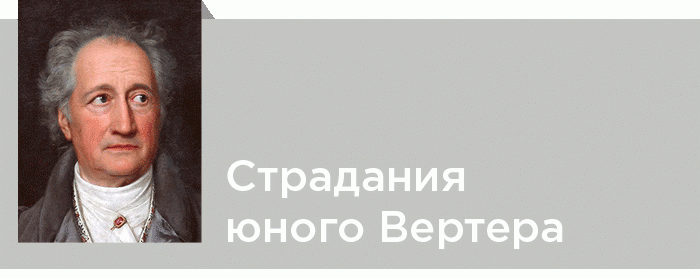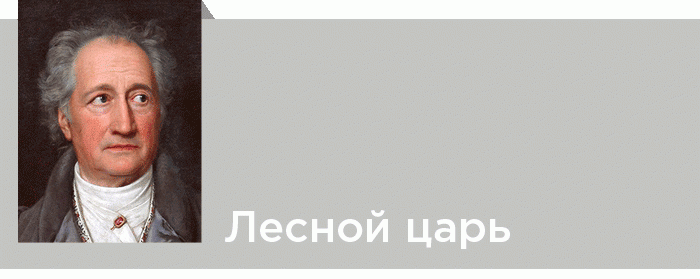Гёте: черты мировоззрения

В. С. Федоров
...Две души живут в моей груди, жаждущие отделиться одна от другой: Одна хватается за этот мир, обнимая его своими щупальцами, полная страстной к нему привязанности, другая с силой отрывается от земли к небесным полям, где пребывают божественные прообразы.
Гёте. Фауст
В беседе с Эккерманом 25 декабря
Если о Гёте как о писателе мы уже кое-что знаем, то о Гёте как о замечательном натуралисте и глубоком мыслителе, как о своеобразном философе и критике ортодоксального христианства наши знания весьма неудовлетворительны. Восполняя этот пробел, у нас уже появились статьи и даже целые книги, в том числе и о Гёте как философе. Автор одной из них, К. А. Свасьян, поставил своей основной задачей «писать о Гёте в духе Гёте», попытаться «проникнуть в живую атмосферу, ауру» гетевских текстов (Свасьян К. А. Философское мировоззрение Гёте. Ереван, 1983. С. 9). Однако это эмоциональное, своеобразное по стилю, во многом правильное и любопытное исследование, на наш взгляд, грешит сильным штейнереанским уклоном, а также тем значительным влиянием, которое оказала на К. А. Свасьяна книга Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» (М., 1917).
Авторы других работ (Г. Н. Волков, А. В. Гулыга и др.), в которых так или иначе рассматривается мировоззрение Гёте, подходят к пониманию писателя в основном с позиций традиционного философского инструментария. Но нам думается, что и такой подход не может быть признан достаточным: он с трудом приложим к личности Гёте, к открытой системе его поэтической философии, к тончайшей диалектике его духовного мира. Гёте как-то полушутливо сказал, что «для философии в собственном смысле» у него «не было органа» (Гете. Избр. соч. по естествознанию. М., Л., 1957. С. 377), и это в известной степени нужно признать справедливым. Несмотря на постоянное осмысление фактов природы и опыта и живой интерес к самым разнообразным мыслителям, он не оставил после себя систематического изложения своих философских воззрений. Однако не менее справедливыми нам кажутся и слова философа Д. Сантаяны, который, говоря о Гёте, тонко заметил, что «он был слишком мудр, чтобы стать философом в обычном смысле» (Цит. по: Вернадский В. И. Избр. труды по истории науки. М., 1981. С. 289).
Останавливаясь на некоторых чертах мировоззрения Гёте-художника, для которого искусство есть «истина в образе» (Goethes sämtliche Werke. In 40 В. Stuttgart, Tübingen, 1840. В. 16. S. 309), мы сосредоточим свое внимание прежде всего на рассмотрении проблем, связанных с гетевским пониманием религии, бессмертия, с критикой им ортодоксального христианства (именно эти проблемы оказались наиболее сложными и наименее разработанными в отечественной литературе), и лишь лаконично осветим общефилософские предпосылки его художественного и естественнонаучного творчества.
Ответы на эти вопросы мы попытаемся дать не столько в философско-понятийном, сколько в философско-психологическом и художественно-образном аспекте исследования, ибо считаем, что таким путем можно более адекватно приблизиться к мировосприятию Гёте, уточнить и определить реальную картину его философской ориентации.
Вот одна из наиболее ранних характеристик Гёте, данная его другом Кестнером: «У него много талантов. Он бесспорно гений и человек большого сердца... вполне верующим его назвать нельзя... Он считает себя учеником Руссо, но он не слепой его последователь. О высоких материях он говорит лишь с очень немногими, никому не мешая держаться привычных взглядов. В церковь и к причастию он не ходит, молится также редко; для этого, говорит он, я недостаточно лжец. Христианскую религию он высоко почитает, но не в той форме, как ее представляют себе наши богословы. Он верит в будущую жизнь и лучшее существование» (Goethes Gespräche. In 5 В. Leipzig, 1909-1911. В. 1. S. 22).
Путешествуя по Италии, Гёте с саркастической откровенностью признается, что самое ненавистное ему здесь «клопы, запах чесночный и крест» (Гёте. Собр. соч. В 10 т. М., 1975-1980. Т. 1. С. 209). В 19 лет молодой Гете, поддавшись влиянию Августы Штольберг, входит в общину гернгутеров и с интересом изучает религиозную литературу, а затем через некоторое время не без иронии замечает, что ему иногда начинает казаться, что между ним и богом установились «самые приятельские отношения». И добавляет: «Набравшись познаний, я даже уверил себя, что в некоторых отношениях он сильно поотстал от меня; у меня достало дерзости думать, что и мне есть за что его простить» (Цит. по: Людвиг Э. Гете. М., 1965. С. 24).
А вот что говорит Гёте о религии уже на склоне своего жизненного пути: «Он (бог. — В. Ф.) превращается у них, особенно у духовенства, которое ежедневно говорит о нем, в фразу, в одно голое имя, называя которое они ничего себе не представляют. Если бы они были проникнуты его величием, они онемели бы из почтения к нему и не смели бы его называть» (Цит. по: Eckermann I. Р. Op. cit. В. 3. S. 25). Думается, что приведенных высказываний вполне достаточно для того, чтобы понять, что Гёте не разделял ортодоксального христианского вероучения. Но почему? Что не устраивало его в этой многовековой религии человечества?
Уже в молодости своей (в Страсбургском дневнике) он писал следующее: «Трудно и рискованно рассуждать отдельно о боге и о природе, — это было бы все равно, что представлять себе душу отдельно от тела. Душу мы познаем лишь через посредство тела, а бога — лишь через созерцание природы. Поэтому мне кажется безрассудным обвинять в безрассудстве тех, которые путем высшего философского рассуждения объединяют бога с природою. Ведь все, что существует, имеет необходимое отношение к существу бога, так как бог есть единое сущее и все объемлет собою» (Цит. по: Холодковский Н. А. Комментарии к I части «Фауста» // Гёте. Фауст. Пб., М., 1922. С. 285). В автобиографическом произведении «Поэзия и правда» Гёте опять возвращается к этой сокровенной мысли. «Естественная религия, — пишет он, — не нуждается в вере. Понятие о том, что великое, все создавшее и всем управляющее существо скрывается за явлениями природы,
для того чтобы дать возможность себя в них уразуметь, доступно каждому» (Goethes sämtliche Werke. В. 20. S. 165).
Веймарский период Гёте совпал с новым оживлением его философского мышления, в котором в основных чертах определилось все его позднейшее миросозерцание. Этому немало способствовало знакомство Гёте с трудами Спинозы. «Тот великий ум, — писал поэт, — который сумел так решительно на меня подействовать и имел столь огромное влияние на весь мой образ мышления, был Спиноза... Мне казалось, что я приобрел верный, свободный взгляд и на чувственный, и на нравственный мир... Всеуравновешивающее, спокойное мировоззрение Спинозы составило самый прекрасный контраст с моим вечным волнением и беспокойством» (Ibid. В. 22. S. 219). «Этика» Спинозы, так благотворно подействовавшая на хаос нравственных представлений молодого Гёте, укрепила его в безграничной вере в незыблемую стройность законов природы и помогла, наконец, увидеть взаимосвязь человека с природой сквозь призму абсолютного бескорыстия, примирения и любви.
Основополагающая формула Спинозы «Deus sive natura» («бог или природа») становится краеугольным камнем и в мировоззрении Гёте. Отныне старый бог, сотворивший природу, в персональном ли качестве, в качестве ли некоей надмировой причины, для Гёте больше не существует, оказавшись имманентным самому миру. В представлении Гёте всеохватывающая и самотворящая пантеистическая природа, поднимаясь в своем развитии от низшей организации к высшей, вплоть до самого человека, являет собой единое, хотя и не монолитное целое. Пытаясь найти общее происхождение животных и человека, Гёте-естествоиспытатель научно доказывает наличие межчелюстной кости и у самого человека, создает позвоночную теорию черепа, разрабатывает учение о морфологическом единстве мира растений, довольно близко подходит к понятию трансформизма. Однако для Гёте природа никогда не была метафизической субстанцией, как для Спинозы, а представляла собой совокупность вполне конкретных физических и химических свойств. В природе, по его убеждению, господствует не завершенный мир механического детерминизма, а динамичное развитие с непредсказуемым будущим. В целом же философский пантеизм Спинозы, смело порывавший с многочисленными религиозными заблуждениями и предрассудками, отвечал чувствам и взглядам самого Гёте. Темпераментная натура писателя, «его энергия, все его духовные стремления толкали его к практической жизни», а религия проповедовала смиренное выжидание. Религиозный квиетизм также был одной из причин того, почему Гёте недолюбливал христианство. Ибо поэт был слишком деятелен, чтобы в бездействии ожидать благодати. Поэтому он решает выйти из братства гернгутеров и разрабатывает религию «для себя» (см.: Гёте. Собр. соч. В 10 т. Т. 3. С. 296, 538).
Для того чтобы лучше уяснить себе тот дух, которым были проникнуты пантеистические воззрения зрелого Гёте, позволим себе привести пример того, как конкретно рождалось его «высшее философское рассуждение», ибо и «божественное существо», как считал Гёте, он мог познавать «только в конкретных предметах» (Цит. по: Канаев И. И. Гёте как естествоиспытатель. Л., 1970. С. 156). В «Западно-восточном диване» мы находим своеобразный философско-поэтический манифест поэта «Блаженное томление»:
Скрыть от всех! Поднимут травлю!
Только мудрым тайну вверьте:
Все живое я прославлю,
Что стремится в пламень смерти!
В смутном сумраке любовном,
В час влечений, в час зачатья,
При свечи сиянье ровном
Стал разгадку различать я:
Ты — не пленник зла ночного!
И тебя томит желанье
Вознестись из мрака снова
К свету высшего слиянья!
И пока ты не поймешь:
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.
Пер. H. Н. Вильмонта
И действительно, чтобы такое тогда написать, нужна была смелость. И лучше «скрыть от всех», ибо «поднимут травлю»! Ханжеская мораль богословов не потерпит кощунственного отношения к их религиозным традициям. Уж лучше бы Гёте молчал, какая уж там святость соития, когда все христианство смотрит на это, как на нечто постыдное и мерзкое! Но поэту, этому «магистру эротики», как его назвал И. И. Мечников, нисколько не стыдно, наоборот, в этом постыдном, в этом «зле» он открывает для себя высшую истину (Ты — не пленник зла ночного! //И тебя томит желанье // Вознестись из мрака снова //К свету высшего слиянья!). Нет, не просто радость соития и торжество плоти провозглашает поэт, а нечто сверх этого, некий «высший свет» видится ему через соединение с женщиной. Ибо в этом «высшем слиянии» для него раскрывается тайна черного демона, неумолимая тайна смерти: «Смерть для жизни новой».
Итак, в общих чертах мы попытались показать мировоззренчески-религиозное кредо поэта, его «естественную религию», интимнейший уголок его духа.
Однако зададимся вопросом, к какому же идейному течению принадлежал Гёте, ведь представители разных философских школ выдвигают много весомых доводов в подтверждение того, что писатель был с ними. Ответ на этот вопрос, данный самим Гёте, мы можем найти в его письме к своему другу Шиллеру. «Мне всегда хочется думать, — делился своими мыслями Гёте, — что если одна сторона никогда не сможет извне добраться до духа, то другая, изнутри, едва ли достигнет тела, и поэтому будет всего правильнее оставаться в философском естественном состоянии и наилучшим образом пользоваться своим нераздельным существованием, покуда философы не договорятся, наконец, как можно воссоединить то, что они разделили» (Гёте. Собр. соч. В 13 т. М., Л., 1947. Т. 13. С. 172). Как видно из этого отрывка, Гёте не удовлетворяли ни современный ему материализм, ни идеализм; он не видел, чтобы в каком-либо из этих двух течений осуществилась его идея гармоничной связи духа и тела. Напомним, что наиболее близким к своим воззрениям он считал философский пантеизм Спинозы и философию Гегеля, хотя на Гегеля он досадовал за то, что тот включил в «философию христианскую религию, которой там совершенно нечего делать» (Цит. по: Eckermann I. Р. Ор. cit. В. 2. S. 38)3. «Я был приверженцем гилозоизма, — определял свою позицию Гёте, — и признавал всю святость и достоинство за глубинами этого учения» (Гёте. Собр. соч. В 10 т. Т. 9. С. 357).
Итоговой работой, трудом всей жизни поэта явился, конечно, «Фауст». Писавшийся на протяжении шестидесяти лет, он сосредоточил в себе, в сущности, почти все, что считал поэт в своей жизни главным и решающим. Именно этот труд писателя вызвал не только наибольшее количество интересных откликов, но и немало поспешных заключений. На материале «Фауста» мы и попытаемся раскрыть феномен Гёте.
Один из главных персонажей трагедии, Мефистофель, — лицо не совсем самостоятельное, это своеобразное изображение одной из сторон творческого начала души, ее сомневающейся и отрицающей (не отрицательной!) силы. Мефистофель будит совесть Фауста, толкает его на активные действия. Он — одна из двух творческих сил природы, ибо зло для Гёте — это не реальность, не изначальная сущность бытия, а только преграда на пути добра, недостаточность самого добра. И далеко не случайно поэтому Гёте обвинял Канта в том, что тот «запятнал свою философию признанием первородного зла» (Цит. по: Жирмунский В. М. Проблема «Фауста» // Гёте. Фауст. Пб., М., 1922. С. 37).
Двойственность была постоянной и характерной чертой личности Гёте. После тяжелого душевного кризиса, который писатель пережил в тридцать восемь лет, он навсегда отказывается от идеи «чистой гармонии» и приходит к новой формуле бытия. Этой формулой становится для него идея полярности. Полярность видится ему во всем и везде: черное и белое, плюс и минус, притяжение и отталкивание. Все это воспринимается им как «вдох и выдох мира, в котором мы живем, создаем и существуем» (Цит. по: Канаев И. И. Указ. соч. С. 336). Но ведь и в душе человека та же полярность: доброе и злое, низменное и высокое, разум и чувства. И вот Гёте не только констатирует «всемирное противоречие», но и начинает утверждать как благодатную необходимость наличие в душе человека двух борющихся начал. Вот почему на первый взгляд отрицательный персонаж Мефистофель, по остроумному замечанию И. С. Тургенева, не сам «великий сатана», а «мелкий бес из самых нечиновных» «творит добро, всему желая зла» (Цит. по: Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1981. С. 402). Да и бог, рассуждая о своем отношении к Мефистофелю, поручает ему вполне благородную задачу: «будить» Фауста, не наделяя, однако, беса сознанием его высокой миссии. Итак, душа одна, но она вечно двоится. Фауст и Мефистофель — это две грани единого целого, необходимо дополняющие друг друга.
Эволюция Фауста — это, конечно, эволюция самого писателя. Здесь в старинную легенду об ученом и маге докторе Фаусте вплетается жизнь самого Гёте. В первой сцене мы застаем Фауста за глубоким раздумьем над жизнью. Пора самонадеянности и гордыни осталась позади, Фауст подводит итоги прожитому. И хотя прожито не так уж и много, хотя сделано не так уж и мало, но Фауст чувствует себя глубоко неудовлетворенным. Он начинает понимать, что рассудочное знание, т. е. знание как совокупность отвлеченных понятий, есть лишь обеднение бесконечной жизненной полноты. За всем этим мы ясно улавливаем руссоистские симпатии самого Гёте, который однажды в осуждение Канта сказал: «Вместо того, чтобы рассматривать природу как нечто независимо от нас существующее, живое и неизменно животворящее на высших и низших ее ступенях, он подошел к ней со стороны малого числа эмпирических, привитых человеку понятий» (Цит. по: Goethes sämtliche Werke. В. 27. S. 36). Итак, Фауст ищет выхода в жизнь, потому что «теория суха, а древо жизни пышно зеленеет». Выдержит ли он экзамен на звание Человека, ибо ведь на пути столько преград и соблазнов?! Хочется особенно подчеркнуть, что Фауст сдает экзамен прежде всего на звание Человека, а уже потом — ученого и философа. На наш взгляд, неправомерно утверждение некоторых исследователей о религиозном пафосе жизни Фауста. В дальнейшем мы попытаемся показать, что пафосом его жизни было нечто другое. Ни в бесшабашном буйстве, ни в любви Фауст не находит удовлетворения. Еще будучи молодым, Гёте записывает: «Большую радость можно завоевать лишь в большом труде, и, вероятно, в этом кроется мое самое большое возражение против любви» (Цит. по: Людвиг Э. Указ. соч. С. 31). А не заняться ли Фаусту мистицизмом? Но нет, как и в «Годах учения Вильгельма Мейстера», и этот путь гётевского героя никак не устраивал. Вильгельм понял, что жить только для себя и в себе значит неминуемо обеднять самого себя и насильно подавлять в своей темпераментности личности ее могучий социальный инстинкт. Идея только личного совершенства теперь его не привлекала.
С беспощадной резкостью Гёте как-то высказал Эккерману: «Возня с идеей бессмертия — для знати и особливо для барышень, которым нечего делать. Деятельный же человек, стремящийся уже в этом мире чем-то стать, не думает о потустороннем, а делает полезное дело здесь, на земле» (Цит. по: Eckermann I. Р. 1. S. 93).
Итак, Фауст, как и Вильгельм, как и сам Гёте, отказывается от мистицизма, избирая путь совершенно другой — путь деятельного гуманизма. Французская революция, оставившая неизгладимый след в душе Гёте, заставила его с новой силой осознать призвание человека.
Работа над завершением «Фауста» у Гете не продвигалась: двадцать четыре года он не прикасался к рукописи; и все же стареющий восьмидесятилетний писатель решается, наконец, завершить свой труд. И вот на свет появляется самая спорная пятая глава второй части трагедии: конец жизни Фауста и его вознесение. И мы чувствуем, что место этой главы совершенно особое, ибо в ней как в волшебном зеркале таинственно выявляется и финал жизни самого Гёте.
Перенесемся в самое начало произведения и вспомним заклад, данный Фаустом Мефистофелю: «Когда воскликну я: «Мгновенье, // Прекрасно ты, продлись, постой!» // Тогда готовь мне цепь плененья, // Земля, разверзнись подо мной!» И вот Фауст уже ослепшим стариком произносит свое завещание, свой последний пламенный монолог: «Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной // Дитя и муж, и старец пусть ведет, // Чтоб я увидел в блеске силы дивной // Свободный край, свободный мой народ! // Тогда сказал бы я: мгновенье, // Прекрасно ты, продлись, постой! // И не смело б веков теченье // Следа, оставленного мной! // В предчувствии минуты дивной той // Я высший миг теперь вкушаю свой». Это были последние слова Фауста. Фауст умер. Но кому же теперь принадлежит его душа: Богу или Мефистофелю? — вот в чем вопрос. Согласно закладу, формально она принадлежит Мефистофелю, ибо роковое «Продлись, постой!» он все-таки произнес, но, согласно Духу Земли, она принадлежит ангелам, которые поют: «Кто жил, стремясь, трудясь весь век, // Достоин искупленья». Душа Фауста возносится ангелами в высшие миры. Необычайно резкий переход от последнего чисто земного Фауста в сферы ангельские не может не настораживать. Это место произведения является пробным камнем для определения той позиции, которую занимал сам Гёте.
Сторонники противоположных философских направлений по-разному интерпретируют эту сложнейшую сцену трагедии. Исследователи-идеалисты стараются всеми силами если не убедить в реальности этого вознесения, что сделать довольно трудно, то во всяком случае заглушить и обесценить в Фаусте могучий поток его земных, человеколюбивых стремлений. Вот почему немецкий литературовед Тюрк просто считает, что Фауст на старости лет впал в детство, только поэтому он умудрился так опошлиться и удовлетвориться политикой и целями сугубо земными. Недоумевал по поводу социальной программы «канализатора» Фауста и Константин Бальмонт, который писал: «Фауст, гордый Фауст, желавший обладать Вселенной, он, титан, считавший себя родным братом с Духом Земли, не понимает такой очевидной истины, что духовный диссонанс нельзя возместить материальным вознаграждением!» (Цит. по: Бальмонт К. Д. Фауст // Жизнь. 1898. Т. 7. 171-177). Подобная реакция многих критиков на конец знаменитой трагедии говорит о том, что ее авторы недостаточно хорошо знали настоящего Гёте, у которого в «Фаусте» ничего случайного не было, и финал этого произведения был так же закономерен, как и его пролог. Лучшим тому доказательством может служить смерть самого автора «Фауста», смерть великого Гёте. 20 марта
Не только жизнь этого человека, но и ее завершение, смерть, прошли под знаком «страстной привязанности» к земле, к ее людям, к ее грядущему. В последние минуты своей жизни он спрашивает не Библию и даже не своего любимого Спинозу, а книгу об Июльской революции. Его не очень волнует, что будет там, за смертью, он этого просто боится, как и всякий земной человек. Его беспокоит, что же будет здесь, на этой стороне бытия. Как хочется ему еще немножко пожить, чтобы это увидеть! После похорон Виланда уже престарелый Гёте в разговоре с Фальком сказал: «Момент смерти очень удачно называют моментом освобождения, ибо властительная монада освобождает своих бывших подданных от верной их службы... Но по природе своей эти подданные столь неистребимы, что даже в момент смерти не прекращают своей деятельности; напротив, в этот же самый миг они продолжают развивать ее дальше» (Цит. по: Falk I. Goethe aus nähern persönlichen Umgange dargestellt. Leipzig, 1832. S. 56-57).
Закончив «Фауста», писатель поделился трудностями, с которыми ему пришлось встретиться. «Согласитесь, что конец пьесы, где говорится о вознесении спасенной души, был очень трудно осуществим и что, имея дело с такими сверхчувственными, едва доступными нашему образу мыслей вещами, я легко мог бы заблудиться, если бы не придал своим поэтическим намерениям благодетельно ограничивающую форму и телесность посредством образов и представлений церковной религии». H. Н. Вильмонт, упоминая это высказывание Гёте, пытается свести акт вознесения души Фауста к литературному трюку. И ссылаясь на слова Гёте о его «поэтическом намерении», он добавляет, что «это слова просветителя и художника, а никак не церковника-христианина» (Цит. по: Вильмонт Н. Гёте. М., 1959. С. 312). Но до конца ли правильно такое утверждение?! Ведь слова Гёте о его «поэтическом намерении» относились только к одной из возможных форм вознесения, а отнюдь не к самому этому акту, в котором Гёте не сомневался никогда.
На вопрос Маргариты: «Ты в бога веришь ли?» — Фауст отвечает: «Кто исповедать может дерзновенно: //Я верую в него? // Кто с полным чувством убежденья // Не побоится утвержденья: //Не верую в него?... // Зови его как хочешь: // Любовь, блаженство, сердце, бог! // Нет имени ему! Все в чувстве! // А имя — только дым и звук, // Туман, который нам свет неба затемняет».
Вот, в сущности, и вся тайна религиозного опыта самого писателя. С одной стороны, он не может дерзновенно утверждать, что бог есть, ибо он до конца ему все-таки не раскрывается, а с другой — он не может и сказать, что бога нет, так как ему кажется, что вся жизнь и все его чувства свидетельствуют о присутствии божества. Путем глубокого размышления, путем «высшего философского рассуждения», как пишет сам Гёте, он приходит к тому, что «Бог есть единое Сущее и все объемлет собою». И как бы уточняя эту важную для него мысль и пытаясь найти ее место среди других известных концепций, Гёте афористически заявляет: «Как естествоиспытатели мы — пантеисты, как поэты — политеисты, как нравственные люди — монотеисты» (Цит. по: Канаев И. И. Указ. соч. С. 173). Поистине лучше и не скажешь о Гёте, как словами самого Гёте. С какой артистической легкостью он набрасывает на свою «естественную религию» философские префиксы «пан» — «поли» — «моно»! Как условны для него эти глубокомысленные «доспехи» религиозного догматизма! Если в детстве маленький Шиллер пытался подражать христианским священникам, то Гёте, будучи ребенком, восторженно молился на собственный «алтарь», воздвигнутый им из собранных минералов. Это и был его «пан»! Храм не нужен был для того, для кого сама природа уже была храмом. Как поэт, как художник, как тонкий знаток искусств Гёте не мог не восхищаться творениями природы — от узоров на гладкой поверхности каменных глыб до красоты человеческого лица. Это и было его «поли»! Как гуманист, как человек, всегда веривший «в победу благородного над злым, как личность с неистребимым этическим потенциалом, для которой лишь «совесть — светило нравственного дня», Гёте был «моно» (см.: Гёте. Собр. соч. В 10 т. Т. 1. С. 466).
«Естественная религия Гёте охватывала как самые общие, самые абстрактные человеческие понятия, так и самые конкретные, осязаемо-предметные детали материального мира. И говорит он не о теизме, а о монотеизме именно потому, что его представление о божественном никак не укладывалось ни в одну из традиционно понимаемых религий теизма. Да и сама его условно-триединая формула «пан» — «поли» — «моно» — это дань не столько евангелическому догмату о троице, сколько выраженному в нем устойчивому канону общественной этики. Бог как личность, действительно, был глубоко чужд его миропредставлению, но не представлению об обществе как разумном и нравственном институте. Вот почему, несмотря на резкую критику им христианства, от «поли», т. е. в данном случае христианства, несущего, с его точки зрения, высокий «отблеск возвышенного» (Цит. по: Eckermann I. Р. Op. cit. В. 3. S. 263), он так и не смог отказаться.
В течение всей своей жизни поэт никогда не переживал никаких религиозных кризисов, и понятие о божественном, выработанное в молодости, по сути дела, он пронес неизменным через всю жизнь. «Интеллектуальная любовь к богу» (слова Спинозы. — В. Ф.) на фоне признания абсолютной объективности и несотворимости внешнего мира, его детерминированности и адекватной познаваемости и давали повод материалистически настроенным исследователям как Спинозу, так и Гёте причислять к своему лагерю. В письме к анатому Зёммерингу от 28 августа
Однако конец трагедии более сложен, чем может показаться с первого взгляда. И прежде всего возникает вопрос: почему же все-таки слепнет Фауст, один из любимейших образов писателя, который, взятый сам по себе, представляет наиболее близкую модель личности самого Гёте? Чаще всего такой поворот пьесы объясняют лишь тем, что Гёте был величайшим реалистом и никому не хотел внушить, что грандиозное видение Фауста где-то на земле уже стало реальностью. Но нам кажется, что такое объяснение не является полным и требует довольно существенных дополнений.
Внимательному читателю «Фауста» не может не броситься в глаза та нарочитая заданность, с которой Гёте ослепляет своего героя. Ослепляет именно тогда, когда Фауст находится в зените своих творческих сил и грезит о своих великих преобразовательных планах. На наш взгляд, Гёте решал здесь по меньшей мере двойную задачу. С одной стороны, ему хотелось продемонстрировать «неистребимость» фаустовских стремлений, их неуклонное и динамичное нарастание (вспомните его разговор с Фальком после похорон Виланда), а с другой — подчеркнуть ту важную мысль, что Фауст обретает бессмертие не за результаты своей земной деятельности и не за свой преобразовательный проект, который к тому же на этот раз оказывается фикцией (ибо под глухой стук лопат ослепшему Фаусту кажется, что начали строить дамбу, в то время как в действительности это мефистофелевские лемуры рыли ему могилу), а за свой непрекращающийся жизненный труд сам по себе, за свою вечную работу рук и души, за свое неутомимое творческое стремление. «Если я до самой смерти неустанно трудился, — говорил Гёте, — природа должна указать мне теперь иную форму бытия, раз эта форма уже неспособна удержать мой дух в своих пределах» (Цит. по: Eckermann I. Р. Op. cit. В. 2. S. 39). Недаром в словах ангелов, возносящих «бессмертную часть» Фауста («Кто жил, стремясь, трудясь, весь век // Достоин искупленья»), Гёте видел «ключ к спасению Фауста» (Ibid. S. 240).
Но слепота Фауста имеет и другой, еще более скрытый и символический смысл и может быть объяснена не только на уровне личностном, но и на уровне философско-онтологическом, тесно связанном со сквозной фабулой всей пьесы, с решением спора-пари между богом и Мефистофелем. По существу, пользуясь языком поэтической философии, Гёте наглядно продемонстрировал в своей трагедии главнейший диалектический закон — закон единства и борьбы противоположностей, но не в плане равнозначного, а в плане живого, постоянно изменяющегося, асимметричного противоречия. Двойственность как «всемирное противоречие» являлась одним из центральных понятий в мировоззрении писателя. И поэтому не случайно между Фаустом и Мефистофелем идет беспрерывный спор и борьба. Однако Фауст и Мефистофель, по справедливому замечанию Бальмонта, — «не противники, полные заклятой вражды, а добрые товарищи», борьба между которыми была не братоубийственной, не безысходной, а творческой (Бальмонт К. Д. Указ. соч. С. 171-177). Гёте считал, что прекращение борьбы равносильно прекращению самой жизни. И естественно, что в самом главном своем произведении он не мог нарушить этого основополагающего принципа. Вот почему в споре между Фаустом и Мефистофелем победителя так и не оказывается, вернее, он есть, но это уже не олицетворение конкретного образа, а утверждение вечного принципа жизни, бессмертной души Фауста.
«Но было бы наивно представить себе, будто Гёте впрямую рисовал себе картину мироздания такой, какой она предстает в «Фаусте», — резонно замечает А. А. Аникст. — Это поэтически образное воплощение идей Гёте. Он не верил ни в ад, ни в рай. Они для него лишь художественные символы полярных элементов жизни» (Аникст А. А. Художественный универсализм Гёте // Гётевские чтения.
Создателю «Фауста», как и его главному герою, хотелось верить, что своею неутомимою жизнью и беспрестанным трудом он заслужит себе бессмертие. Не допуская мысль о разрыве живого и мертвого, Гёте никогда не разделял концепции натурфилософии, о чем уже неоднократно и справедливо писалось (см., например: Вернадский В. И. Избр. труды по истории науки. С. 246). Однако и он, стремясь раскрыть характер отдельного и подойти к решению проблемы как личного бессмертия, так и органического развития, не мог избежать своеобразной натурфилософии. Для каждой группы явлений Гёте устанавливает свой «первотип», под которым в конечном итоге он стал понимать лишь некий идеальный первообраз живых форм. Для мира растительного он вводит понятие «прарастение», для мира животного — «праживотное», а для высшего ряда органических форм, человека, — понятие «энтелехия», или «монада». Эти прафеномены и являлись, по мнению Гёте, исходными пунктами всех явлений природы. И все же он с горечью констатировал: «У моего духа нет крыльев, чтобы взлететь до первоначал» (Цит. по: Лихтенштадт В. О. Гёте. Пб., 1920. С. 39). И тем не менее, неистребимо веря в наличие первообразов, он писал: «Я не сомневаюсь в продолжении нашего существования. Но не все мы бессмертны в одинаковой мере, и тот, кто хочет проявлять себя и в грядущем как великая энтелехия, должен быть ею уже теперь» (Цит. по: Eckermann. I. Р. Op. cit. В. 2. S. 104).
Гёте избегал давать определение божеству, полагая, что «разум человека и разум божества — это две совершенно разные вещи» (Ibid. В. 1. S. 166). Гёте считал, что сущность божественного нам, людям земли, познать не дано, поэтому и рассуждения об этом крайне проблематичны, а подчас и вредны. Но он утешал себя тем, что «в царстве отца нашего много провинций», а значит, он сумеет «позаботиться о нас и на небесах» (Людвиг Э. Указ. соч. С. 487). Вот почему душе Фауста в ангельских сферах открывается Вечная Женственность, которую, однако, как и весь сверхчувственный мир, Гёте мог воспринимать только как реалист. «Блаженное томление», упомянутое нами в начале статьи, во многом помогает уяснить и саму Вечную Женственность — апофеоз знаменитого «Фауста».
Весь «Фауст», вся жизнь поэта со всеми своими противоречиями и сложнейшей религиозной символикой представляют собой единый, целостный организм. Центр души писателя, его сокровенное «Я» как бы купается, со всех сторон окруженное необъятным простором Вселенной. Своеобразное, первобытное ощущение слиянности и нераздельности себя и «природы-бога» у Гёте присутствовало всегда.
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что Гёте был одним из немногих мыслящих художников, кто сознательно отделял себя от всей умозрительно-идеалистической философии своего времени. Не объект и субъект, а природа и индивид — вот те понятия, которыми оперировал Гёте. Ценя в философии Канта критику познающего субъекта, он отказывался признать ее положение о непознаваемости явлений. Им не принимались ни кантовский трансцендентальный смысл идеи, ни антропоморфная метафизика Гегеля. Признание объективно существующей действительности, независимой от сознания человека, и убежденность в ее адекватной познаваемости было основой мировоззрения Гёте. В творчестве Гёте мы встречаем и целый ряд замечательных проблесков диалектики, прежде всего в его двух основополагающих принципах бытия: если принцип полярности объяснял самодвижение материи, то принцип восхождения — ее изменение во времени. Несмотря на свою религиозно-метафизическую форму, обновленный лейбницианско-гердеровским динамизмом и «органицизмом», спинозизм Гете, преодолевая современный ему механицизм, учил новому пониманию мира, блестяще предугадывая некоторые черты научного мировоззрения нашего времени.
Да, «естественная религия» у Гёте была, но она занимала лишь тонкую полоску в могучем радужном спектре его солнечной личности. Большая часть души поэта, средоточие его основных интересов всегда принадлежали земле: науке, искусству, любви, общественной деятельности. Именно здесь в полную меру проявились как титаническая энергия, так и ярчайшее дарование создателя «Фауста».
Достаточно познал я этот свет,
А в мир иной для нас дороги нет.
Слепец, кто гордо носится с мечтами,
Кто ищет равных нам за облаками!
Стань твердо здесь — и вкруг следи за всем:
Для мудрого и этот мир не нем.
Пер. Н. А. Холодковского
Слова Фауста как итог всей плодотворно-деятельной жизни самого Гёте как нельзя лучше говорят за себя, и в них мы находим мудрый завет, обращенный не только к далекому прошлому, но и к нашему настоящему, — завет о высоком смысле человеческой жизни, наполненной неиссякаемым творческим духом, постоянным трудом и борьбой.
Л-ра: Философские науки. – 1988. – № 7. – С. 59-69.
Произведения
Критика