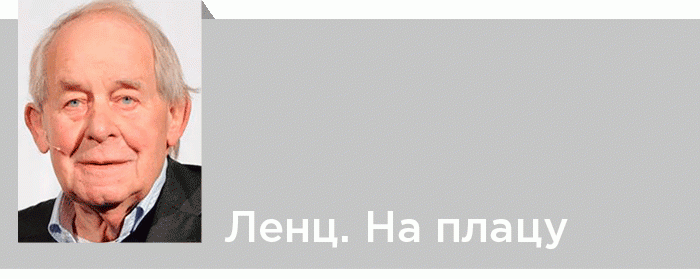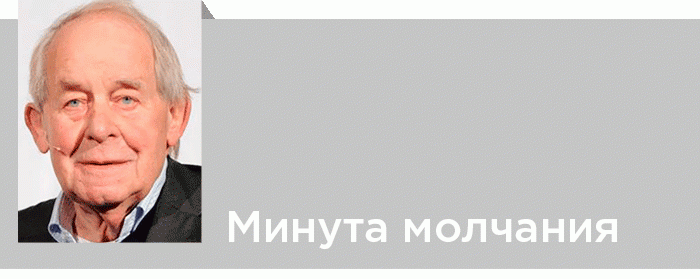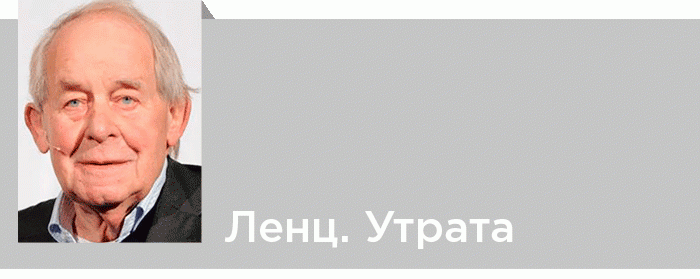Зигфрид Ленц. Урок немецкого
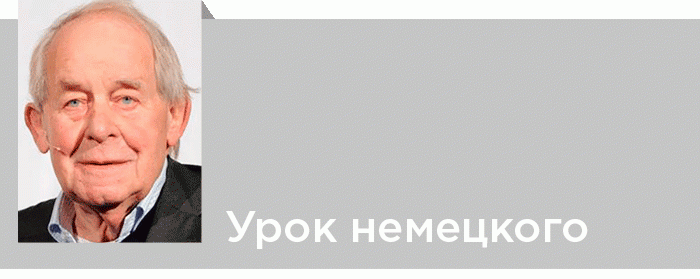
(Отрывок)
Глава I
Штрафной урок
Мне задали штрафной урок. Сам Йозвиг, наш любимый надзиратель, отвел меня в камеру, простучал оконную решетку и промассировал сенник, исследовал внутренность железного шкафчика и мой старый тайничок за зеркалом. Молча, все так же молча, словно затаив обиду, осмотрел он стол и щербатый от зарубок табурет, уделил внимание раковине, с пристрастием допросил подоконник, пытливо постучав по нему костяшками пальцев, проверил нейтральность печки, а затем все так же не спеша прощупал меня от плеч до колен, не прячу ли я что запретное в карманах. После чего он с немой укоризной положил мне на стол тетрадь с серым ярлычком «Сочинения на заданную тему Зигги Йепсена» и, даже не взглянув в мою сторону, повернул к двери с видом человека, обманутого в своих лучших чувствах и надеждах, так как от налагаемых на нас взысканий дольше всех и сильнее всех и с наибольшим эффектом страдает Йозвиг. Без слов, единственно той обстоятельностью, с какой он принялся закрывать дверь, дал он мне почувствовать всю меру своего огорчения: вяло потыкал ключом в замочную скважину, помедлил в нерешительности, до того как его повернуть, но, так и не завершив движения, позволил металлическому язычку отскочить и только потом, словно казня себя за минутную слабость, защелкнул замок на два крутых поворота. Ибо не кто иной, как Йозвиг, этот застенчивый человечек, посадил меня под арест для выполнения штрафного задания.
И вот я сижу битый день, а все не знаю, как приступить; стоит мне поглядеть в окно, и сквозь расплывчатое свое отражение я вижу Эльбу, но когда закрываю глаза, она все так же стремится вдаль, сплошь забитая отливающими синевой льдинами. Невольно провожаю взглядом буксирные суда, чьи заскорузлые от наледи бушприты, снабженные кранцем, вычерчивают на льду серые узоры, слежу, как мощная река подбрасывает берегу от своих щедрот избытки льда и со скрипом и скрежетом теснит их все выше до иссохших зарослей прошлогоднего камыша, да там и забывает. С неприязнью наблюдаю я ворон, которые, видимо, уговорились собраться у Штаде: от Веделя, Финкенвердера и Ганёфер-Занда слетаются они поодиночке и стаей кружат над нашим островом, то поднимаясь ввысь, то разворачиваясь ломаной линией, пока, доверясь попутному ветру, не умчатся в сторону Штаде. Внимание мое отвлекает прибрежный тальник, его узловатые прутья так славно одеты глазурью и припорошены сухим инеем, отвлекает белая проволочная ограда, мастерские, стоящие вдоль берега таблички с предупреждающими надписями; мерзлые комья земли на огородах, которые мы сами весной обрабатываем под наблюдением надзирателей, и даже тусклое солнце, что светит будто сквозь матовое стекло, отбрасывая на землю длинные клиновидные тени. А когда я уже готов взяться за перо, взгляд мой задерживается на рассохшемся, висящем на цепях понтонном причале, куда пристает идущий из Гамбурга приземистый, отсвечивающий медью баркас, который раз в неделю высаживает на берег чуть ли не тысячную толпу психологов-практикантов, обуреваемых болезненным интересом к нашему брату, трудновоспитуемой молодежи. Не отрываясь, слежу, как они шагают по вихляющей береговой дороге, держа курс на голубое здание дирекции, и после обычных приветствий, быть может сопровождаемых наказом соблюдать осторожность и как можно незаметнее вести свои наблюдения, вырываются на волю и словно бесцельно кружат по острову, норовя пристроиться к кому-нибудь из моих дружков, к тому же Пелле Кастнеру, Эдди Зиллусу или горячке Куртхену Никелю. Должно быть, мы потому вызываем у них такой интерес, что, судя по выкладкам нашей дирекции, каждый воспитанник, прошедший здесь исправительный курс, выходит на свободу с восьмидесятипроцентным вероятием, что он уже не оскользнется в жизни. Не засади меня Йозвиг на замок, они, должно быть, ухлестывали бы сейчас и за мной, разглядывая мой жизненный путь под своей многоученой лупой и пытаясь составить себе представление о моей особе.
Однако пора уже подумать о том, чтобы наверстать упущенный сдвоенный урок немецкого и выполнить задание, которого ждут от меня наш худой как жердь, трусоватый учитель Корбюн вкупе с директором Гимпелем. На соседнем Ганёфер-Занде, ниже по реке, где такой же интернат для подлежащих исправлению, подобное было бы невозможно: хоть оба острова схожи, как родные братья — их омывают те же мутные маслянистые воды, мимо них проходят те же корабли и те же чайки оспаривают их для себя, — однако на Ганёфер-Занде нет ни учителя Корбюна, ни уроков немецкого, ни сочинений на заданную тему, которые, смею вас уверить, вредно отзываются даже на здоровье наших ребят. Многие из нас предпочли бы исправляться на Ганёфер-Занде, где проходят и морские суда и где трескучее рвущееся пламя над нефтеперегонным заводом, встречая и провожая, подолгу приветствует их.
На братском острове мне ни в коем разе не закатили бы штрафа, там невозможно то, что происходит здесь: у нас достаточно появиться знакомой фигуре попахивающего помадой тощего человека, который в ответ на наше «С-добрым-утром-господин-доктор!», ни слова не говоря, лишь обведя класс пугливо-ироническим взглядом, принимается раздавать тетради для сочинения, чтобы у каждого душа ушла в пятки. Вот и сегодня Корбюн без малейшего предупреждения проследовал к доске, воздел отвратную руку, отчего манжет съехал у него на самый локоть, обнажив сухую желтушную, по меньшей мере столетнюю конечность, и с торжеством ханжи стал выводить на доске ханжески-сутулым почерком тему очередного сочинения: «Радости исполненного долга». Я испуганно оглянулся, но увидел только сгорбленные спины и растерянные лица; от парты к парте пробежал шепоток, зашаркали подошвы, над чернильницами повисли вздохи. Мой сосед Оле Плёц подвигал мясистыми губами, вполголоса прочитал тему и стал готовиться к своим корчам. Чарли Фридлендер — у него особый дар напускать на себя болезненную бледность, ударяющую в зелень, так что учителя безо всяких отпускают его с урока, — Чарли уже привел в действие свои дыхательные способности и хоть еще не переменился в лице, но искусной игрою сонной артерии вызвал крупные капли пота на лбу и верхней губе. Я вытащил карманное зеркальце, навел на окно и, поймав солнечный луч, отбросил его на доску. Корбюн испуганно повернулся, в два шага достиг спасительной кафедры и из этой зоны безопасности дал команду приступить. Сухая рука его снова взлетела вверх, а указующий перст с повелительной неподвижностью уставился на тему: «Радости исполненного долга». Во избежание вопросов он добавил:
— Каждый может писать что хочет, лишь бы речь шла о радостях, которые дает исполненный долг.
Я считаю свою штрафную — при полной изоляции и временной отмене посещений — сущей несправедливостью; ведь моя вина не в недостатке памяти или воображения; напротив, я приговорен к затворничеству единственно оттого, что, послушно стараясь отыскать такие радости, припомнил их слишком много, или во всяком случае, столько, что растерялся и так и не знал, с чего начать. А поскольку это были не какие-нибудь, а вполне однозначные радости, которые по приказу Корбюна нам следовало открыть, описать и всячески обсмаковать, то мне мог явиться единственно мой отец Йенс Оле Йепсен, его мундир, его служебный велосипед, его полевой бинокль и накидка, его плывущий навстречу неустанному западному ветру характерный силуэт на гребне дамбы. Под требовательным взглядом доктора Корбюна он встал передо мною, как живой. Ранней весной, но также и осенью, а равно и в пасмурные ветреные летние дни он, как всегда, выводил свой велосипед к узенькой, мощенной кирпичом дорожке и у таблички «Ругбюльский полицейский пост», приподняв заднее колесо, ставил педаль в удобное положение, двумя толчками с разбегу вскакивал в седло и, поначалу ерзая и вихляя под напором западного ветра, разрывавшего на части его накидку, проезжал немного в сторону Хузумского шоссе, ведущего к Гамбургу и в степь, сворачивал у торфяного пруда и уже при боковом ветре, мимо серых, точно кротовые кучи, рвов следовал к дамбе, миновал, как всегда, бескрылый ветряк и, соскочив за бревенчатым мостиком, втаскивал велосипед, ведя его наискось на высокую дамбу; выбравшись наверх, отец на фоне пустынного горизонта обретал неожиданную значительность, а там снова садился на велосипед и, маяча одиноким парусником в своей раздуваемой ветром, туго натянутой и готовой лопнуть накидке, плыл по гребню дамбы, направляясь в Блеекснварф, всегда и неизменно в Блеекенварф. Ни на минуту не забывал он полученного распоряжения. Когда ветер гнал по Шлезвиг-Голыптейискому небу корветы туч, отец мой был в пути. Цветущей ли весною, в дождливые ли дни, в пасмурные воскресенья, утрами и вечерами, как в мирное, так и в военное время садился он на велосипед и направлялся в тупичок своей миссии, что неизменно вела в Блеекенварф, от века и до века — аминь!
Эта картина, эта, как уже сказано, утомительная служебная поездка, в которую регулярно отправлялся постовой ругбюльской сельской полиции, самый северный немецкий полицейский постовой, сразу пришла мне на память, и в своем желании угодить Корбюну и для этого теснее вжиться в прошлое я, обмотав шею шарфом, примостился на багажнике служебного велосипеда, чтобы попросту отправиться с отцом в Блеекенварф, как делал не однажды, цепляясь онемевшими пальцами за его портупею, меж тем как металлические ребра багажника пребольно врезались мне в бедра, оставляя багровые следы. Итак, я увязался с отцом и теперь видел нас обоих плывущими по дамбе на фоне неизбежных вечерних облаков; ветер, беспрепятственно и настойчиво налетавший с отмели, кренил велосипед, и я слышал, как отец покряхтывает от усилий справиться с его порывами, но не брюзгливо и сердито, скорее для порядка и даже, как мне казалось, со скрытым удовлетворением. Мимо отмели и вдоль хмурого зимнего моря направлялись мы в Блеекенварф, знакомый мне, пожалуй, не меньше, чем полуразрушенный ветряк и наш дом: я видел перед собой на грязной насыпи господскую усадьбу, к ней вела аллея, по обе стороны обсаженная ольхой со стесанными ветром кронами и скособоченными на восток стволами, я видел, как открываю распашные ворота и пытливо оглядываю жилой дом, хлев, сарай и мастерскую, откуда мне обычно кивал Макс Людвиг Нансен, лукаво посматривая на меня и отечески грозя пальцем.
В ту пору ему запрещено было писать картины, и отец, ругбюлъский полицейский, получил распоряжение денно и нощно и во всякое время года наблюдать, чтобы запрет этот не нарушался; на обязанности отца лежало пресекать всякие даже самомалейшие попытки писать картины, да и вообще не допускать крамольных самоутверждений света, словом, всеми доступными ему полицейскими мерами обеспечить, чтобы в Блеекенварфе больше не писали картин. Мой отец и Макс Людвиг Нансен издавна знали друг друга, и поскольку, оба они родом из Глюзерупа, то каждый понимал, чего ему ждать от другого, а также что им предстоит в дальнейшем и чем грозит каждому противная сторона, если такое положение затянется.
Немногое так бережно сохранила мне память, как встречи отца с Максом Людвигом Нансеном; вот почему я так уверенно открыл тетрадь и отложил карманное зеркальце, чтобы описать поездки отца в Блеекенварф, хотя, конечно, не только поездки, но и все его подвохи и пакости в адрес художника, все как простые, так и замысловатые интриги и происки, какие рождала его мешкотная подозрительность, все его козни и каверзы — с тем чтобы, по желанию доктора Корбюна, присоединить сюда и радости, что достаются при исполнении долга. Однако это мне никак не удавалось. Все мои попытки терпели крах. Я то и дело начинал сызнова, посылая отца по дамбе то в накидке, то без накидки, при ветре и в штиль, по средам и субботам, — и все напрасно. Слишком много приплеталось сюда беспокойного, сложного, какое-то коловращение лиц и событий. Отец не успевал добраться до Блеекенварфа, как я уже терял его из виду: то у чаек поднимался переполох, то старый торфяной челн перевертывался вместе о грузом или над отмелью показывался парашют.
Главное же препятствие заключалось в том, что передо мной все время носился предприимчивый огонек, пожиравший памятные мне картины и события, он плавил их и сжигал, а то, что ускользало от пламени, съеживалось, обугливалось или исчезало за полыхающими язычками огня.
Тогда я взялся за дело с другого конца, я мысленно перенесся в Блеекенварф в надежде здесь обрести начало, и тут Макс Людвиг Нансен, поблескивая серыми с лукавинкой глазами, вызвался мне помочь просеять сквозь решето памяти осаждающие меня воспоминания: желая привлечь мое внимание, он вышел из мастерской и направился через палисадник к цинням, которые вы часто увидите на его картинах, а затем не спеша поднялся на дамбу, отчего по небу разлилась густая, сердитая желтизна, лишь кое-где подсвеченная темной синевой, и поднес к глазам бинокль. Однако стоило ему навести его на Ругбюль, как он тотчас же ринулся назад и скрылся в недрах дома. Это показалось мне неплохим началом, как вдруг открылось окно, и Дитте, жена художника, протянула мне, как обычно, кусок пирога с крошкой. И-тут на меня хлынуло со всех сторон: в Блеекенварфе пел хор школьников; я снова увидел огонек и услышал за дверью звуки, сопровождающие ночные вылазки отца; Ютта и Пост, чужие дети, вспугнули меня в камышах. Кто-то выбросил краски в лужу, и она запылала эффектным оранжевым глянцем. В Блеекенварф прибыл министр: отец стоял смирно, руки по швам. Огромные автомобили с иностранными номерными знаками въезжали в усадьбу художника; отец, стоя навытяжку, отдавал честь. Я грезил в полуразвалившейся мельнице, в своем тайнике, куда прятал картины. Отец вел на поводке огонек и, отстегнув ошейник, приказывал ему: «Ищи!»
Все безнадежно запутывалось, скрещивалось, смешивалось, пока меня не настиг грозный взгляд Корбюна; и тогда, собравшись с духом, я расчистил пересеченную рвами равнину моей памяти и стряхнул с нее все маловажное, чтобы сделать остальное ясным и обозримым — в первую очередь отца и радости исполненного долга. И все же добился: я построил под дамбой, словно на параде, всех своих героев и уже собрался пропустить их мимо, как вдруг мой сосед Оле Плёц с истошным криком грохнулся оземь в убедительных корчах. Крик этот оборвал цепь моих воспоминаний, начало было утеряно, я махнул на все рукой и, когда доктор Корбюн начал собирать сочинения, подал ему пустую тетрадь.
Юлиус Корбюн отказался верить повести о пережитых мною трудностях; мои тщетные поиски начала его не убедили, он представить себе не мог, чтобы якорь моей памяти ни за что не зацепился, что, громыхая и волочась по грунту, он только взбаламутил тину, а так как волнение не утихало, то нечего было и думать затралить в прошлом пригодное начало.
Итак, когда учитель немецкого недоуменно полистал мою тетрадь, он с нескрываемым отвращением, смешанным с заметным интересом, вызвал меня к доске и потребовал объяснений, однако не счел возможным ими удовлетвориться. Он усомнился в доброй воле моей памяти, а равно и воображения и не внял моим жалобам на трудности начала. Заявив на все мои доводы: «Это на тебя не похоже, Зигги Йепсен!», он несколько раз повторил, что пустые страницы в моей тетради считает вызовом себе лично! Чем внять моим объяснениям, он усмотрел в них своеволие, строптивость и так далее, и поскольку такие случаи подведомы директору, то после урока немецкого, который не принес мне ничего, кроме огорчений из-за сумасбродных, непокладистых и, во всяком случае, бессвязных моих воспоминаний, мы направились в голубое здание дирекции, где на втором этаже рядом с лестницей расположен кабинет директора.
Директор Гимпель, в своей неизменной спортивной куртке и брюках гольф, был окружен толпой человек в тридцать с лишним психологов, проявлявших поистине фанатический интерес к проблеме юношеской преступности. На письменном столе возвышался голубой кофейник и лежали засаленные листы нотной бумаги, частично исписанные торопливыми строчками, — дань сельской музе; эти короткие песенки говорили об Эльбе, о влажном морском ветре, о похилившемся, но цепком волоснеце и стремительном полете чаек, но также и о плещущих на ветру девичьих косынках и пронзительном воем сирены; воспринять эти песни от купели призван был наш местный хор.
Когда мы вошли в кабинет, психологи умолкли и стали прислушиваться к тому, что докладывал директору учитель Корбюн. Он докладывал, понизив голос, однако я уловил, что речь шла о сопротивлении и строптивости; а в доказательство он представил мою чистую тетрадь; директор, обменявшись с психологами озабоченным взглядом, подошел ко мне, свернул тетрадь в трубку и, похлопывая себя сперва по запястью, а потом по гольфам, потребовал объяснений. Я оглядел уставленные на меня с жадным любопытством лица, услышал за спиной похрустывание пальцев — это Корбюн выражал нетерпение, — и общее напряженное ожидание неприятно поразило меня. В широкое угловое окно, заставленное роялем, я видел Эльбу и над нею двух ворон, дерущихся на лету из-за чего-то мягкого, свисавшего вниз, быть может куска требухи, которую они поочередно выхватывали друг у друга, а заглотнув, сразу же извергали, пока она не упала на льдину, где и была подхвачена зоркой чайкой. Тут директор, положив руку мне на плечо, чуть ли не по-приятельски мне кивнул и предложил опять привести свои объяснения перед всей его оравой психологов, что я и не преминул сделать. Я рассказал о постигшей меня неудаче, о том, что главное по теме сразу же пришло мне в голову, но мысли мои смешались и мне так и не удалось найти ход, который привел бы меня к желанному началу. Я также рассказал о множестве видений, меня обступивших, о воцарившейся в моих воспоминаниях путанице и толчее, в которой не мог сыскать концов, а тем более добраться до начала. Я также не забыл упомянуть, что исполнение долга и по сю пору радует моего отца, и, чтобы воздать ему должное, я обязан обрисовать эти радости во всей их полноте, а не по произвольному выбору.
С удивлением и, пожалуй, даже с каким-то пониманием слушал меня директор, между тем как психологи-дипломанты перешептывались, они еще теснее нас окружили и, подталкивая друг друга, взволнованно поминали какой-то «Вартенбургов дефект восприятия», а кто даже и «психосензорное расстройство», показавшееся мне особенно омерзительным. Итак, на меня уже наклеили ярлык — обстоятельство, достаточно мне знакомое. Я наотрез отказался привести дополнительные объяснения в присутствии этих господ: жизнь на острове многому меня научила.
Директор раздумчиво снял руку с моего плеча и критически оглядел ее, словно желая убедиться, что она еще цела, после чего под бесцеремонным присмотром психологов отвернулся к окну, чтобы с минуту поглядеть на гамбургскую зиму, быть может ища у нее совета или подсказки, ибо, внезапно повернувшись ко мне и потупившись, он изрек свой приговор. Меня должно, заявил директор, запереть в моей камере, подвергнуть, как он выразился, «подобающей изоляции» — не в наказание, а чтобы я без помех осознал, что сочинения на заданную тему надо писать в обязательном порядке. Итак, мне давался шанс.
Директор пояснил, разумея мою сестру Хильке, что никакие посетители с воли не должны отвлекать меня от занятий, я также освобождался от работ в веничной мастерской и в местной библиотеке, да и вообще он обещал оградить меня от всяких помех и вторжений, за мной сохранялось пищевое довольствие, чтобы я мог полностью отдаться работе. Сроком, продолжал директор, он меня не ограничивает. От меня требуется лишь одно — прилежно исследовать радости, сопряженные с исполнением долга, Он не советовал торопиться. Пусть все помаленьку капает и нарастает, как мы это наблюдаем при образовании сталактитов и прочих тому подобных явлений природы; воспоминания в иных случаях оборачиваются коварной ловушкой, опасностью, которую даже время бессильно превозмочь. Тут психологи-дипломанты навострили уши, но директор едва ли не сочувственно пожал мне руку — рукопожатия его стихия — и, приказав позвать Йозвига, нашего любимого надзирателя, объявил ему свой приговор.
— Уединение, — добавил он напоследок, — вот что требуется Зигги в первую очередь — время и уединение; позаботьтесь же, чтобы он не испытывал в них недостатка.
С этими словами директор вручил Йозвигу мою пустую тетрадь и отпустил нас. Мы побрели по морозной площади — Йозвиг с таким укоризненно страдальческим видом, как будто мое штрафное задание он считал личным для себя оскорблением. Этот человек, которому дарованы только две радости — коллекция вышедших из обращения денежных купюр и выступления местного хора, — войдя со мной в камеру, угрюмо замкнулся в себе. Схватив его за руку, я попросил не очень на меня сердиться, на что он ответил: «Вспомни, что случилось с Филиппом Нефом», — как бы остерегая меня следовать примеру означенного Филиппа Нефа, одноглазого подростка, который, как и я, был посажен на замок, чтобы написать незадавшееся ему классное сочинение. Два дня и две ночи, как потом выяснилось, бедный малый терзался, не зная, как и приступить — заданная Корбюном тема, помнится, гласила: «Человек, который произвел на меня неизгладимое впечатление», — на третий же день, расправившись с надзирателем и придушив собаку директора, что произвело на нас особенно тягостное впечатление, он бросился к берегу и утонул при попытке переплыть Эльбу в сентябре. Единственное слово, которое Филипп Неф, этот трагический пример пагубной деятельности Корбюна, запечатлел в своей тетради, гласило: «Бородавка»; это можно понять в том смысле, что наибольшее впечатление произвел на него человек с мясистой бородавкой.
Это верно, что Филипп Неф был моим предшественником по камере, куда меня поместили по прибытии в колонию, и, когда Йозвиг напомнил мне о его судьбе, меня охватил незнакомый трепет, какое-то жгучее беспокойство; я прислонился к столу — и отпрянул в испуге, хотел сесть на привычное место — и побоялся; я медлил и дерзал, колебался и отваживался, хотел и не хотел и только частью сознания наблюдал, как Йозвиг обследует мое убежище, и не столько обследует, сколько готовит его для моей штрафной работы.
И вот я сижу битый день и, пожалуй, давно приступил бы, кабы мое внимание, словно нарочно, не отвлекали суда, плывущие по зимней реке; сначала их не видишь, а только слышишь: первым доносится слабое дребезжание машин, за ним следуют мерные толчки и шорох льда, трущегося о железные борта, а потом, по мере того как стукотня становится все явственнее и назойливее, они возникают на фоне свинцово-серого горизонта, выделяясь своими размытыми красками, влажные, вибрирующие, скорее явление воздушной, чем водной стихии. Я вынужден встречать и провожать их взглядом, пока они, пройдя по траверзу, не исчезнут вдали; их заскорузлые от наледи штевни, поручни и вентиляторы, их глазированные надстройки и заиндевелые шпангоуты оживляют застывший пейзаж. Они скользят, оставляя на льду широкий, неровный извилистый обвод, который, убегая к горизонту, постепенно сужается и зарастает. Что до света, то он на нижней Эльбе крайне ненадежен, переходя от свинцового к снежно-серому; фиолетовое то и дело меняет оттенки, красное обходится без своего дополнительного цвета, а небо по направлению к Гамбургу пестрит пятнами, словно от кровоподтеков.
Над противоположным берегом, откуда доносится приглушенный грохот молота, стоит узкая грязноватая полоска тумана, похожая на развернутый марлевый флюгер. Поближе, посреди реки, повисло облачко копоти, оставленное здесь с час назад небольшим ледоколом «Эмми Гуспел», который дробит и распахивает своим неугомонным носом синий лед; продолговатое облачко отказывается погрузиться в воду или раствориться в воздухе, да и многое нынче осталось незаконченным, оттого что мороз объявил забастовку, и даже дыхание застывает в воздухе клубочками пара. «Эмми Гуспел» уже дважды пропыхтела мимо, ей приходится поддерживать лед в движении и не допускать заторов, которые могут привести к деловому тромбозу.
На пустынном берегу покосились таблички с предостерегающими надписями, прибившийся лед расшатал столбы, полая вода довершила дело, а ветер их накренил, так что любителям водного спорта, к кому эти надписи обращены в первую очередь, приходится сильно нагнуть голову, чтобы прочесть, что причаливать, швартоваться и разбивать лагерь на этом берегу строго воспрещается. Однако к лету столбы будут снова укреплены, ведь спортсмены-водники — это как раз тот контингент, который особенно угрожает делу перевоспитания юных правонарушителей. Так считает директор, и такого же мнения, как нетрудно удостовериться, держится его пес.
И только в мастерских не замерла и не сникла жизнь: поскольку нас хотят ознакомить с преимуществами труда и даже открыли в труде некое воспитательное начало, тишине здесь объявлена война: жужжание динамо на электростанции, грохотание молотов в кузнице, яростный визг рубанков в столярной, перестук молотков и царапание скребков в веничной мастерской не прекращаются ни на минуту, и этот неумолчный шум заставляет забыть о зиме, а мне он напоминает о стоящей передо мной задаче. Пора начинать.
Опрятный старый стол испещрен потемневшими щербинами, исчерчен инициалами и памятными датами, говорящими о минутах озлобления, надежды, но также и строптивости. Передо мной открытая тетрадь, готовая запечатлеть мою штрафную работу. Мне больше нельзя уклоняться, пора начинать, пора повернуть ключ в замке и наконец отомкнуть несгораемый шкаф воспоминаний, чтобы достать оттуда то, что отвечает требованиям Корбюна — выявить радости исполненного долга, проследить их воздействие, которое упирается в меня самого, — и все это без помех, в порядке наказания, которое будет длиться, покуда я не докажу, что усвоил преподанный мне урок. Что ж, я готов. И так как мне предстоит продвигаться вперед, сперва надобно вернуться назад, произвести отбор и подыскать место действия — быть может, все же ругбюльский полицейский пост или даже всю Шлезвиг-Голыптейнскую равнину между Глюзерупом, Хузумским шоссе и дамбой, эту местность, которая пересечена для меня единственной дорогой — на Блеекенварф. И даже если придется растолкать дремлющее прошлое, неважно: пора начинать.
Итак, к делу.
Произведения
Критика