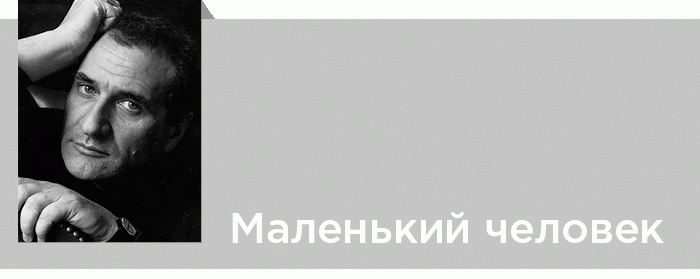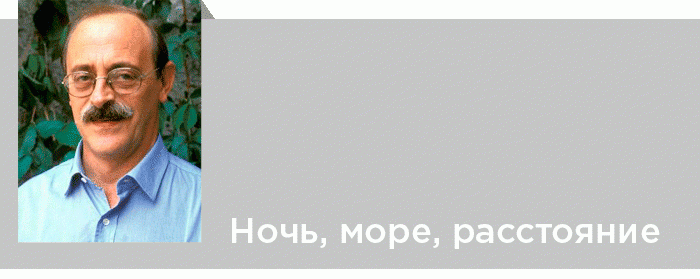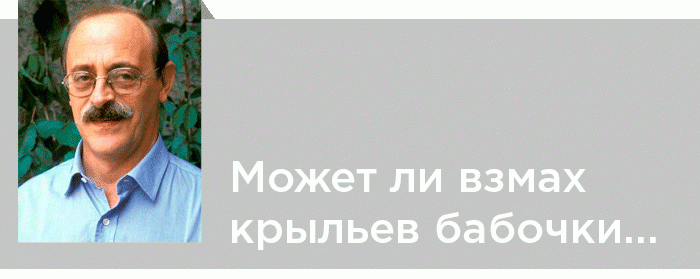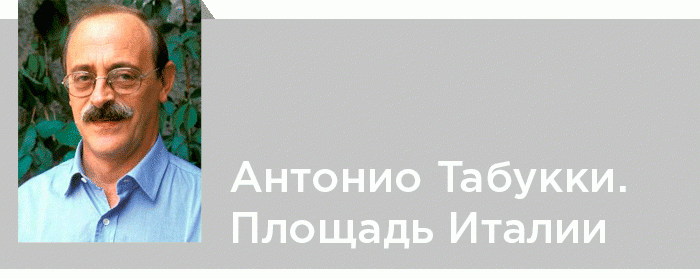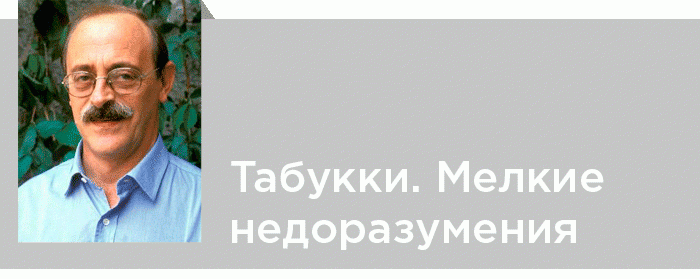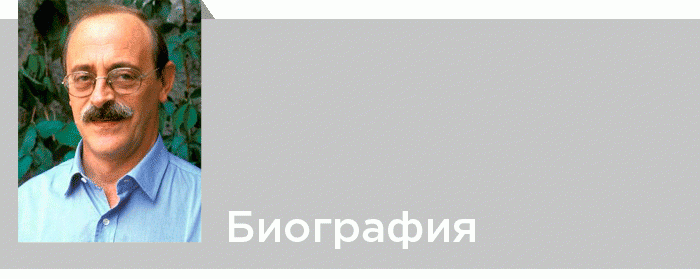Антонио Табукки. Утверждает Перейра

(Отрывок)
1
Перейра, утверждает Перейра, познакомился с ним в один прекрасный летний день. День выдался и вправду чудесный. Прогретый летним солнцем и продуваемый ветром, весь Лисабон сиял. Кажется, Перейра сидел в редакции в полной растерянности: вести новую рубрику в их газете поручили ему, но что давать на страницу «Культура» в ближайший номер, он представлял себе плохо, а главный редактор «Лисабона» уехал в отпуск. И он, Перейра, сидел и размышлял о смерти. В такой погожий летний день, когда легкий бриз с Атлантики ласково треплет макушки деревьев, светит солнце и город искрится, в буквальном смысле искрится у него под окном, и синева невиданная, утверждает Перейра, синева была такой чистоты и яркости, что даже больно было смотреть, — в такой вот день он задумался о смерти. Почему? Объяснить этого Перейра не мог. Может, потому, что когда он был совсем маленьким, у отца было похоронное бюро и называлось оно «Перейра Ла Долороза», может, потому, что несколько лет назад он потерял жену, умершую от туберкулеза, или потому, что сам он был тучным, с больным сердцем и высоким давлением и врач говорил, что если так будет продолжаться, то долго он не протянет, но факт тот, что Перейра, утверждает Перейра, стал думать о смерти.
Совершенно случайно он начал листать журнал, попавшийся под руку тоже по чистой случайности. Какой-то литературный журнальчик, в котором почему-то был и отдел философии. Журнал, скорее всего, авангардистский, точно он не берется сказать, но там было немало сотрудников-католиков. Перейра тоже был католиком или, по крайней мере, считал себя таковым на тот момент — правоверным католиком. Единственное, во что он не мог поверить, — это в воскресение плоти; в воскресение души, понятное дело, да. Безусловно. В том, что у него есть душа, он никогда не сомневался, но чтобы вся его плоть, эта мясистая толща, которая облекала его душу, это уж извините, нет, о каком возрождении здесь можно говорить и с какой, спрашивается, стати. Весь этот жир, неотвязно следующий за ним везде и всюду, этот пот и одышка, когда он поднимается по лестнице, почему они-то должны воскреснуть? Нет, лично ему, Перейре, в той, другой жизни все это было совершенно ни к чему, он не желал такой вечности и не хотел верить в воскресение плоти. От нечего делать он начал листать, утверждает он, журнал и наткнулся на статью, где было сказано: «Из дипломной работы, защищенной в прошлом месяце в Лисабонском университете, мы публикуем здесь рассуждение о смерти. Автор этой работы, Франсишку Монтейру Росси, окончил с отличием философский факультет, и предлагаемая статья представляет собой лишь фрагмент его большого труда, но мы надеемся, что в будущем он продолжит сотрудничество с нами».
Перейра, утверждает Перейра, поначалу просматривал эту статью, не имевшую заглавия, по диагонали, потом машинально вернулся на несколько страниц назад и сделал выписку. Почему он это сделал? На этот вопрос Перейра не может дать вразумительный ответ. Возможно, потому, что этот авангардистский католический журнал его раздражал, возможно, потому, что в тот день он вообще плевать хотел и на авангард, и на католицизм, при том что сам он был глубоковерующим человеком, а может, просто потому, что в тот момент, в разгар сияющего в Лисабоне лета, ему, Перейре, придавленному весом собственного размякшего тела, идея воскресения плоти казалась особенно отвратительной, но факт тот, что он начал переписывать статью, возможно исключительно ради того, чтобы выбросить потом журнал в корзину.
Перейра утверждает, что он не переписывал всю статью целиком, а сделал только одну выписку в несколько предложений, и это документальный факт: «Отношение, которое в самом общем виде определяет глубинный смысл нашего бытия, есть отношение жизни и смерти, и то обстоятельство, что наше существование имеет своим пределом смерть, является основополагающим для осознания ценности жизни». Потом он взял телефонную книгу и сказал себе: Росси — фамилия необычная и в справочнике наверняка будет только один Росси. Он, утверждает Перейра, набрал номер, который и сейчас хорошо помнит, и услышал, как на другом конце ответили «алло». Алло, сказал Перейра, говорит «Лисабон». Слушаю вас, ответил голос.
Понимаете, сказал, как он утверждает, Перейра, с вами говорят из газеты «Лисабон», она стала выходить всего несколько месяцев назад, не знаю, попадалась ли вам наша газета, мы вне политики, это независимая газета, но мы верим в бессмертие души, то есть, я хочу сказать, придерживаемся католической направленности, и я хотел бы поговорить с господином Монтейру Росси. Перейра утверждает, что на противоположном конце последовала короткая пауза, а потом голос ответил, что Монтейру Росси — это он, но что он не особенно-то думает о душе. Перейра, в свою очередь, тоже помолчал несколько секунд, потому что ему показалось странным, утверждает он, чтобы человек, чья подпись стояла под столь глубокими высказываниями о смерти, не думал о душе. И тогда он решил, что произошло какое-то недоразумение, и его мысли сразу же переключились на идею воскресения плоти, его навязчивую идею, и он сказал, что прочел статью Монтейру Росси о смерти, и еще сказал, что он, Перейра, тоже не верит в воскресение плоти, если он правильно понял то, что хотел сказать Монтейру Росси. В общем, Перейра, утверждает он, совсем запутался и начал злиться, злиться главным образом на себя, зачем нужно было звонить незнакомому человеку и тем более заводить с ним разговор о таких тонких, можно сказать сугубо личных, вопросах, как душа и воскресение плоти. Перейра, утверждает он, пожалел об этом звонке и уже собирался повесить трубку, но тут, сам не зная почему, пересилил себя и продолжил разговор, сказав, что его зовут Перейра, доктор Перейра, что он возглавляет отдел культуры в газете «Лисабон», которая, конечно, всего-навсего вечерняя газета, словом, не может пока что тягаться с другими столичными газетами, но он уверен, что рано или поздно и она обретет свое лицо; правда, до сих пор «Лисабон» печатал только светские новости, но уже принято решение, и начиная с субботнего номера в их газете будет страница культуры; редакция пока еще не укомплектована, и ему, Перейре, нужен внештатный сотрудник, который бы занимался одной определенной темой.
Перейра утверждает, что господин Монтейру Росси сразу оживился и затараторил, что готов сегодня же явиться в редакцию, он говорил также, что работа его интересует, любая работа, потому что после окончания университета, увы, приходится обеспечивать себя самому и работа ему очень нужна, но Перейра предусмотрительно отговорил его приходить в редакцию, сказав, что пока этого делать не стоит, а лучше встретиться где-нибудь в городе. Он сказал именно так, утверждает Перейра, потому что не хотел приглашать незнакомого человека в обшарпанную комнатушку на улице Родригу да Фонсека с хрипящим, как в приступе астмы, вентилятором и пропахшую кухонным чадом, поднимавшимся от консьержки, сущей мегеры, которая смотрела на всех с подозрением и только и делала, что стряпала. И потом, ему не хотелось, чтобы кто-то посторонний узнал, что всю редакцию отдела культуры в газете «Лисабон» составляет он один, Перейра, человек, обливающийся потом в этой конуре от жары и тесноты; короче, он предложил, утверждает Перейра, встретиться в городе, и тот, Монтейру Росси, согласился: хорошо, сегодня вечером в ресторане на Праса да Алегрия большой народный праздник, танцы, песни, гитары, меня пригласили спеть им что-нибудь неаполитанское, я, знаете ли, наполовину итальянец, хотя неаполитанского диалекта не знаю, но, так или иначе, хозяин заведения оставил для меня столик на улице, на нем будет карточка с моим именем, как вы смотрите на то, чтобы встретиться там? Перейра, утверждает Перейра, согласился, повесил трубку, вытер пот, и тут его осенила блестящая идея — открыть рубрику «Памятные даты» и, не откладывая, дать ее уже в субботний номер; и так вот, почти автоматически, может, потому, что в тот момент он думал об Италии, он вывел заголовок: «Два года назад скончался Луиджи Пиранделло». Затем, чуть ниже, сделал врезку: «Великий драматург показал Лисабону свою пьесу „Сон, а может быть, явь?“». Было двадцать пятое июля тысяча девятьсот тридцать восьмого года, и весь Лисабон сверкал в синеве, овеваемый легким бризом с Атлантики, утверждает Перейра.
2
Перейра утверждает, что после обеда погода переменилась. Атлантический бриз внезапно прекратился, с океана сплошной стеной пошел туман, и город затянуло плотной, пропотевшей от жара пеленой. Перед тем как выйти из комнаты, Перейра посмотрел на градусник, который он купил на собственные деньги и повесил у двери. Термометр показывал тридцать восемь градусов. Перейра выключил вентилятор, столкнулся на лестнице с консьержкой, которая сказала ему «до свиданья, доктор Перейра», вдохнул напоследок кухонного чада в подъезде и наконец оказался на улице. Перед дверьми, прямо напротив, начинался рынок и стояли два пикапа Республиканской национальной гвардии. Перейра знал, что рынок взбудоражен, потому что накануне, в Алентежу полиция застрелила возницу, доставлявшего продукты на местные рынки: он был социалистом. По этой причине и стояла у ворот рынка Республиканская национальная гвардия. Но «Лисабон», вернее, зам главного редактора, потому что Сам уехал на курорт в Бусаку и отдыхал там на водах, не решился дать сообщение об этом, да и кто бы рискнул напечатать, что возницу-социалиста расстреляли в Алентежу прямо в его телеге, так что дыни стали красными от крови? Никто. Потому что страна молчала, ей не оставалось ничего другого, как молчать, а люди тем временем гибли и полиция хозяйничала повсюду. Перейра опять вспотел, оттого что опять стал думать о смерти. И тогда он подумал: этот город пахнет смертью, вся Европа пропахла смертью. Он направился в кафе «Орхидея», оно находилось совсем рядом, сразу за еврейской мясной лавкой, и сел за столик, но не снаружи, а внутри, потому что там по крайней мере работали вентиляторы, а на улице некуда было деваться от жары. Заказав лимонад, он пошел в уборную, вымыл руки и ополоснул лицо, потом попросил принести сигару и сегодняшнюю вечернюю газету, и Мануэль, официант, принес ему именно «Лисабон». Перейра в тот день не успел посмотреть гранки и развернул «Лисабон» как свежую, нечитаную газету. На первой странице сообщалось: «Сегодня из Нью-Йорка отчалила самая роскошная яхта в мире». Перейра долго изучал заголовок, потом стал рассматривать фотографию. На снимке мужчины в соломенных шляпах и легких рубашках открывали бутылки шампанского. Перейра сильно вспотел, утверждает он, и снова стал думать о воскресении плоти. Как же так, подумал он, если я воскресну, то окажусь вместе с этими людьми в соломенных шляпах? Он ощутил вдруг себя — физически — очутившимся среди этих яхтсменов в вечности, в какой-то из ее гаваней с неуточненными координатами. И вечность представилась ему невыносимой дырой, непроглядным из-за клубящегося тумана пеклом, где говорили только по-английски, непрерывно восклицая окей, окей! Перейра попросил еще лимонаду. Он раздумывал, как лучше поступить: пойти прямо домой и принять холодную ванну или же сходить в церковь Благодарения к своему другу, священнику дону Антониу, у которого он исповедовался несколько лет назад, после смерти жены, и к которому ходил теперь раз в месяц. Он решил, что лучше пойдет к дону Антониу, вдруг от этого ему полегчает.
Так он и сделал. В тот раз, утверждает Перейра, он забыл расплатиться. Вернее, даже не подумал об этом, просто встал и ушел, небрежно оставив на столике газету и шляпу, шляпу, скорее всего, потому, что глупо было надевать ее в такую жару, или потому, что так уж он усгроен и всегда забывает где-нибудь свои вещи.
Дон Антониу выглядел совершенно разбитым, утверждает Перейра. Круги под глазами на пол-лица, и вообще такой вид, как будто он не спал всю ночь. Перейра спросил, что с ним, и дон Антониу ответил: Как? Ты что, не знаешь? В Алентежу убили человека, ехавшего на своей телеге, везде забастовки, и в городе, и в провинции, послушай, на каком свете ты живешь, ведь ты же работаешь в газете, сходил бы, что ли, поинтересовался.
Перейра утверждает, что ушел расстроенным из-за того, что разговора не получилось, и что его, по сути дела, выставили. На каком свете я живу? — спросил он самого себя. И в голову пришла диковатая мысль, что, может, он и вовсе не живет, а вроде бы уже умер. Точнее: он постоянно только и делает, что думает о смерти, рассуждает о воскресении плоти, в которое не верит, и о тому подобных глупостях, и на самом деле это никакая не жизнь, а только существование, притворившееся жизнью. Перейра, утверждает Перейра, вдруг почувствовал страшную слабость. Он еле доплелся до ближайшей трамвайной остановки и сел в трамвай, который довез его до Террейру ду Пасу. По дороге он смотрел в окно. Родной Лисабон медленно разворачивал перед ним свои улицы, он смотрел на бульвар Свободы с его великолепными дворцами, потом на Праса ду Россиу, выдержанную в английском стиле; на Террейру ду Пасу он вышел и пересел на другой трамвай, который шел на гору и делал кольцо у Замка. Он вышел, не доезжая Замка, у Собора, потому что жил рядом с этой остановкой, на Руа да Саудаде. Подъем к дому он одолел с трудом. Позвонил в дверь, потому что неохота было искать ключи от подъезда, и консьержка, она же его прислуга, открыла ему. Доктор Перейра, сказала консьержка, я сделала вам на ужин отбивную на решетке. Перейра сказал «спасибо», медленно поднялся по лестнице, достал из-под коврика ключ от квартиры, он всегда его там держал, и вошел к себе. В прихожей он остановился перед книжным шкафом, где стояла карточка жены. Этот снимок он сделал сам в тысяча девятьсот двадцать седьмом году, они ездили тогда в Мадрид, и массивный силуэт Эскориала виднелся на заднем плане. Прости, я немного задержался сегодня, сказал Перейра.
Перейра, утверждает Перейра, завел с некоторых пор привычку разговаривать с фотографическим портретом жены. Он рассказывал ему, где был, что делал, делился своими мыслями, просил совета. Я не знаю, на каком свете я живу, сказал он жене на фотографии. То же самое говорит и дон Антониу, но в том-то и беда, что я не в состоянии думать ни о чем другом, кроме смерти, такое впечатление, что весь мир уже умер или вот-вот умрет. Потом он подумал о детях, которых у них никогда не было. Сам он, конечно, очень хотел бы ребенка, но просить об этом хрупкую, болезненную женщину, замученную бессонницей и санаториями, не смел и теперь горько сожалел об этом. Потому что, если бы у него был сын, уже большой мальчик, с которым можно было бы поговорить, сидя за одним столом, ему не пришлось бы разговаривать с фотографией, напоминающей о той давней поездке, от которой в памяти не осталось почти ничего. Ну да ладно, произнес он фразу, ставшую заключительной формулой его разговоров с женой. Потом он пошел на кухню, сел за стол и снял крышку со сковородки, на которой лежала приготовленная ему на ужин еда. Мясо давно остыло, но разогревать его было лень. Он всегда ел то, что ему было оставлено, не грея. Быстро сжевав кусок мяса, он пошел в ванную, вымыл подмышки, надел другую рубашку, повязал черный галстук и слегка побрызгал себя испанским одеколоном, который еще оставался во флаконе, купленном в тысяча девятьсот двадцать седьмом году в Мадриде. Потом надел серый пиджак и вышел, чтобы идти на Праса да Алегрия, потому как было уже девять часов вечера, утверждает Перейра.
3
Перейра утверждает, что город в тот вечер казался оккупированным полицией. Она была всюду. До Террейру ду Пасу он доехал на такси; там под портиками стояли пикапы с карабинерами. Видимо, боялись манифестаций или просто скопления людей на площади и потому заранее заняли все стратегические точки в городе. Он охотно прошелся бы пешком, тем более что кардиолог велел больше двигаться, но идти мимо хмурых людей в военной форме было страшновато, и потому он сел в трамвай, который ходил по улице душ Фанкейруш и довозил его до площади Фигуейра, на площади вышел, утверждает он, там тоже была полиция. Ему предстояло пройти вдоль кордона из полицейских отрядов, и от этого становилось тоже не по себе. На ходу он услышал, как офицер говорил солдатам: помните, ребята, враг не дремлет, так что глядите в оба.
Перейра огляделся кругом, как будто наставления офицера относились к нему, но по первому впечатлению никакой необходимости глядеть в оба на самом деле не было. На бульваре Свободы все было спокойно, в киоске торговали мороженым, и за столиками сидели, отдыхая, люди. Он тоже спокойно пошел по центральной аллее, как вдруг послышались, утверждает он, звуки музыки. Нежные, грустные переборы коимбрской гитары, и это сопряжение музыки и полиции показалось ему невероятным. Он решил, что, должно быть, играют на Праса да Алегрия, и был прав, потому что, по мере того как он все ближе и ближе подходил к площади, музыка становилась все громче и громче.
Площадь, утверждает Перейра, ничем не напоминала площадь в осажденном городе, он не увидел там полиции, а только ночной патруль; стражи порядка, похоже пьяные, мирно дремали на лавочке. Гирлянды из бумажных флажков и разноцветных лампочек, желтых и зеленых, протянутых от окна к окну, украшали площадь. На улице стояли редкие столики, и несколько пар танцевало. Потом он заметил огромный транспарант, на полотнище, натянутом между деревьями, крупными буквами было написано: «Слава Франсиско Франко!» и ниже, чуть помельче: «Слава португальским воинам в Испании!»
Перейра, утверждает Перейра, только тогда сообразил, что попал на салазаровский праздник, чем и объяснялось отсутствие полиции здесь. И лишь потом обратил внимание, что на многих были зеленые рубашки и шейные платки. Он остановился как вкопанный и моментально подумал о нескольких вещах сразу. Подумал, что, наверное, Монтейру Росси один из этих, подумал о вознице из Алентежу, что залил кровью свои дыни, подумал, что сказал бы дон Антониу, если бы увидел его в таком месте. Подумал и опустился на лавочку, где дремали ночные стражи, занятый своими мыслями. Правильнее было бы сказать, что мысли его занимала музыка, ибо музыка, невзирая ни на что, ему нравилась. Играли два старичка, один на скрипочке, другой на гитаре, они играли надрывные мелодии Коимбры времен его молодости, когда он был студентом Коимбрского университета и думал о жизни как о светлом и безоблачном завтра. В ту пору он тоже играл на скрипке, выступая на студенческих праздниках, был легким, стройным и умел нравиться девушкам. Многие факультетские красавицы сходили по нему с ума. Но ему-то нравилась одна худенькая и бледная девчушка, которая писала стихи и часто жаловалась на головные боли. Он вспомнил и многое другое из своей жизни, но воспроизводить эти мысли Перейра не собирается, потому что, утверждает он, это касается его, и только его, и никакого отношения ни к тому вечеру, ни к тому празднику, на котором он, к своему несчастью, оказался, не имеет. Потом Перейра, утверждает Перейра, увидел, как один молодой человек, высокий и стройный, в светлой рубашке, поднялся из-за стола, подошел к музыкантам и встал между ними. Ни с того ни с сего у него вдруг защемило сердце, возможно, оттого, что ему показалось, что он узнал себя в этом молодом человеке, встретился с самим собой тех студенческих лет в Коимбре, потому что в чем-то они были похожи, нет, не чертами лица, но манерой держаться, прической, у того тоже падала прядь волос на лоб. Молодой человек запел итальянскую песню «О со'ле мио», Перейра не понимал слов, но песня была красивой, чистой и жизнерадостной, он понимал только «солнце мое» и ничего больше, но пока тот молодой человек пел, снова поднялся легкий атлантический бриз, потянуло вечерней прохладой, и все ему показалось замечательным — и прожитая им жизнь, распространяться о которой ему совсем не хочется, и город Лисабон, и небесный свод, виднеющийся поверх разноцветных фонариков, и вдруг на него напала жуткая тоска, причину которой, он, Перейра, раскрывать не собирается. Так или иначе, он догадался, что юноша, который пел песню, и был тем человеком, с которым он разговаривал днем по телефону, поэтому, когда тот кончил петь, Перейра встал со скамейки, потому что любопытство взяло верх над свойственной ему осмотрительностью, направился к столику и, обращаясь к молодому человеку, спросил: Вы, я полагаю, господин Монтейру Росси? Монтейру Росси хотел привстать, задел за край стола, опрокинул стоявший перед ним стакан и залил пивом свои роскошные белые брюки. Прошу прощенья, пробормотал Перейра. Ну что вы, это я такой неловкий, возразил молодой человек, со мной это происходит постоянно. А вы, я полагаю, доктор Перейра из «Лисабона». Прошу вас, присаживайтесь. И протянул ему руку.
Перейра, утверждает Перейра, сел за столик, продолжая испытывать чувство неловкости. Про себя же подумал, что оказался не на своем месте, что глупо было встречаться с неизвестным ему человеком на этом празднестве националистов и что дон Антониу не похвалил бы его за такое поведение, и еще, что ему захотелось поскорее вернуться домой, поговорить с портретом жены и попросить у нее прощения. Перебирая в голове эти мысли, он вдруг отважился и спросил напрямик: Это что, праздник салазаровской молодежи, вы состоите в Союзе молодых салазаровцев, да? Монтейру Росси откинул прядь волос, падавшую ему на лоб, и ответил: Я окончил факультет философии и литературы, и какое дело «Лисабону» до всего остального, не понимаю? Большое дело, утверждает, что возразил на это, Перейра, потому что у нас свободная и независимая газета и мы не хотим встревать в политику.
В это время двое старых музыкантов заиграли снова, извлекая из печальных струн своих инструментов франкистскую песенку. Перейра, несмотря на внутреннюю скованность, понял в тот момент, что уже вступил в игру и обязан продолжать. И как это ни странно, но ему стало ясно, что свою игру он сыграет, что карты легли на одну руку, потому что он — доктор Перейра из газеты «Лисабон», а молодой человек, сидящий напротив, смотрит ему в рот. И тогда он сказал так: Я прочел вашу статью о смерти, и мне она показалась небезынтересной. Я писал диплом о смерти, ответил Монтейру Росси, но вам-то могу признаться, что та овчинка не совсем моей выделки и отрывок, который напечатал журнал, говорю вам как на духу, честно списан, частично у Фейербаха, частично у одного французского философа-спиритуалиста, но даже мой руководитель ничего не заметил, профессора, знаете ли, гораздо менее образованные люди, чем принято думать. Перейра утверждает, что тщательно обдумал вопрос, который весь вечер собирался задать и наконец решился, но прежде подозвал официанта в зеленой рубашке, который обслуживал их столик, и сделал заказ. Вы меня извините, сказал он Монтейру Росси, но я не пью ничего спиртного, только лимонад, и взял себе лимонаду. Потягивая лимонад, он, перейдя вдруг на шепот, как будто кто-то мог услышать и осудить его, спросил: Простите, но я хотел вас спросить вот о чем: вы сами часто думаете о смерти?
Монтейру Росси широко улыбнулся, и Перейра, утверждает Перейра, вконец смутился. Ну что вы, доктор Перейра, воскликнул Монтейру Росси громко, я думаю только о жизни! И уже не так громко продолжал: Послушайте, доктор Перейра, смертью я сыт по горло, два года назад я похоронил мать, она была португалкой, школьной учительницей, умерла в одночасье от аневризмы головного мозга, мудреное слово, чтобы сказать, что у человека лопается в голове сосуд, в общем, умерла от удара; в прошлом году умер отец, он был итальянец, инженер по образованию, работал на кораблях, приписанных к Лисабонскому порту, он мне кое-что оставил, но это кое-что уже кончилось; еще у меня есть бабушка, она живет в Италии, но я ее не видел с двенадцати лет, в Италию я не хочу, там ситуация почище нашей, так что извините мою откровенность, доктор Перейра, но смертью я сыт по горло, а почему вы задали этот вопрос?
Перейра отхлебнул лимонаду, вытер губы тыльной стороной кисти и сказал: Просто потому, что все газеты печатают некрологи, я имею в виду, что всякий раз, когда умирает кто-то из известных писателей, газета помещает некролог, но тексты такого рода не пишутся с ходу, их нужно иметь уже готовыми, и я ищу человека, способного сочинять такие заблаговременные некрологи, статьи на смерть великих писателей нашего времени, представьте себе на минуту, что завтра умирает Мориак, и как я, по-вашему, буду выкручиваться?
Перейра утверждает, что Монтейру Росси заказал еще пива. До того как им встретиться, молодой человек уже выпил как минимум три пива и, по его подсчетам, должен был изрядно захмелеть или по крайней мере быть навеселе. Монтейру Росси откинул прядь волос, падающую ему на лоб, и сказал: Доктор Перейра, я неплохо знаю языки и современную литературу, я люблю жизнь, но если вам угодно, чтобы я непременно писал о смерти, и вы готовы платить за это, как заплатили мне сегодня за то, что я спел им неаполитанскую песню, я могу это делать и через день принесу вам статью на смерть Гарсии Лорки, как вам Гарсиа Лорка? В сущности, он основал испанский авангард, точно как наш Песоа — португальский модернизм, и художник разносторонний, занимался и поэзией, и музыкой, и живописью.
Перейра ответил, утверждает он, что Гарсиа Лорка представляется ему не самой подходящей фигурой, но попробовать можно, лишь бы выдержать правильный тон, соблюдая должную осторожность, и не касаться никаких других — при существующем положении — довольно щепетильных тем, а говорить о нем исключительно как о художнике. И тогда Монтейру Росси с самым что ни на есть непринужденным видом спросил: Простите, что заговариваю об этом, статью на смерть Гарсии Лорки я, конечно, напишу, вне всякого сомнения, а вы, не могли бы вы заплатить мне вперед? Мне нужно купить себе другие брюки, эти уже нельзя надеть, а у меня свидание с девушкой, она должна зайти за мной сюда, мы вместе учились в университете, это моя подруга, она мне очень нравится, и я хотел бы сводить ее в кино.
4
Девушка, которая подошла к ним, утверждает Перейра, была в ажурной, вязанной крючком, шапочке. Она была очень хороша собой, зеленоглазая, с бледной кожей, красивыми обнаженными руками. Платье, державшееся на тоненьких бретельках, которые сходились сзади крест-накрест, выгодно подчеркивало округлые плечи и красивую спину.
Это Марта, сказал Монтейру Росси. Марта, позволь тебе представить — доктор Перейра, он только что взял меня на работу, так что с сегодняшнего вечера я журналист, как видишь, на работу все-таки устроился. Она сказала: Очень приятно — Марта. И потом, обернувшись к Монтейру Росси, сказала: И зачем я пришла на этот праздник, сама не знаю, но раз уж мы здесь, может, потанцуем, недотепа, вечер чудный да и музыка больно завлекательная.
Перейра остался один за столиком, утверждает он, заказал еще лимонаду и, отпивая его маленькими глотками, смотрел, как они танцуют, прижавшись щека к щеке. В этот момент Перейра, утверждает Перейра, снова стал думать о прожитой жизни, о детях, которых у него никогда не было, но по этому поводу Перейра не будет делать никаких дальнейших заявлений. Станцевав один танец, молодые люди вернулись за столик, и Марта как бы между прочим сказала: Я купила сегодняшний «Лисабон», но, к сожалению, о вознице из Алентежу, которого расстреляла полиция прямо в его телеге, там ничего не сообщается, пишут о какой-то американской яхте, кого сейчас интересуют такие новости, не понимаю. И Перейра, испытывая неоправданное чувство вины, ответил: Главный редактор сейчас в отпуске, на водах, а я занимаюсь только отделом культуры, вы, наверное, еще не знаете, что с будущей недели в «Лисабоне» будет страница культуры, и вести ее буду я.
Марта стянула с головы ажурную шапочку и кинула ее на стол. Густые каштановые волосы с рыжим отливом, утверждает Перейра, тяжелой волной упали ей на плечи, она выглядела несколько старше своего друга, на вид ей было лет двадцать шесть — двадцать семь, и он спросил: А чем занимаетесь вы? Веду коммерческую переписку по импорту и экспорту в одной торговой фирме. Я работаю только до полудня, а в остальное время могу читать, гулять, встречаться с Монтейру Росси. Перейра утверждает, что его удивило, что она называет молодого человека полным именем — Монтейру Росси, как будто они всего лишь коллеги по работе, но он, разумеется, промолчал и, сменив тему, просто чтобы продолжить разговор, сказал: А я решил, что вы из Союза салазаровской молодежи. А вы? — мгновенно отреагировала Марта. Ну, знаете, ответил Перейра, моя молодость давно в прошлом, а что касается политики, то она меня не больно-то интересует, но фанатиков я не переношу, мне кажется, что на свете развелось слишком много фанатиков. Главное, не путать фанатизм и веру, ответила Марта, ведь люди могут верить в идеалы, к примеру, в то, что они свободны, равны, в то. что все люди — братья, простите, я, в сущности, цитирую лозунги французской революции, а вы верите в Великую французскую революцию? Теоретически да, ответил Перейра, и тут же пожалел об этом «теоретически», но на самом деле он говорил то, что думал. В этот момент оба музыканта, скрипка и гитара, заиграли вальс в тональности фа мажор, и Марта сказала: Доктор Перейра, мне хотелось бы станцевать этот вальс с вами. Перейра, утверждает Перейра, поднялся, подал ей руку и повел к танцевальной площадке. Он кружился в вальсе почти самозабвенно, забыв про свой толстый живот и не ощущая веса собственного тела, как будто все это чудесным образом улетучилось. Он смотрел на небо поверх разноцветных фонариков над Праса да Алегрия и чувствовал себя крошечной частицей, слитой с космосом. Вот он, толстый пожилой мужчина, танцует с молодой девушкой на одной из площадей мироздания, а тем временем небесные светила двигаются по своим орбитам, Вселенная находится в непрерывном движении, и, может быть, в эту минуту на нас смотрят из какой-нибудь обсерватории спуда, из бесконечности. Потом они вернулись за столик, и Перейра, утверждает он, все думал: почему у него нет детей? Он заказал еще лимонаду, решив, что ему надо пить как можно больше жидкости, потому что в такую неимоверную жару, как сегодня днем, у него болит живот. Марта чувствовала себя вполне непринужденно и говорила без умолку. Монтейру Росси, говорила она, посвятил меня в свои журналистские планы, отличная идея, полно писателей, которые умрут не сегодня-завтра, слава богу, этот кошмарный Рапаньетта, называвший себя Д'Аннунцио, уже несколько месяцев как помер, потом еще этот ханжа, как его, Клодель чересчур зажился, вам не кажется? Уверена, что ваша газета с ее католической, как мне показалось, направленностью охотно напечатает его некролог; потом этот жуткий тип, подонок Маринетти, сначала он, видите ли, воспевает войну и гаубицы, а потом и сам якшается с «чернорубашечниками» Муссолини, хорошо бы и он поскорее нас оставил в покое. Перейра, утверждает Перейра, слегка вспотел и зашептал: Барышня, говорите тише, не знаю, отдаете ли вы себе отчет, где мы находимся. Тогда Марта надела свою шапочку и сказала: Это место мне порядком надоело, на нервы действует, вот увидите, сейчас они врубят свои военные марши, пожалуй, я вас оставлю здесь вдвоем с Монтейру Росси, а сама пройдусь до набережной Тахо, хоть воздухом подышу, спокойной ночи и до свиданья.
Перейра, утверждает Перейра, вдруг почувствовал прилив сил, допил лимонад и хотел заказать еще, но заколебался, потому что не знал, долго ли собирается сидеть здесь Монтейру Росси. Тогда он спросил: Как вы смотрите на то, чтобы выпить еще по стаканчику? Монтейру Росси не возражал, сказав, что весь вечер сегодня в его распоряжении и он с удовольствием поговорил бы о литературе, ему редко выпадал случай поговорить о литературе, все больше о философии, потому что все его знакомые занимались исключительно философией. В ту минуту Перейре вспомнилось изречение, которое любил повторять его дядя, несостоявшийся писатель, и он привел его: «Кажется, что философия занимается поисками истины, но на самом деле она, вероятно, лишь фантазирует на сей счет, в то время как литература при помощи одной лишь фантазии, скорее всего, и открывает истину». Монтейру Росси улыбнулся и сказал, что это прекрасное определение для обеих дисциплин. Тогда Перейра спросил его: А что вы думаете о Бернаносе?[4] Монтейру Росси поначалу, казалось, слегка растерялся и спросил: Это который католический писатель? Перейра утвердительно кивнул головой, и Монтейру Росси, понизив голос, сказал: Послушайте, доктор Перейра, как я уже говорил вам по телефону, я нечасто задумываюсь о смерти, и меня не слишком волнует католическая вера, мой отец был корабельным инженером, понимаете, он был человеком дела, который верил в технический прогресс, и меня воспитал в той же вере, он был итальянец, это правда, но воспитание я получил скорее английское и привык смотреть на мир прагматически, да, я люблю литературу, но у нас с вами разные вкусы, или — сформулируем это так — мы очень по-разному относимся к некоторым писателям, однако работа нужна мне позарез, и я готов писать заготовки для некрологов всем писателям, которые будут угодны вам или вашей редакции. Тут Перейра, утверждает Перейра, почувствовал себя задетым. Досадно было получить урок профессиональной этики от какого-то юнца, и он счел это оскорбительным. Тогда он тоже решил перейти на заносчивый тон и ответил: Что касается моих литературных предпочтений, то они никоим образом не зависят от воли главного редактора, редакцией культуры заведую я, и я сам выбираю писателей, тех, которые интересны мне, поэтому давайте договоримся так: я даю вам задание и предоставляю полную свободу действий, а Бернаноса и Мориака я посоветовал только потому, что люблю этих авторов, но окончательный выбор остается за вами, делайте то, что сочтете нужным. Перейра, утверждает Перейра, тотчас же пожалел, что поторопился и подвергает риску и себя, и главного редактора, предоставив свободу молодому человеку, которого совершенно не знает и который откровенно признался, что списал свой диплом. На какой-то момент он почувствовал себя в ловушке и понял, что сам же поставил себя в идиотское положение. К счастью, Монтейру Росси продолжал разговор о литературе и заговорил о Бернаносе, которого знал, судя по всему, довольно неплохо. Под конец он сказал: Бернанос — мужественный человек, не боится говорить о самых потаенных глубинах своей души. При слове «душа» Перейра почувствовал, утверждает он, что снова приходит в себя, для него это было как бальзам на раны, и он несколько наивно спросил: А вы верите в воскресение плоти? Никогда не задумывался над этим, ответил Монтейру Росси, меня это мало интересует, уверяю вас, совсем не интересует, но могу хоть завтра прийти в редакцию и принести вам заблаговременный некролог Бернаносу, но, откровенно говоря, я предпочел бы написать статью на смерть Гарсии Лорки. Давайте, сказал Перейра, редакция — это я, я нахожусь на улице Родригу да Фонсека, дом шестьдесят шесть, это почти на углу с Алешандре Эркулану, в двух шагах от еврейской мясной лавки, если встретите на лестнице консьержку, ничему не удивляйтесь, это сущая мегера, скажете, что у вас назначена встреча с доктором Перейрой, но особенно не распространяйтесь, по-моему, она стучит полиции. Перейра утверждает, что не знает, почему он так сказал, может, просто потому, что ненавидел консьержку и салазаровскую полицию, однако факт тот, что он сказал именно это, но не для того, чтобы создать впечатление, будто он берет молодого человека, которого тогда совсем не знал, себе в сообщники, вовсе не для этого, хотя точно назвать мотив Перейра не может, утверждает он.
5
Проснувшись на следующее утро, он обнаружил, утверждает Перейра, яичницу с сыром между двумя ломтями хлеба. Было уже десять часов, а служанка заходила в восемь. Совершенно очевидно, что еду ему оставила она, чтобы он взял бутерброд на работу и съел в обед, Пьедаде хорошо изучила его вкусы, а Перейра действительно обожал яичницу с сыром. Он выпил чашку кофе, принял ванну, надел пиджак, но галстук решил не надевать. Правда, сунул его в карман. Прежде чем выйти из дому, он остановился перед портретом жены и сказал ему Я познакомился с одним парнишкой, его зовут Монтейру Росси, и думаю взять его к себе внештатным сотрудником, сочинять некрологи про запас, поначалу он показался мне довольно бойким юношей, но на поверку оказался наивнее, чем я думал, он мог бы быть сверстником нашего сына, если бы у нас был сын, немножко похож на меня, такая же прядь волос, падающая на лоб, помнишь, у меня тоже всегда падала прядь волос на лоб, когда я был еще студентом в Коимбре, в общем, не знаю, что тебе сказать, посмотрим, зайдет сегодня ко мне в редакцию, обещал принести некролог, у него красивая девушка по имени Марта, с волосами цвета меди, пожалуй, слишком непосредственная и, на мой взгляд, много болтает о политике, ну да ладно, посмотрим.
Он доехал на трамвае до улицы Алешандре Эркулану и дальше пошел пешком, с трудом поднявшись в гору до угла Родригу да Фонсека. Когда он дошел до дверей, то весь взмок: день был жаркий. В вестибюле, как всегда, он столкнулся с консьержкой, которая сказала «здравствуйте, доктор Перейра». Перейра кивнул в ответ и поднялся по лестнице. Войдя в редакцию, он сразу же снял пиджак и включил вентилятор. Он не знал, с чего начать, а был уже полдень. Подумал, не съесть ли ему свой хлеб с яичницей, но для обеда было еще рано. Тогда он вспомнил про рубрику «Памятные даты» и сел писать. «Три года назад скончался великий поэт Фернанду Песоа. Будучи человеком английской культуры, он решил писать по-португальски, утверждая, что его отечеством стал португальский язык. Он оставил прекрасные стихи, разбросанные по журналам, и небольшую поэму „Послание“, представляющую собой историю Португалии, увиденную глазами художника, горячо любившего свою родину». Перечитав написанное, Перейра счел его отвратным. Он выкинул страницу в корзину и написал: «Прошло три года, как нас покинул Фернанду Песоа. Немногие заметили его, почти никто. Он жил в Португалии как чужестранец, возможно, потому, что и в самом деле был иностранцем. Жил один, в скромных пансионах и меблированных комнатах. О нем помнят друзья, коллеги, те, кто любит поэзию».
Потом он достал хлеб с яичницей и начал есть. Тут же раздался стук в дверь, он спрятал бутерброд в ящик письменного стола и, вытерев рот листком бумаги для пишущих машинок, сказал «войдите». Это был Монтейру Росси. Здравствуйте, доктор Перейра, сказал Монтейру Росси, извините, если я немного раньше времени, но я вам кое-что принес, в общем, вчера вечером, когда я вернулся домой, на меня нашло вдохновение, и потом, я решил, что, наверное, смогу перекусить здесь, в газете. Перейра терпеливо объяснил ему, что в этом помещении нет редакции газеты, а только комната отдела культуры И что он, Перейра, и есть редакция отдела культуры, кажется, он все это ему вчера объяснил, здесь нет ничего, кроме одной этой комнаты, письменного стола и вентилятора, потому что «Лисабон»? — всего-навсего небольшая вечерняя газета. Монтейру Росси уселся и достал сложенный вчетверо лист бумаги. Перейра взял его и стал читать. Непроходная, утверждает Перейра, статья была абсолютно непроходная. В ней описывалась смерть Гарсии Лорки, и начиналась она так: «Два года назад, при неясных обстоятельствах, нас покинул великий испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка. Полагают, что в этом повинны его политические противники, потому что его нашли убитым. Весь мир до сих пор не находит ответа, как могло произойти подобное злодеяние». Перейра поднял голову от страницы и сказал: Дорогой Монтейру Росси, вы прекрасный повествователь, но моя газета не самое подходящее место для повестей, в газетах печатают правдивую или правдоподобную информацию, вам не следовало писать о том, как умер поэт, об обстоятельствах и причинах его смерти, нужно было просто сказать, что он умер, а потом перейти к его творчеству, стихам и романсам, написать некролог, да, но вместе с тем дать и критический очерк, охарактеризовать его личность и творчество, то, что написали вы, абсолютно непригодно для печати, ну, не разгадана тайна его смерти, а если бы ее разгадали, так что?
Монтейру Росси возразил, что Перейра еще не дочитал до конца, дальше как раз и говорится о творчестве, об облике и масштабе этого человека и художника. Перейра принялся терпеливо читать дальше. Опасная, утверждает он, статья была опасная. В ней говорилось об испанском захолустье, о католичестве в Испании и о том, как поэт изобличил его в драме «Дом Бернарды Альбы», говорилось о передвижном театре «Балаган», который создал для своего народа Гарсиа Лорка, там прославлялся испанский народ, его тяга к театру и жажда культуры, которую сумел утолить Гарсиа Лорка. Перейра оторвал глаза от текста, утверждает он, пригладил волосы и, закатав рукава рубашки, сказал: Дорогой Монтейру Росси, позвольте говорить с вами начистоту. Ваша статья непроходная, в самом деле непроходная. Я не могу ее напечатать, и ни одна португальская газета не сможет напечатать ее, как — к слову сказать — и итальянская тоже, раз уж вы итальянец родом, поэтому я допускаю одно из двух: либо вы полный невежда, либо провокатор, но в португальской журналистике на сегодняшний день нет места ни невеждам, ни провокаторам, вот и все.
Перейра, утверждает Перейра, почувствовал, что, пока он произносил все это, по спине у него побежала струйка пота. Почему он начал вдруг — потеть? Кто знает? Точно он сказать не берется. Возможно, потому, что стояла страшная жара, это уж вне всякого сомнения, и вентилятора было явно недостаточно, чтобы поддерживать прохладу в таком тесном помещении. Но, возможно, еще и потому, что ему стало вдруг жаль молодого человека, который смотрел на него как обиженный ребенок и все время, что он говорил, грыз ногти. Так что у него не хватило духу сказать ему: что поделаешь, попытка не удалась, до свидания. Вместо этого он продолжал, скрестив руки, глядеть на Монтейру Росси, и Монтейру Росси сказал: Я перепишу, я к завтрашнему дню все перепишу. О нет, нашел в себе силы ответить Перейра, никакого Гарсии Лорки, ради бога, слишком многие стороны его жизни и смерти не устраивают такую газету, как «Лисабон», не знаю, отдаете ли вы себе отчет, дорогой Монтейру Росси, что в Испании идет гражданская война и что португальские власти смотрят на нее так же, как генерал Франсиско Франко, и что Гарсиа Лорка был политическим преступником, да, это именно то слово: политическим преступником. Монтейру Росси, будто испугавшись этого слова, вскочил, стал пятиться к двери, потом остановился и, сделав шаг вперед, сказал: А я-то думал, что нашел работу. Перейра не ответил и почувствовал, как струйка пота опять побежала у него по спине. Что же мне теперь делать? — прошептал Монтейру Росси почти умоляющим голосом. Перейра, в свою очередь, тоже встал, утверждает он, и подошел к вентилятору. Несколько минут он стоял молча, подставив спину под вентилятор, чтобы просушить рубашку. Вам нужно написать некролог Мориаку или Бернаносу, на ваше усмотрение, если вы достаточно хорошо меня поняли. Но я работал всю ночь, пробормотал Монтейру Росси, и думал хоть что-то получить за это, я ведь многого не прошу, только на обед. Перейра хотел было возразить, что накануне вечером он дал ему аванс на покупку новых брюк и что он не может выдавать ему деньги каждый день на расходы, потому что он ему не отец. Ему хотелось быть твердым и жестким. Но вместо этого сказал: Если все дело в том, что вам не на что сегодня поесть, то я, разумеется, могу пригласить вас пообедать, я тоже еще не обедал и чувствую некоторый голод, охотно съел бы хорошую рыбу на решетке или эскалоп в сухарях, как вы на это смотрите?
Почему он так сказал? Потому что был одинок и эта комната его угнетала, потому что на самом деле хотелось есть, потому что вспомнил фотографию жены или по какой-либо другой причине? Этого он объяснить не может, утверждает Перейра.
6
В конце концов Перейра, утверждает Перейра, пригласил его на обед и решил повести в «Россиу». В выборе места он не сомневался, да и где они — в сущности, два интеллигентных человека — могли бы еще посидеть, как не в этом литературном кафе.
В 20-е годы кафе и ресторан «Россиу» пользовались громкой славой, все авангардистские журналы делались за его столиками, туда ходили буквально все, и не исключено, что кто-нибудь и теперь бывает там по старой памяти. До ресторана они шли молча, спускаясь по бульвару Свободы. Перейра хотел сесть в глубине зала, потому что на улице под навесом было невыносимо жарко. Оглядевшись по сторонам, он не увидел ни одного писателя, утверждает он. Все писатели отдыхают, произнес он, чтобы сказать что-нибудь, должно быть, разъехались: кто в деревню, кто на море, только мы с вами и остались в городе. Или просто сидят по домам, заметил Монтейру Росси, по теперешним временам вряд ли кому-то особенно хочется бывать на людях. Перейра припомнил эту фразу и почувствовал, утверждает он, как тоскливо стало у него на душе. Он осознал вдруг, что они здесь совсем одни и никого вокруг, кто бы разделял с ними то же настроение общей подавленности; в зале сидели две дамы в шляпках и четверо мужчин в углу, с мрачным видом. Перейра выбрал столик поодаль, заправил, как он всегда делал, салфетку за воротник рубашки и заказал бокал белого вина. Начну, пожалуй, с аперитива, пояснил он, обращаясь к Монтейру Росси, обычно я не пью спиртного, но сегодня мне просто необходимо выпить. Монтейру Росси попросил принести ему бочкового пива, и Перейра поинтересовался, почему тот не возьмет вина, потому что не любит? Нет, потому что предпочитаю пиво, ответил Монтейру Росси, и пьется легче, и освежает лучше, к тому же я совершенно не разбираюсь в винах. Напрасно, заметил Перейра тихим голосом, если вы хотите стать настоящим критиком, вам следует развивать свой вкус, воспитывать утонченность и умение разбираться в винах, в кушаньях, в жизни. И в литературе, заключил он. На что Монтейру Росси, смешавшись, сказал: Я все собираюсь поговорить с вами начистоту, по не хватает духу. А вы не смущайтесь — я ведь всегда могу сделать вид, что ничего не понял. Не сейчас, сказал Монтейру Росси.
Перейра заказал печеную рыбу, орату на решетке, утверждает он, а Монтейру Росси выбрал гаспаччо на первое и еще рис с дарами моря. Рис подали в огромной глиняной миске, которую Монтейру Росси опустошил в три приема, утверждает Перейра, и доел все Дочиста, при том что порция была огромной. Потом он откинул прядь волос со лба и сказал: Наверное, я взял бы еще мороженого или на худой конец лимонный шербет. Перейра прикинул в уме, во что ему обойдется сегодняшний обед, и получалось, что большую часть недельного заработка придется оставить здесь, в ресторане, где он рассчитывал встретить маститых лисабонских писателей, а вместо этого застал только двух старушенций в шляпках да четыре темных силуэта за столиком в углу. Он снова начал потеть и освободил ворот рубашки, вынув оттуда салфетку, потом попросил минеральной воды из холодильника, чашку кофе и тогда, глядя в упор на Монтейру Росси, сказал: А теперь откройте мне то, о чем вы не захотели говорить перед обедом. Сначала Монтейру Росси, утверждает Перейра, уставился в потолок и начал его разглядывать, затем отвел глаза в сторону, прокашлялся и, покраснев, как дитя, сказал: Мне как-то неловко, право. Нет ничего такого, чего бы следовало стыдиться в этом мире, сказал Перейра, разумеется, если ты никого не обокрал и не опозорил отца с матерью. Монтейру Росси поднес салфетку к губам, будто хотел удержать слова, подступившие к горлу, вытер рот и, откинув прядь волос со лба, сказал: Даже не знаю, с чего начать, вы, как я понимаю, человек требовательный и ждете от меня профессионализма, словом, чтобы я больше думал головой, но дело в том, что я-то склонен руководствоваться другими принципами. Какими именно, поясните, попросил Перейра, помогая ему справиться с речью. Ну, в общем, сбивчиво продолжал Монтейру Росси, в общем, говоря откровенно, суть вопроса заключается в том, что я иду от логики сердца, наверное, этого не следовало делать, возможно, я и сам того не хотел, и это получалось помимо моей воли, само собой, потому что было сильнее меня; уверяю вас, я способен писать по-научному и вполне мог бы сделать статью памяти Гарсии Лорки такую, как надо, но то, о чем я говорю, было сильнее меня. Он снова приложил салфетку к губам и добавил: И к тому же я влюблен в Марту. А это-то здесь при чем? — перебил его Перейра. Не знаю, сказал Монтейру Росси, наверное, ни при чем, но и это — логика сердца, вы так не думаете? И в каком-то смысле — та же неразрешаемая задача. Ваша задача в том, чтобы не ломать себе голову над вопросами, которые вам заведомо не по силам, хотел было возразить Перейра. Наш мир — это один большой вопрос, но не нам пытаться ответить на него, хотел сказать Перейра. Главный же вопрос заключается в том, что вы еще молоды, слишком молоды и годитесь мне в сыновья, хотел сказать Перейра, но я решительно против того, чтобы вы почитали меня отцом: не для того я здесь, чтобы разрешать ваши противоречия. Следующий вопрос заключается в том, что между нами должны установиться нормальные профессиональные отношения, хотел сказать Перейра, вам нужно научиться писать, в противном случае, продолжая писать статьи по законам сердца, вы навлечете на себя — это уж точно — массу неприятностей.
Но ничего подобного он говорить не стал. Закурив сигару и вытерев салфеткой пот, струившийся со лба, он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и сказал: Законы сердца — самые важные из законов, и жить надо по законам сердца, о них ничего не сказано в десяти заповедях, но это говорю вам я, сердце есть сердце, согласен, но тем не менее глаза тоже должны быть открыты, и открыты широко, дорогой Монтейру Росси, на этом обед закопчен, ближайшие два-три дня не звоните мне, даю вам время продумать все как следует, действительно как следует. Позвоните мне в редакцию в следующую субботу ближе к полудню.
Перейра встал из-за стола, протягивая на прощание руку. Почему он говорил ему совсем не то, что собирался сказать, ведь он собирался как следует отчитать его и, может быть, даже уволить, Перейра затрудняется ответить. Быть может, потому что ресторан был пуст и он не увидел там ни одного писателя, или потому, что чувствовал себя одиноким в этом городе и нуждался в сообщнике и друге? Быть может, по этим или по каким-то иным соображениям, точно он сказать не берется. Трудно держаться определенных принципов, когда речь заходит о логике сердца, утверждает Перейра.
- Может ли взмах крыльев бабочки в Нью-Йорке вызвать тайфун в Пекине?
- Ночь, море, расстояние
- Утверждает Перейра
Критика