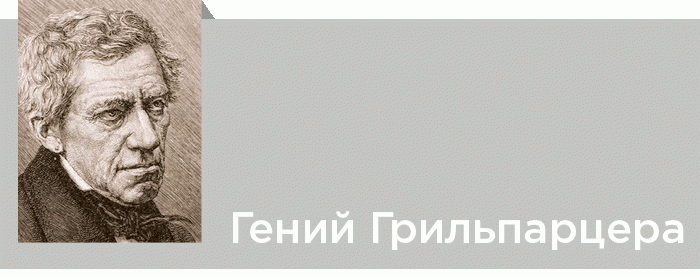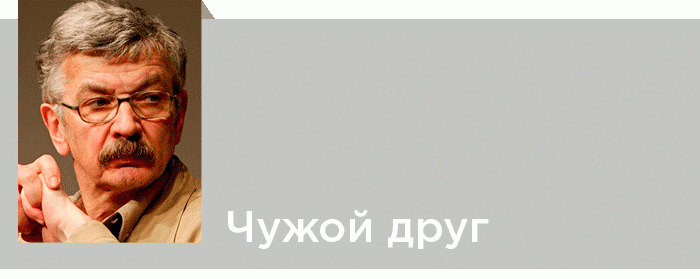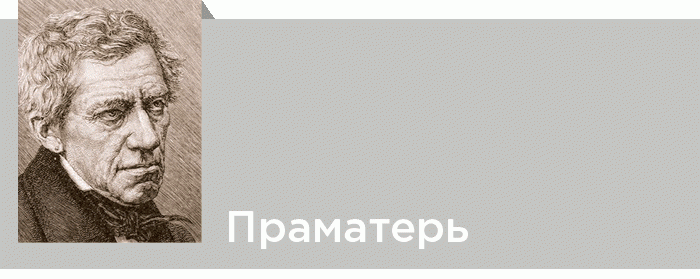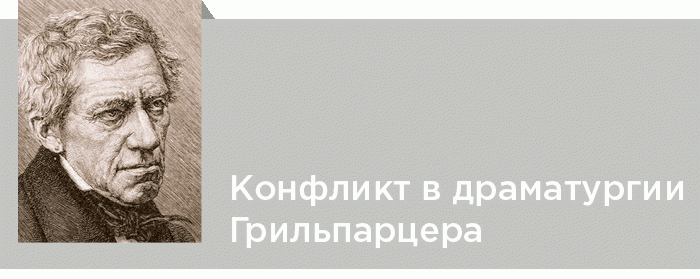Грильпарцер и Пушкин: полемика с эпохой в защиту искусства

Д. Л. Чавчанидзе
В последнем выпуске «Jahrbuch der Grillparzer Gesellschaft» напечатана статья Юргена Гроссе «Критика эстетики в защиту искусства». Берлинский исследователь сопоставляет эстетические воззрения Франца Грильпарцера и Якоба Буркхардта, определяет их общую основу как платоновский идеализм и выделяет в них в качестве главного последовательное отрицание той художественной ориентации, которая была задана искусству всей идеологией романтической эпохи. Не подключая Пушкина к такому сопоставлению полностью, стоит остановиться на том, что русский поэт, приветствовавший романтизм и отдавший ему значительную дань, иногда становился невольным оппонентом этого направления. В его размышлениях о литературе, как и в размышлениях Грильпарцера, отчетливо просматривается убеждение: как бы широко ни заявило о себе новое, оно не вправе дискредитировать старые художественные нормы, если ими обеспечивается выражение гуманистической тенденции произведения.
Два поэта, жившие в разных странах, никак не были связаны между собой, можно сказать, и не знали друг о друге, хотя Пушкину, вероятно, было известно имя австрийского драматурга, мелькавшее на страницах российских литературных журналов, тем более что в
Как можно заметить, австрийский писатель в своих суждениях о романтизме исходил из знакомства с немецким материалом, однако не только потому, что для него это была литература отечественная (он постоянно называл ее «наша»); не приходится сомневаться, что в его поле зрения фигурировали и другие национальные варианты. Более значительной была иная причина: именно немецкие авторы, сделавшие своим предметом иррациональность и хаотичность мира, заявили о праве художника столь же хаотически смешивать все краски палитры. На их фоне Грильпарцер, по-видимому, не воспринимал как подлинного романтика того, кто не повторял их приемов и не разделял их постулатов, например Байрона (не случайно и Гете не распространял на английского поэта свое острое неприятие романтического). Оценив в полной мере своеобразие таланта Байрона, Грильпарцер тем не менее хотел видеть в нем скорее противника идеологов романтизма, когда с большим удовлетворением отмечал, что тот довольно сдержанно отзывается о Шекспире, а лирику Александра Поупа признает за образец.
Пушкин же не только подчеркивал, что неизменное содержание байроновских произведений - «унылый романтизм и безнадежный эгоизм», но и в их форме рассмотрел признаки романтической традиции - в противоположность «правильности» классицизма. В одной из заметок 1830-х гг. он высказал вполне справедливое наблюдение: «Байрон мало заботился о планах своих произведений, или даже вовсе не думал о них: несколько сцен, слабо между собою связанных, были ему достаточны для сей бездны мыслей, чувств и картин». Строго говоря, такая «бесплановость», фрагментарность была не особенностью Байрона, а органичным, хотя, конечно же, у разных мастеров по-разному оформленным романтическим принципом, который выдвинули теоретики иенской школы, назвав его словом «Willkür» - ‘произвол’. И есть все основания думать, что от Пушкина не ускользнуло «немецкое» происхождение этой идеи абсолютной творческой свободы. В
«Немецкое» - именно так не раз определял Пушкин новое веяние, проникшее в литературную и культурную среду России. В статье «О ничтожестве литературы русской» поэт связал его с двумя фактами: «Жуковский и двенадцатый год: влияние немецкое превозмогает». Хотя немецкое у Жуковского в значительной степени было представлено Гете и Шиллером, их лирика в его переводе, как известно, приобрела заметную романтическую окрашенность. Позднее в Москве появился кружок любомудров, и Пушкин не раз с одобрением упоминал «последователей немецкой школы», имея в виду шеллингианцев - Киреевского, Титова, Шевырева. Для большинства мыслящих людей России «немецкое», взятое в целом, создавало тогда новую картину мира, более очеловеченную - в противовес «французскому»; последнее, широко воспринятое русской культурой в минувшем веке, теперь ассоциировалось с «вольтеровским», просветительским, подготовившим в конечном итоге кровавые события недавней революции и наполеоновских войн.
В замечании о том, что «немецкое превозмогает», Пушкин вполне продуманно выделил 1812 год. Спустя много лет Грильпарцер напишет в «Автобиографии»: «...судьбоносный 1812 год, поход на Москву, сокрушительное поражение французского войска». Складывалась новая ситуация в жизни послереволюционной Европы. И Россия как часть Европы переживала тогда не только взлет национального самосознания, но и начало новой эпохи - окончательный разрыв с недавними идеалами. Ощущение этого питали те самые «немецкие» идеи, на которых поднялся романтизм, опровергнувший и рационализм двух предшествовавших столетий, и непосредственно связанное с ним искусство классицизма; они полностью изменили характер европейской духовной жизни, прежде всего литературы.
На первый взгляд отношение к романтизму у Пушкина и Грильпарцера кажется совсем не одинаковым. Задолго до того, как это направление подверглось уничтожающей критике, приблизительно с
Примечательно, что оба поэта поставили рядом выкладки новейшей науки политэкономии и широко распространившиеся новые понятия о поэтических ценностях, сказавшиеся, в частности, в охлаждении к античности, - сочетание, по-видимому, не случайное. По мнению Грильпарцера, это книги «самые опасные для еще не сформировавшегося разума», потому что их авторы «хотят выстроить систему на основе, доселе никому не известной». В «Евгении Онегине» несколько ироническая интонация, как бы намекающая, что в своих интересах и пристрастиях герой отчасти следовал моде, не мешает понять, что автора вовсе не пугает новое содержание европейского образования.
Пушкин разделял выработанный эпохой принцип актуальности (разумеется, далекий от актуализма, возникшего позднее). Грильпарцеру же до конца оставалась чуждой мысль об отказе от издавна существовавших критериев, этических и эстетических. Ю. Гроссе в своей статье дал точное определение его позиции: это «неприятие такого образа мыслей, когда, исходя из постижения временного, отвергают объективный и признанный порядок вещей». Литературное новаторство, вызванное к жизни новым историческим временем, Грильпарцер строго выверял изначальным назначением искусства — нести цельное представление о прекрасном; этой установкой он руководствовался и в собственном творчестве. В соответствии с ней он, например, решил для себя вопрос о Шекспире. Черты шекспировского художественного мышления, подхваченные и культивированные романтизмом, не вписывались в ту картину мира, какую стремился создавать он сам. О сложности его отношения к этому величайшему авторитету свидетельствует одна из дневниковых записей
Вопреки все более утверждавшимся романтическим нормативам, Грильпарцер был убежден, что и сегодня примером для драматурга должны оставаться древние трагики, последовательно раскрывающие в самых драматичных судьбах героев свершение справедливости, т.е. правомочность доброго начала. Никак не предлагая полного возрождения их творческой манеры, он отстаивал такую важную ее особенность, как три единства, - то, что в первую очередь было осмеяно и окончательно отброшено на новом этапе искусства. Особо существенным ему представлялось единство времени, тем более в драме исторической. Пушкин же, отдавая должное гению Корнеля и Расина, безоговорочно относил их метод к прошлому и считал своей удачей, что сумел отказаться в «Борисе Годунове» от «пресловутой тройственности», так как «расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира».
Два поэта давали противоположные оценки не только романтизму и классицизму в целом, но и отдельным фигурам современной литературы. О мадам де Сталь Грильпарцер записал в дневнике: «...мне противно все существо этой дамы». В «Коринне» он находил повествование «самое неудачное, какое только может быть», «Десять лет в изгнании» раскритиковал как «смешное тщеславие». Не знавший его мнения Пушкин как будто спорил с ним, когда горячо выступил против напечатанной в «Сыне отечества» статьи, где о французской писательнице говорилось пренебрежительно, напомнив, что ее «удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения». Что же все-таки дает основание сопоставлять его и Грильпарцера как единомышленников?
Обращаясь к этому вопросу, предварительно заметим: если Грильпарцер наблюдал реализацию романтической эстетики в практике авторов немецких, то Пушкину с его слабым знанием немецкого языка этот материал был мало доступен. Но ему было хорошо знакомо созданное (разумеется, до
Грильпарцер объявляет романтизм причиной упадка немецкой литературы в XIX в. - с тех пор, как она наполнилась «туманными образами» Жан Поля, Тика, Фуке, когда признание «произвольной» деятельности художника стало помехой органической целостности искусства в его подходе к миру. Он решительно отвергает типичную особенность романтического произведения - отсутствие связи между эпизодами и четкой мотивировки человеческих переживаний: «искусство состоит как раз в том, чтобы явления, которые в жизни выглядят разорванными, связать в одно целое». Пушкин, который понимает под романтизмом наиболее высокий уровень литературного творчества - и в 20-е гг., когда выражает уверенность, что благодаря ему возродится «умершая поэзия» Франции, и позднее, когда думает о путях литературы русской, именно потому отказывается причислять к его явлениям «нынешнюю раздражительную, опрометчивую, бессвязную французскую словесность». Пушкина возмущает крайность оппозиции классицизму, доходящая до полного пренебрежения к культуре письма: «Иные даже называют романтизмом неологизм и ошибки грамматические»; по его мнению, в результате подобного толкования само понятие «романтизм» становится «сбивчивым». И хотя Грильпарцер усматривает в «бесформенности» (‘Formlosigkeit’) признак именно романтического, совершенно очевидно, что обоих одинаково тревожит перспектива исчезновения категории прекрасного в лозунгах, утверждающих свободную форму.
В 30-е гг., размышляя о судьбе немецкой литературы, Грильпарцер делает вывод: романтизм оставил «болезнетворное» наследие (‘Krankheitsstoffen’). В одной из дневниковых записей он досадует, что ныне источник творчества - это «вдохновение мимолетной страсти», «шутовства» и «скандала». Пушкин тогда же с огорчением резюмирует, что у французов прежнее «нравоучение» сменилось «нравственным безобразием» и на месте догматически выдержанного творчества появилась «словесность отчаяния»; последние слова, как указывает он сам, повторяют определение, которое дал французским романтикам второго поколения Гете. Соглашаясь, что новая действительность поставила перед искусством новую цель - «идеал», Пушкин настаивает на созидательном характере идеального, которое должно не заглушать, а питать гармоническое начало мира и человека. В глазах обоих поэтов нездоровое содержание и «опрометчивость» формы, «бесформенность» делают невозможным поэтическое воссоздание человеческих универсалий.
Сходство взглядов Грильпарцера и Пушкина имеет серьезную основу - сходство двух стран, к которым они принадлежат. Многонациональные монархии, отставшие от других в социальном развитии, в первые десятилетия XIX в. переживали недавний «обман» - спад достижений йозефинизма, австрийского просветительства, и неосуществленные проекты Александра I (у Пушкина: «Недолго тешил нас обман»). В этой ситуации единственно устойчивой сферой национальных свершений оставалась культура; сам ее феномен не допускал ни хаоса, ни пессимизма, бросающего тень на существование вечных ценностей. Писатель же естественно должен был принять на себя обязанность резонера, только не наставника в частном поведении, а аналитика, освещающего проблемы гораздо большего масштаба.
Столь схожее у австрийского и русского поэтов понимание эстетического, явно самобытное на фоне их времени, проявилось в подходе обоих к историческому жанру. Мысль об особой миссии и ответственности того, кто к нему обращается, Грильпарцер четко выразил в «Автобиографии»: «Собственно говоря, что такое история? Есть ли хоть одна историческая личность, описанная без расхождений? Пишущий историю знает мало, но поэт должен знать все». Понятно, что в этом жанре, более чем где-либо, он исключал романтическую субъективность. Грильпарцер называл «подлинными нелепостями» историзм «Тика и его обожателей», которым история нужна, «чтобы придать весомость и смысл реального придуманным событиям и лицам и тем самым внести в царство мечты хотя бы долю правды». Пушкин в статье «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» развенчивал «нелепости романтических анахронизмов». Называя В. Скотта «шотландским чародеем», он высмеивал «толпу его подражателей», французских авторов, среди которых упоминал таких, как Виньи и Гюго: «В век, в который они хотят перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и давних впечатлений. Под беретом, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером, сквозь кружевную фрезу а la Henri IV проглядывает накрахмаленный галстук нынешнего dandy».
Это позволяет сделать вывод, что в «осовременивании» давно ушедших эпох как Грильпарцера, так и Пушкина раздражало стремление выдвинуть на передний план не столько исторически достоверный облик персонажа, сколько чисто человеческий портрет, субъективно создаваемый писателем-романтиком. Кстати, французские «подражатели» Скотта откровенно спорили с ним, настаивая, что в историческом жанре должны быть героизированы не великие деятели, а просто люди с их реакцией на происходящее. В такой установке по-своему давала о себе знать тенденция, с начала века радикально обновившая европейскую литературу, - интерес к человеку как к самоценному явлению. Однако и Пушкину, и Грильпарцеру в историческом сюжете была важна иная, мирообъемлющая проблематика, и перед ней отступала та (отметим, далеко не чуждая ни одному из них!), на которой сосредоточилось их время. Обоих волновали диалектическая природа власти, ее столкновение с высшей справедливостью, трагические финалы грандиозных замыслов и выразительный факт «безмолвного» присутствия в истории народной массы. Случайно или нет, но одновременно, в
Романтизм, утвердивший картину всемирной нестабильности и как проекцию этого - дисгармоничность человеческой натуры, разрушал жанровые границы, объединял трагическое с комическим, красивое с безобразным, растворял общезначимое в индивидуальном. Как каждое подлинное искусство, он поставил цель найти новую форму для выражения нового мировосприятия и достиг своей цели. Его усилиями творчество оказалось освобожденным и от того закона классического гуманизма, которому следовали в недавнем прошлом: верить в совершенство нравственной мировой основы. И хотя в дальнейшем романтизм явился едва ли не определяющим этапом художественного постижения жизни, его великим современникам было над чем задуматься.
Грильпарцера никак нельзя считать слепым приверженцем классической доктрины упорядоченного бытия в пору, когда катаклизмы разного рода уже воспринимались как закономерность мироустройства. Но он усвоил выношенный всей австрийской культурой идеал разумно организованного мира (вспомним, что рубеж веков в музыке был ознаменован деятельностью композиторов венской классической школы). Отсюда проистекало стремление австрийского драматурга к «правильной» форме произведения, благодаря которой возможно передать сложный комплекс нравственных проблем в гармонической тональности, что совершенно неравнозначно устаревшей нравоучительности. Пушкин в идейной атмосфере России, пережившей трагический опыт декабризма, также хотел видеть в поэтическом создании синтез жизненной противоречивости и гармонии, более или менее отчетливую перспективу бытования человеческого сообщества. Это требовало особого соотношения, некого равновесия содержания и формы. Сам он, как заметил С. Аверинцев, такое требование осуществил в своем романе, где «настроение, близкое к отчаянию», передано в «строгой и музыкально упорядоченной онегинской строфе».
По своей позиции последовательного отрицания «неправильного» как пафоса искусства и Грильпарцер, и Пушкин могут считаться защитниками и последними мастерами классического стиля в его непреходящей ценности; в этом отношении рядом с ними должен быть поставлен только Гете. Кризисы действительности, которые не укладывались в гармоническую форму, все настойчивее диктовали новый критерий художественности. Но в критерии устаревшем эти поэты одинаково улавливали его гуманистическую суть, и неприятие крайностей его разрушения означало у каждого из них стремление сохранить искусство как высшую форму сознания человечества.
Л-ра: Вопросы филологии. – 2004. – № 1. – С. 69-72.
Произведения
Критика