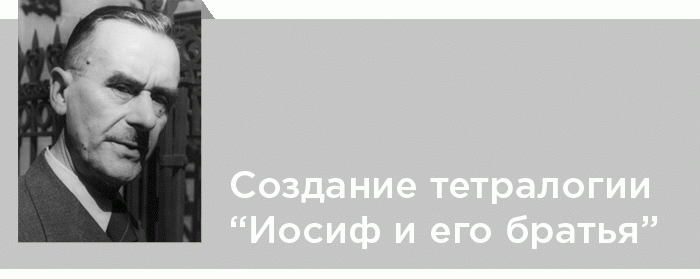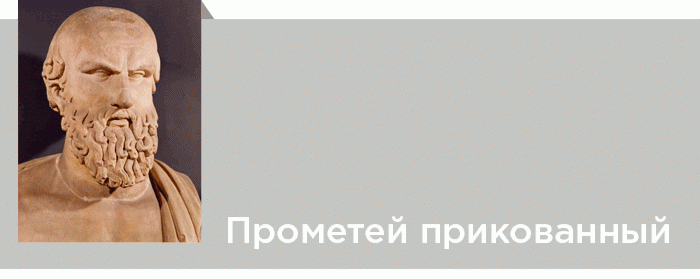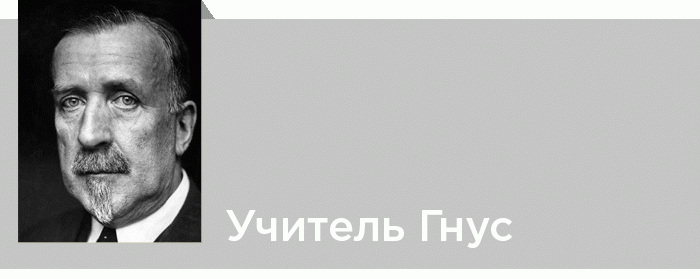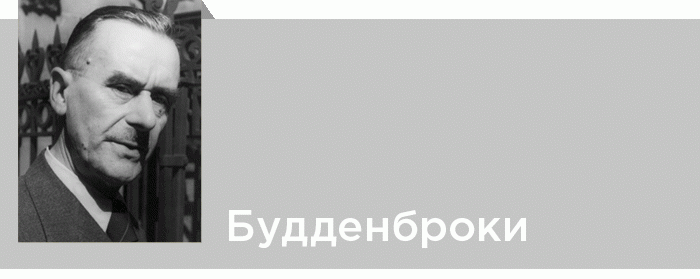Мотив самоотречения в «Волшебной горе» Т. Манна

И. И. Девицкий
Т. Манн неоднократно в письмах и в романе «Волшебная гора» употребляет существительные, сходные по содержанию, которые помогают выделить и проанализировать — прежде всего в этическом плане — немаловажный мотив его творчества. Это — Abfall (отречение, изменение — о взглядах, убеждениях, отход, отпадение), Selbstverrat (измена самому себе), Charakterbruch (душевный надлом), Verleugnung (отречение, самоотречение, самоотвержение, отрицание), Versagen и Entsagung (отказ, изменение, отречение, самоотречение, угасание), oblivion (забвение, предание забвению), self-annihilation (самоуничтожение, самоупразднение, самоотверженность, самоистребление), selfconquest (самопреодоление, самопринуждение, победа над самим сбой, самообладание).
В словах «самоотречение», «самоотвержение» заключено два основных смысла: 1) отказ от своей сущности, от потребностей собственной натуры; 2) готовность жертвовать личными интересами в пользу других, отречение от личных благ во имя чего-либо. Первый из них более узок, индивидуалистичен. Он указывает на отчужденность личности от окружающего, на ее замкнутость и одиночество, возможно, даже на ее утрату самой себя. Второй — предполагает связь людей, проявление в действиях отдельной личности заботы о благополучии других. При этом особое расположение к кому-либо может быть продиктовано не только бескорыстной любовью, но и эгоистическими побуждениями. Роман «Волшебная гора» подтверждает, что Т. Манна интересовали все оттенки в значениях приведенных слов.
Послевоенное время побудило писателя к решению многих актуальных общественных и творческих вопросов. Во имя гуманности он мужественно осудил в публичном докладе «О немецкой республике» современный немецкий обскурантизм, который в письме к Иде Бой-Эд 5 декабря 1922 г. определил как «фашистско-экспрессионистское бушевание». Он резко выступил против философии Освальда Шпенглера. Создав образ Лео Нафты, Т. Манн подтвердил, что решительно отмежевался от культа героев Томаса Карлейля, оправдывавшего в поступках отдельных людей деспотизм, волюнтаризм, жестокость и терроризм. А с наследием английского историка, с его «Историей Фридриха Второго Прусского» немецкий писатель познакомился еще в пору написания эссе «Фридрих и большая коалиция» (1915).
В 20-е годы Т. Манну удалось достаточно критически отнестись к идеалистическим учениям А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. В отличие от них, автор «Волшебной горы» далек и от умаления ценности человеческой жизни и индивидуальной воли, и от абсолютизации человеческого страдания, и от явного пренебрежения к морали. Т. Манн не приемлет ницшеанского культа сильной личности и элитарной концепции господства «высшей касты» над подавляющим большинством «посредственностей». Более оптимистический взгляд автора «Волшебной горы» на жизнь подкрепляется его прогетевской формулой самопреодоления через самопознание, предпочтением аполлоновского начала в искусстве дионисийскому, о которых говорилось в трактате Ф. Ницше «Происхождение трагедии, или Эллинизм и пессимизм».
Так, например, в «Будденброках» внутренняя собранность потребовалась — хотя по совершенно разным соображениям — и эгоисту и дельцу Бендиксу Грюнлиху, и доброй и по-своему самоотверженной Антонии при их вступлении в брак. Распад семьи вновь выявил и их большую волю. Но мольба Бендикса о милосердии, цинизм откровений банкира Кессельмейера, непреклонность ушедшей к отцу Антонии в определенной мере скрадывают в представлениях читателя порочность Грюнлиха и позволяют даже сделать предположение о том, что у молодой супружеской четы со временем, возможно, все и образовалось бы, если бы недостойному, но раскаявшемуся мужу и зятю была протянута рука помощи в критический момент.
Во многих произведениях Т. Манна обнаруживаются и другие установки автора: с одной стороны, стремление развязать творческую инициативу, душевные силы персонажей, а с другой — согласие на самоограничение действующих лиц. Писатель обеспечивает свободное проявление литературных способностей Густава Ашенбаха в «Смерти в Венеции». Появление на свет его эпопеи о Фридрихе Прусском, романа «Майя», трактата «Дух и искусство», рассказа «Ничтожный» — это результат упорной воли, моральной решимости, ревностно приносимых в жертву искусству накопленных во сне сил, страстного служения музе Каллиопе.
В то же время всемирная известность дорого далась Ашенбаху: он обременен обязанностями творчества, самодисциплиной, постоянной неудовлетворенностью собой, одиночеством, неспособностью любить шумный и пестрый мир, внутренней опустошенностью. Не слишком завидный итог борений героя заключен в его слове-приказе «продержаться», и в слове-ключе к его литературному труду «вопреки», и в размышлениях о том, что силу можно почерпнуть в «недрах духа» и в уповании на «героизм слабых».
В шестом «Немецком письме» Т. Манн пояснил, что сердцу современного европейца близки идеи жизнелюбия, здравого рассудка, нравственной ответственности за свои поступки, а не, очарование смерти (the fascination of death). Последнее состояние он изобразил в «Волшебной горе» на примере Пеперкорна и Нафты, ускоривших свою кончину. Писатель считал, что подобный искус, выдержанный к тому же дважды, может оказаться для читателей романа своего рода вакцинацией. Недаром в его докладе для студентов Принстонского университета «Введение к «Волшебной горе» (1939) есть такой абзац о Касторпе: «Усвоенные им уроки сводятся к тому, что всякое здоровье в высоком смысле этого слова должно сначала пройти школу глубокого познания болезни и смерти, точно так же как познание греха является предварительным условием спасения души». «К жизни, — говорит Ганс Касторп мадам Шоша, — к жизни есть два пути: один из них — путь обычный, прямой и честный. Другой — недобрый, он ведет через смерть, и это — путь гения». Это понимание болезни и смерти как необходимого этапа на пути к мудрости, здоровью и жизни делают «Волшебную гору» романом о посвящении в таинства (initiation story)».
Учтем, что эта авторская оценка была дана через полтора десятилетия после написания произведения. За минувшие годы писателем был приобретен новый опыт, им были усвоены суждения критики о романе, у него появилась большая объективность в оценке своей книги. В «Волшебной горе» трагический финал бытия Пеперкорна и Нафты во многом идеализирован и героизирован. И с этой ошибочной установкой Т. Манна на возвышение этих персонажей нам неизбежно приходится считаться, тем более что осуществляется оно автором, как будет определено ниже, с позиции альтруизма.
Бывший «кофейный король» Питер Пеперкорн охарактеризован в романе как незаурядная личность. Величие пожилого голландца косвенно подкреплено господином Сеттембрини, как-то упомянувшим в разговоре с Касторпом о «головах мимов, в которых узнаешь черты Юлия Цезаря, Бетховена, Гете». Пеперкорн как бы причисляет себя к орлиному племени. Увидев однажды беркута в высоком небе, он почтительно назвал парящего хищника царем птиц, львом воздуха, птицей Юпитера и, фамильярно-дружественно, кумом. Энергия чувства и мысли этого «царственного заики» обычно обращена на самое красивое, изысканное, вкусное, редкостное.
Камнем преткновения для Пеперкорна оказалась его неизлечимая болезнь. Она привела его к неутешительному заключению, что он отныне лишь бессильное, бесполезное, недееспособное существо, что он больше не лев и не орел, что у него нет уже и никогда не будет сил отвечать требованиям жизни. Отчаянная боязнь его ненужности, обозначившееся полное поражение организма побудили бывшего плантатора мужественно распорядиться собой, остатком своего теперь лишь обременительного для других бытия, положиться в конце концов на действие особенно эффективного алкалоида. Через 14 лет в статье «Вертер» Гете» (1938) Т. Манн напомнил об избыточной силе поклонника Лотты и одновременно о его сознательном отношении к возможности избавиться от своих предстоящих физических и душевных страданий. «Самоустранение» свершает и Пеперкорн (а вслед за ним и Нафта), обнаруживая тем самым, по мысли писателя, «вертеровское» торжество «человеческой гордости и свободной воли».
Получается, что автор «Волшебной горы» питает известное понимание не только «морибундусов»-стоиков, но и самоотверженных рационалистов. Говоря о боязни голландца перед тем, что у него, возможно, не хватит решимости покончить с собой, Т. Манн полагает, что то был не мелкий и ничтожный страх, ибо бессилие, проявись только оно, оказалось бы, с точки зрения Пеперкорна, непростительным, а сознание долга и одержимость чувством чести остались бы нереализованными. Оставаясь хозяином своей судьбы, он удостоился со стороны мадам Шоша и Ганса Касторпа «бережной почтительности» к своей памяти и со стороны рассказчика — размышления о событии, «омраченном трагизмом великого отречения».
На свой отчаянный поступок старик отважился, как ему казалось, из доброжелательности к окружающим. Необычный личный мотив его в пользу избавления себя и других от обременительного периода предсмертных мучений довольно быстро разгадал Касторп.
Размышляя во время одной из прогулок о том, почему спорщики Нафта и Сеттембрини подчиняются удивительной притягательности натуры Пеперкорна, инженер размежевал про себя их текущие интересы: «Там — отрицанье и культ какого-то ничто. Тут — вечное «Да» и любовная устремленность духа к жизни!». Позднее это же положение Ганс повторил в коротком вечернем разговоре с Клавдией Шоша в санаторном вестибюле. Говоря о своей давней дружбе с болезнью и смертью и о зыбком смысле любви как таковой, молодой человек изрекает и сентенцию, выработанную «герметической педагогикой» и имеющую прямое отношение к финалу пеперкорновского бытия: «...любовь к смерти рождает любовь к жизни, к человечеству; вот в чем суть».
И в самом деле, тяжело больной последние месяцы, Пеперкорн чувствовал к окружающим особенное расположение. Он бывал весьма щедр на встречах, которые так часто устраивал для знакомых и незнакомых пациентов то в «Берггофе», то вне его — в деревне, в трактирах. Он чуток к соседям по столу в санаторной столовой, к официантке-карлице Эмеренции, к мадам Шоша, к Гансу Касторпу. В доверительной беседе с инженером он лестно отзывается о Сеттембрини. Читателю «Волшебной горы» нетрудно догадаться, что, вводя в свою кровь смертоносный яд, Пеперкорн тем самым хотел свершить еще одно «доброе дело» — избавить слугу-малайца, подругу Клавдию Шоша, сестру Берту и других от тягостной обязанности ухаживать за ним, когда он оказался бы окончательно прикованным к постели.
Всвоих произведениях писатель иногда представлял современные общественные отношения несколько отвлеченно. Потребность романиста заглянуть вместе с читателем вперед и одновременно несколько отвлеченный у него подход к пониманию разделения существующего общества на классы заметно сказываются на характеристике Пеперкорна. «Мудрец» как бы «вобрал в себя» сложную структуру общества. Он одинаково расположен к представителям разных слоев: к официантке и инженеру, к поварам и экс-иезуиту, к камердинеру и жене административного чиновника. Касторп однажды обнаружил, что в Пеперкорне, казалось, «не осталось уже ничего буржуазного, а появилось что-то простое, от рабочего, и вместе с тем монументальное, от, мраморного бюста». Последующее уточнение представления Ганса о голландце («наполовину старик-рабочий, наполовину бюст короля») еще более определенно свидетельствует о том, что для Т. Манна сглаживание социальных различий, забота о ближнем и благое единомыслие сограждан — норма поведения людей.
Грядущее сплочение рода человеческого на основе благожелательности и чистосердечия проповедуется в «Волшебной горе» в форме побратиства. Этим старинным славянским обычаем закрепления дружбы воспользовались во время своих искренних разговоров как Шоша и Касторп, так и Пеперкорн и Касторп. В первом случае Клавдия, зная, что в поведении Ганса немало честного доброжелательства, захотела заручиться его нравственной поддержкой: «Давай будем друзьями, заключим союз за него (Пеперкорна. — И. Д.), как обычно заключают против кого-нибудь. Согласен?». Во втором случае заключение «братского союза» с Гансом в «Берггофе» по инициативе голландца произошло ради выгоды мадам Шоша при красноречивом пояснении Пеперкорна («обычно союз заключают против третьих лиц, против людей, — словом, против кого-то, а мы заключим его из чувства любви к кому-то»).
Естественно, такая постановка вопроса о солидарности в художественном произведении многим читателям должна была показаться в 1924 г. необычной. Ведь гуманистическая мысль Т. Манна явно не согласовывалась тогда с не столь уж давним опытом и с современными историческими событиями (грабительский характер Первой мировой войны, ожесточенная борьба за передел мира между Антантой и Тройственным союзом в 1914-1918 гг., установление в 1922 г. фашистского режима в Италии). Действительность предлагала конкретные соглашения, объединения, призывы, обращенные против других государств, партий, народов, даже против соотечественников, и заключавшие в себе, как правило, большое социальное зло. Заговорив о содружестве, о братстве людей, Т. Манн сделал большой шаг вперед в деле развития общественного сознания современников.
Финальную позицию, занятую Пеперкорном, можно сопоставить с «вертеровской». Ведь оба персонажа преждевременно и по собственному желанию уходят из жизни. Но один из них, гетевский, поступает так все-таки по преимуществу из-за себя, а второй, манновский, главным образом ради других. Обреченный на гибель Пеперкорн — иной, нежели «неприкаянный» Вертер. Завещательное распоряжение последнего словно имеет целью побудить его близких и знакомых как можно дольше думать о нем. Прощальное же послание к Лотте: «Печалься же, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный кончает свои дни», — должно будет впредь неизбежно растравлять старое горе. Прекращение вертеровой жизни происшествие для всех заметное.
Прежде чем перенести действие романа во вторую, военную половину 1914 г., когда во фронтовой полосе Касторпу придется видеть смерть вокруг себя, Т. Манн подвергает молодого человека суровому испытанию (присутствие на поединке Нафты и Сеттембрини). На этот раз, в седьмой главе — в «Ссорах и обидах» — герой оказывается очевидцем гибели одного из них. Среди причин, приведших наставников Ганса к дуэли, было и резкое ухудшение их физического состояния. Несомненно, Нафта искал столкновения с итальянцем-гуманистом, чтобы обрести конец. Проснувшаяся в его сердце любовь к людям продиктовала ему тайный план взаимными выстрелами (попаданиями, ранениями) пресечь на поединке свою уже бесцельную дальнейшую жизнь и такую же жизнь Сеттембрини. Поэтому он решительно отвергает попытки к примирению с Сеттембрини, предпринятые Гансом.
Финал Нафты, над установлением смысла которого много размышляли литературоведы4, воспроизводит, так или иначе, финал Пеперкорна в соответствии с манерой Т. Манна повторять важные, с его точки зрения, ситуации и мысли. Оба трагических поступка оказались «необходимым» злом. Но Пеперкорн покинул мир скрыто, Нафта же действует откровенно, у многих на виду.
В романе воспитания Лео Нафта, поставивший к барьеру Сеттембрини, преподал Касторпу суровый, страшный, но значительный урок. Наставник хотел, чтобы ученик впредь не оставался пленником «гуманистической дряблости» и обрел, наконец, уверенность в своей пригодности «для борьбы», чтобы он в дальнейшем был человеком с твердой волей, радикальным, смелым, способным, если потребуется, действовать решительно. Настойчивость стреляющегося Нафты и должна была стать для Ганса призывом. Касторп не внял террористическим наставлениям учителя, даже в противовес им стал пацифистом.
По воле автора, в финале романа произошли и другие метаморфозы. Нафта, проповедовавший реакционные идеи, тактику убийств, под конец жизни неожиданно заявляет, что чувствует тщету любого террористического деяния. А гуманист Сеттембрини фактически превращается в шовиниста. Показательно, что даже Ганс, который почтительно прикрыл лицо мертвого Нафты платком, красноречиво молчал при расставании с Сеттембрини, советовавшим ему: «Сражайся храбро там, где близкие тебе по крови!».
Способностью и даже потребностью жертвовать своими личными удобствами и интересами во имя благополучия, интересов других наделен в «Волшебной горе» Иоахим Цимсен, добровольно ставший своего рода братом милосердия при умирающих больных. Самоотверженность — свойство и других персонажей — доктора Беренса, родственников Касторпа, которые семь лет содержали Ганса в «Берггофе», несчастной матери-мексиканки.
При всем гуманизме Т. Манна, мотив самоотречения в его «Волшебной горе» выражен не всегда последовательно и ясно. Ведь на деле куда более предпочтительным является сохранение жизни, нежели ее утрата, к тому же связанная с самоубийством. В связи с этим вспоминаются слова Т. Манна из письма Паулю Эренбергу от 12 августа 1910 г. о своей сестре Карле: «Что причинит она всем нам, как потрясет она этим безумным прекращением собственной жизни жизнь каждого из нас, об этом бедное дитя явно не задумывалось. Можешь представить себе горе нашей мамы». Акт нафтовского самоотречения к тому же связан с произволом «сильной» личности, привыкшей, чтобы с ней считались, связан с подавлением чужой воли. Тем не менее в пору создания романа писатель находил необходимым «прорываться» к милосердию при изображении даже кризисных и противоречивых ситуаций.
Но еще в статье «Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма» (1922) Т. Манн справедливо заметил, что творческие возможности, как жизнеутверждающая сила, обязаны «служить идеям и устремлениям неизменно развивающейся жизни и столь же закономерно восставать против отвращения к жизни, тяготения к смерти, помыслов, обращенных против свободы и прогресса». Определенное место в этом процессе заняла и концепция самоотречения в романе «Волшебная гора».
Л-ра: Филологические науки. – 1979. – № 3. – С. 42-46.
Произведения
Критика