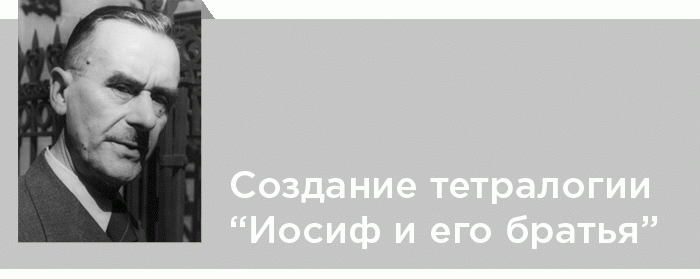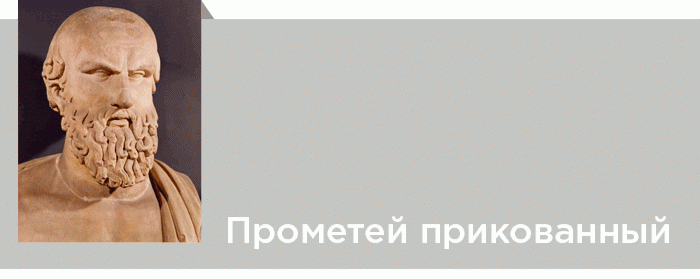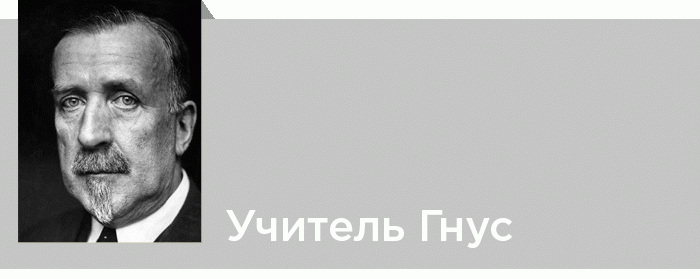Томас Манн. Будденброки
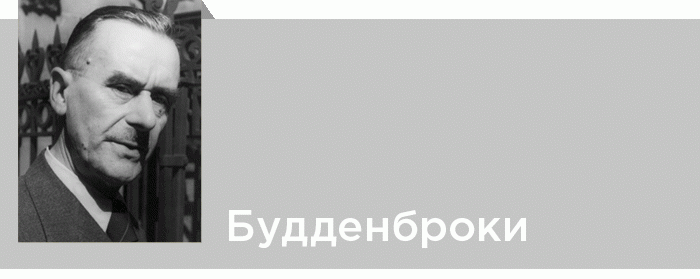
(Отрывок)
Часть первая
1
— «Что сие означает?.. Что сие означает?..»
— Вот именно, черт возьми, c'est la question, ma tres chere demoiselle!
Консульша Будденброк, расположившаяся рядом со свекровью на длинной белой софе с сиденьем, обтянутым желтой шелковой тканью, и спинкой, увенчанной золоченой головою льва, бросила быстрый взгляд на супруга, сидевшего тут же в креслах, и поспешила на помощь дочке, которая примостилась на коленях у деда, поближе к окну.
— Тони, — подсказала она, — «Верую, что господь бог…».
Маленькая Антония, хрупкая восьмилетняя девочка в платьице из легчайшего переливчатого шелка, чуть отвернув белокурую головку от лица деда и напряженно вглядываясь в пустоту серо-голубыми глазами, повторила еще раз: «Что сие означает?», — затем медленно произнесла: «Верую, что господь бог…» — вдруг с прояснившимся лицом быстро добавила: «…создал меня вместе с прочими тварями», — и, войдя в привычную колею, вся так и светясь радостью, единым духом выпалила весь член катехизиса, точно по тексту издания 1835 года, только что выпущенного в свет с соизволения высокомудрого сената.
«Когда уж разойдешься, — думала она, — то кажется, будто несешься с братьями на салазках с Иерусалимской горы. Все мысли вылетают из головы, и хочешь не хочешь, а нельзя остановиться».
— «К тому же: платье и обувь, — читала она, — пищу и питье, дом и двор, жену и детей, землю и скот…»
Но при этих словах старый Иоганн Будденброк неожиданно разразился смехом, вернее — хихикнул, громко и саркастически; этот смешок он уже давно держал наготове. Старика радовало, что вот опять удалось потешиться над катехизисом, — цель, ради которой, вероятно, и был учинен весь этот домашний экзамен. Он тут же осведомился о количестве земли и скота у Тони, спросил, почем она продает мешок пшеницы, и предложил незамедлительно вступить с ней в торговую сделку. Его круглое розовое лицо, которому он при всем желании не умел придать выражения суровости, обрамлялось белыми, как снег, напудренными волосами, а на широкий воротник мышино-серого сюртука спускалось некое подобие косички. В семьдесят лет он все еще хранил верность моде своей юности и хотя отказался от галунов между пуговицами и большими карманами, но длинных брюк в жизни не нашивал. Его широкий двойной подбородок уютно покоился на кружевном жабо.
Все стали вторить его смеху, — надо думать, из почтения к главе семьи. Мадам Антуанетта Будденброк, в девичестве Дюшан, захихикала совершенно как ее супруг. Эта дородная дама с тугими белыми буклями, спускавшимися на уши, в простом черном платье со светло-серыми полосами — что свидетельствовало о ее врожденной скромности, — держала в белоснежных, все еще прекрасных руках, маленький бархатный мешочек-«помпадур». Черты ее лица с течением времени стали до странности схожи с чертами мужа. Только разрез и живость темных глаз выдавали ее полуроманское происхождение: уроженка Гамбурга, она со стороны деда происходила из франко-швейцарской семьи.
Ее невестка, Элизабет Будденброк, урожденная Крегер, смеялась тем крегеровским хохотком, который начинался неопределенным шипящим звуком; смеясь, она прижимала к груди подбородок. Как все Крегеры, консульша отличалась величавой осанкой, и хоть и не была красавицей, но ее чистый, ровный голос, ее спокойные, уверенные и мягкие движения радовали всех и каждого своей чинной неторопливостью. Ее рыжеватые волосы, на макушке уложенные в маленькую корону и крупными локонами спускающиеся на уши, превосходно гармонировали с нежной белизной ее кожи, на которой здесь и там проступали крохотные веснушки. Наиболее характерным в ее лице с несколько длинным носом и маленьким ртом было полное отсутствие углубления между нижней губой и подбородком. Коротенький лиф с пышными буфами на рукавах, пришитый к узкой юбке из легкого, в светлых цветочках, шелка, оставлял открытой прекрасную шею, оттененную атласной ленточкой со сверкающим брильянтовым аграфом посередине.
Консул нервно заерзал в креслах. Он был одет в светло-коричневый сюртук с широкими отворотами, с рукавами, пышными наверху и плотно облегающими руку от локтя до кисти, и в узкие белые панталоны с черными лампасами. Плотный и широкий шелковый галстук, обвивая высокие стоячие воротнички, в которые упирался его подбородок, заполнял собою весь вырез пестрого жилета. Глаза консула, голубые и довольно глубоко посаженные, внимательным выражением напоминали глаза его отца, но казались более задумчивыми; серьезнее, определеннее были и черты его лица — нос с горбинкой сильно выдавался вперед, а щеки, до половины заросшие курчавыми белокурыми баками, были значительно менее округлы, чем щеки старика.
Мадам Будденброк слегка дотронулась до руки невестки и, уставившись ей в колени, тихонько засмеялась.
— Он неизменен, mon vieux! Не правда ли, Бетси? — Она выговаривала: «неизмэнен».
Консульша только слабо погрозила своей холеной рукой, на которой тихонько звякнули браслеты, и затем этой же рукой — излюбленный ее жест! — быстро провела по щеке от уголка рта ко лбу, словно откидывая непокорную прядь волос.
Но консул, подавляя улыбку, произнес с легким укором:
— Папа, вы опять потешаетесь над религией…
Будденброки сидели в «ландшафтной», во втором этаже просторного старинного дома на Менгштрассе, приобретенного главой фирмы «Иоганн Будденброк», куда совсем недавно перебралось его семейство. На добротных упругих шпалерах, отделенных от стен небольшим полым пространством, были вытканы разновидные ландшафты таких же блеклых тонов, как и чуть стершийся ковер на полу, — идиллии во вкусе XVIII столетия, с веселыми виноградарями, рачительными хлебопашцами, пастушками в кокетливых бантах, сидящими на берегу прозрачного ручья с чистенькими овечками на коленях или целующимися с томными пастушками… Все это, за редким исключением, было изображено на фоне желтоватого заката, весьма подходившего к желтому штофу лакированной белой мебели и к желтым шелковым гардинам на окнах.
Большая ландшафтная была меблирована относительно скупо. Круглый стол на тонких и прямых ножках, с золотым орнаментом, стоял не перед софой, а у другой стены, напротив маленькой фисгармонии, на крышке которой лежал футляр с флейтой. Кроме кресел, чопорно расставленных вдоль стен, здесь еще был маленький рабочий столик возле окна, а около софы — хрупкий изящный секретер, уставленный безделушками.
Против окон, в полутьме, сквозь застекленную дверь виднелись колонны, ротонда; белая двустворчатая дверь по левую руку вела в большую столовую, а направо, в полукруглой нише, стояла печь; за ее искусно сработанной и до блеска начищенной кованой дверцей уютно потрескивали дрова.
В этом году рано наступили холода. За окнами, на другой стороне улицы, уже совсем пожелтела листва молодых лип, которыми был обсажен церковный двор; ветер завывал среди могучих стрельчатых башен и готических шпилей Мариенкирхе, моросил холодный дождь. По желанию мадам Будденброк-старшей в окна уже были вставлены вторые рамы.
Согласно заведенному порядку, Будденброки каждый второй четверг собирались вместе. Но сегодня, кроме всех членов семьи, проживавших в этом городе, приглашение запросто отобедать получили еще несколько друзей дома. Время близилось к четырем часам, Будденброки сидели в сгущающихся сумерках и ждали гостей.
Маленькая Антония все «неслась на салазках», не позволяя деду прервать себя, и только ее оттопыренная верхняя губка быстро-быстро выставлялась над нижней. Вот санки уже подлетели к подножию Иерусалимской горы, но, не в силах остановить их, она помчалась дальше…
— Аминь, — сказала она. — Я еще и другое знаю, дедушка.
— Tiens! Она знает еще и другое! — воскликнул старик, делая вид, что его снедает любопытство. — Ты слышишь, мама? Она знает еще и другое! Ну кто мог бы сказать…
— Если теплый удар, — говорила Тони, кивая головкой при каждом слове, — так, значит, это молния; а если холодный удар, так, значит, — гром.
Тут она скрестила руки и окинула смеющиеся лица родных взглядом человека, уверенного в своем успехе. Но г-н Будденброк вдруг рассердился на ее премудрость и стал допытываться, кто набил голову ребенка таким вздором. А когда выяснилось, что это Ида Юнгман, недавно приставленная к детям мамзель из Мариенвердера, то консулу пришлось взять бедную Иду под свою защиту.
— Вы слишком строги, папа. Почему бы в ее возрасте и не иметь своих собственных, пусть фантастических, представлений обо всем этом?..
— Excusez, mon cher, mais c'est une folie! Ты же знаешь, что я терпеть не могу, когда детям забивают мозги чепухой! Как? Гром? Да чтоб ее самое громом разразило! Оставьте меня в покое с вашей пруссачкой…
Старый Будденброк не выносил Иду Юнгман. Он не был ограниченным человеком и немало повидал на своем веку. Еще в 1813 году ему довелось (в карете, запряженной цугом) объездить Южную Германию, где он, будучи военным поставщиком, закупал хлеб для прусской армии, а позднее побывать в Париже и в Амстердаме. Почитая себя человеком просвещенным, он отнюдь не был склонен осуждать все, что находилось за воротами его родного готического городка. Но при всем том, если не говорить о его разнообразных торговых связях, был значительно строже в выборе знакомых, чем его сын, консул Будденброк, и куда менее охотно сближался с «чужестранцами». Посему, когда его дети, вернувшись из поездки в Западную Пруссию, привезли с собой упомянутую двадцатилетнюю девицу, сироту, дочь трактирщика из Мариенвердера, умершего за несколько дней до прибытия туда молодых Будденброков, консулу пришлось выдержать нешуточную сцену с отцом, во время которой старик говорил только по-французски и по-нижненемецки… Вообще же Ида Юнгман, усердная экономка и отличная воспитательница, благодаря своему врожденному такту и прусскому чинопочитанию как нельзя лучше пришлась ко двору в семействе Будденброков. Преисполненная самых аристократических воззрений, эта особа с неподражаемой тонкостью различала высший свет от просто света, среднее сословие — от пониже среднего, гордилась своей преданной службой людям столь высокопоставленным и бывала очень недовольна, если Тони заводила дружбу с какой-нибудь из своих одноклассниц, принадлежавшей, по мнению мамзель Юнгман, разве что к верхушке среднего сословия.
Легкая на помине, она в эту минуту как раз промелькнула за стеклянной дверью в ротонде и вошла в ландшафтную. Рослая, сухопарая, в черном платье, гладко причесанная и с добродетельным выражением лица, она вела за руку маленькую Клотильду — необыкновенно худенькую девочку в пестром ситцевом платьице, с тусклыми пепельными волосами и постным личиком старой девы. Клотильда — отпрыск боковой и совершенно неимущей линии, тихое, малозаметное существо, взятая в дом как сверстница Антонии, была дочерью племянника старого Будденброка, управляющего небольшим имением под Ростоком.
— Стол накрыт, — объявила мамзель Юнгман, при этом «р», которое она в детстве вовсе не умела произносить, как-то странно пророкотало в ее глотке. — Клотильда так усердно помогала на кухне, что Трине почти не осталось работы.
Господин Будденброк ухмыльнулся в свое жабо («иноземное» произношение Иды неизменно смешило его), консул же потрепал племянницу по щечке и одобрительно заметил:
— Молодец, Тильда! Недаром говорится: трудись и молись! Нашей Тони следовало бы брать с тебя пример, — ее частенько одолевают лень и гордыня…
Тони опустила головку и снизу вверх поглядела на деда, зная, что он непременно вступится за нее.
— Э, нет! Так не годится, — сказал старик. — Голову выше. Тони, courage! Каждому свое. Заметь себе: одинаковых людей не бывает. Тильда хорошая девочка, но и мы не плохи. J'ai raison, Бетси?
Он обернулся к невестке, которая обычно соглашалась с его мнениями, тогда как мадам Антуанетта, скорее из благоразумия, чем по убеждению, всегда становилась на сторону консула. Так оба поколения, словно в chasse croise, протягивали друг другу руки.
— Вы очень добры к ней, папа, — сказала консульша. — Ну, Тони постарается стать умной и трудолюбивой… Что, мальчики еще не пришли из школы? — спросила она Иду.
Но в это время Тони, которая все еще сидела на коленях у деда и смотрела в «шпиона», воскликнула:
— Том и Христиан идут по Иоганнесштрассе… И господин Гофштеде… и дядя доктор тоже…
Тут колокола на Мариенкирхе заиграли хорал, — динь! динь! дон! — не очень стройно, так что с трудом можно было разобрать, что, собственно, они вызванивают, но все же торжественно и гулко. А когда затем вступили маленький и большой колокола, радостно и величаво оповещая город, что вот уже четыре часа, — внизу, у обитой войлоком парадной двери, задребезжал колокольчик, и действительно вошли Том и Христиан вместе с первыми гостями: Жан-Жаком Гофштеде — поэтом, и доктором Грабовым — домашним врачом.
2
Господин Гофштеде, местный поэт, уж наверное принесший с собой стишки по случаю сегодняшнего обеда, был всего на несколько лет моложе г-на Будденброка-старшего и носил костюм того же старинного покроя: зеленый сюртук, в который он сегодня облекся, только по цвету разнился от сюртука его старшего друга. Более худой и подвижный, нежели Иоганн Будденброк, г-н Гофштеде обращал на себя внимание живостью маленьких зеленоватых глаз и на редкость острым длинным носом.
— Приношу сердечную благодарность, — сказал он, пожав руки мужчинам и щегольнув перед дамами (в особенности перед консульшей, которую он почитал превыше всех остальных) парочкой-другой изысканнейших комплиментов, какие уже не умело отпускать новейшее поколение, и к тому же сопровожденных приятнейшей и приветливейшей улыбкой. — Приношу сердечную благодарность за любезное приглашение, друзья мои. Эти два молодых человека, — он указал на Тома и Христиана, стоявших подле него в синих курточках с кожаными поясами, — повстречались нам, мне и доктору, на Кенингштрассе, по которой они возвращались со своих учебных занятий. Отличные ребята, госпожа консульша! Томас — о, это серьезный, положительный ум! Не подлежит сомнению, что он станет негоциантом. Христиан же — тот, напротив, чуть-чуть шарлатан, а? Чуть-чуть incroyable. Но я не скрываю своего engouement к нему. Он пойдет по ученой части: ум у мальчика острый, — великолепные задатки!..
Господин Будденброк запустил два пальца в свою золотую табакерку:
— Обезьяна он! Может, ему стать поэтом? А, Гофштеде?
Мамзель Юнгман плотно задвинула занавеси на окнах, и мгновение спустя комнату озарил слегка дрожащий, но покойный и отрадный для глаза свет от многочисленных свечей в хрустальной люстре и в канделябрах, стоявших на секретере.
— Ну, Христиан, — обратилась к сыну консульша; волосы ее блеснули золотом, — чем вы занимались сегодня после обеда?
Выяснилось, что последними уроками были чистописание, арифметика и пение.
Христиан, семилетний мальчуган, уже сейчас до смешного походил на отца. Те же небольшие круглые, глубоко посаженные глаза, та же, теперь уже различимая, линия большого горбатого носа; что-то неуловимое в очертаниях скул свидетельствовало о том, что его лицо недолго будет хранить свою детскую округлость.
— Мы ужас как смеялись сегодня! — словоохотливо начал Христиан, и глаза его забегали. — Послушайте, что господин Штенгель сказал Зигмунду Кестерману! — Мальчик весь как-то сгорбился, тряхнул головой и, обратив свой взор в пространство, внушительно проговорил: — «Внешность, милое мое дитя, у тебя чинная и благопристойная, но душа, милое дитя, — душа у тебя черная…» — Последнее слово он произнес картаво, так что выходило «тшойная», и его лицо при этом со столь неподражаемым комизмом изобразило отвращение к «внешней» чинности и благопристойности, что все присутствующие разразились хохотом.
— Обезьяна он! — сдерживая смех, повторил старый Будденброк.
Господин Гофштеде был вне себя от восторга.
— Charmant! — вскричал он. — Бесподобно! Надо знать Марцеллуса Штенгеля! Ну точь-в-точь! Нет, это прелестно!
Томас, начисто лишенный подражательного дара, стоял рядом с братом и, не испытывая к нему ни малейшей зависти, только от души смеялся. Зубы у него были не очень хороши — мелкие и желтоватые, но зато нос отличался на редкость благородной формой; глазами и овалом лица он сильно напоминал деда.
Гости и хозяева сидели кто в креслах, кто на софе, болтая с детьми, обмениваясь впечатлениями о новом доме, о рано наступивший холодах. Г-н Гофштеде, стоя у секретера, любовался великолепной чернильницей севрского фарфора в виде охотничьей собаки. Доктор Грабов, ровесник консула, с благодушной улыбкой на длинном добром лице, выглядывавшем из поросли жидких бакенбардов, рассматривал пирожные, булочки с изюмом и всевозможные солонки, выставленные напоказ гостям. То была «хлеб-соль», которой друзья и родственники обильно одарили Будденброков по случаю новоселья. А дабы каждому было ясно, что дары исходят из богатых домов, роль хлеба здесь выполняло сладкое, пряное и сдобное печенье, а соль была насыпана в массивные золотые солонки.
— Да, работы у меня будет немало, — сказал доктор, глядя на эти сласти, и погрозил детям пальцем. Затем, покачав головой, взвесил на руке тяжелый золотой судок для соли, перца и горчицы.
— От Лебрехта Крегера, — сказал г-н Будденброк с насмешливой улыбкой. — Он неизменно щедр, мой любезный сват! Я ему ничего подобного не даривал, когда он выстроил себе летний дом за Городскими воротами. Но… что поделаешь: благородные замашки! Широкая натура! Вот уж в полном смысле cavalier a la mode.
Колокольчик у дверей прозвенел на весь дом. Явился пастор Вундерлих, приземистый пожилой господин в длиннополом черном сюртуке, белолицый, веселый, добродушный, с блестящими серыми глазами и со слегка припудренной шевелюрой. Он уже много лет вдовел и привык считать себя холостяком, таким же, как долговязый маклер Гретьенс, пришедший вместе с ним, который то и дело прикладывал к глазам сложенные трубою руки, точно рассматривал картину: он был общепризнанный ценитель искусства.
Вслед за ними прибил сенатор доктор Лангхальс с женой, давние друзья дома, и виноторговец Кеппен, большеголовый, с красным лицом, торчавшим между высокими буфами рукавов, в сопровождении своей дебелой супруги.
Уже пробило половина пятого, когда, наконец, заявились Крегеры — старики и молодые: консул Крегер с женой и сыновьями, Якобом и Юргеном, однолетками Тома и Христиана. Почти одновременно с ними вошли родители консульши Крегер — оптовый лесоторговец Эвердик с женой; нежные супруги, и сейчас еще при всех именовавшие друг друга альковными кличками.
— Важные господа не спешат никогда, — произнес консул Будденброк и склонился к руке тещи.
— Но зато в полном сборе, — с этими словами Иоганн Будденброк широким жестом указал на многолюдную крегеровскую родню и пожал руку старику Крегеру.
Лебрехт Крегер, cavalier a la mode, высокий, изысканный господин, хотя и продолжал слегка припудривать волосы, но одет был по последней моде. На его бархатном жилете сверкали два ряда пуговиц из драгоценных камней. Юстус, его сын, носивший маленькие бакенбарды и высоко подкрученные усы, фигурой и манерами очень походил на отца; даже движения рук у него были такие же округлые и грациозные.
Никто не спешил садиться, все стояли в ожидании, лениво ведя предобеденный разговор. Но вот Иоганн Будденброк-старший предложил руку мадам Кеппен и громко провозгласил:
— Ну-с, надо думать, что у всех уже разыгрался аппетит, а посему, mesdames et messieurs…
Мамзель Юнгман и горничная распахнули белую дверь в большую столовую, и общество неторопливо направилось туда в приятной уверенности, что уж где-где, а у Будденброков гостей всегда ждет лакомый кусочек…
3
Когда все шествие двинулось в столовую, младший хозяин схватился за левый нагрудный карман своего сюртука, — там хрустнула какая-то бумага, — и любезная улыбка, внезапно сбежавшая с его лица, уступила место озабоченному, удрученному выражению; на висках у него напряглись и заиграли жилки, как у человека, крепко стиснувшего зубы. Для виду сделав несколько шагов по направлению к двери, он отступил в сторону и отыскал глазами мать, которая в паре с пастором Вундерлихом замыкала процессию и уже готовилась переступить порог столовой.
— Pardon, милый господин пастор… На два слова, мама.
Пастор благодушно кивнул, и консул Будденброк увлек старую даму обратно к окну ландшафтной.
— Я ненадолго задержу вас, мама, — торопливым шепотом произнес он, отвечая на вопросительный взгляд ее темных глаз. — Письмо от Готхольда. — Он извлек из кармана сложенный вдвое конверт, запечатанный сургучной печатью. — Это его почерк… Уже третье посланье, а папа ответил только на первое. Как быть? Его принесли в два часа, и я давно должен был вручить его отцу. Но неужели именно мне надо было испортить ему праздник? Что вы скажете? Я могу сейчас пойти и вызвать отца.
— Нет, ты прав, Жан! Лучше повременить, — отвечала мадам Будденброк и быстрым привычным движением дотронулась до плеча сына. — И о чем только он может писать? — огорченно добавила она. — Все стоит на своем, упрямец, и требует возмещения за дом… Нет, нет, Жан, только не сейчас… Может быть, позднее вечером, когда все разойдутся…
— Что делать? — повторил консул и уныло покачал головой. — Я сам не раз готов был просить отца пойти на уступки… Нехорошо, чтобы люди думали, будто я, единокровный брат, вошел в доверие к родителям и интригую против Готхольда… Да я не хочу, чтобы и отец хоть на минуту заподозрил меня в неблаговидном поступке… Но, по чести, я все-таки совладелец, не говоря уж о том, что мы с Бетси в настоящее время вносим положенную плату за третий этаж… Что касается сестры во Франкфурте, то здесь все в полном порядке. Ее муж уже сейчас, при жизни папа, получил отступные — четверть покупной стоимости дома… Это выгодное дело, и папа очень умно и тактично уладил его — не только в наших интересах, но и в интересах фирмы. И если он так непреклонен в отношении Готхольда, то…
— Ну, это, Жан, пустое. Твоя точка зрения на это дело ясна каждому. Беда в том, что Готхольд полагает, будто я, как мачеха, забочусь только о собственных детях и всячески стараюсь отдалить от него отца.
— Но он сам виноват! — воскликнул консул довольно громко и тут же, оглянувшись на дверь, понизил голос: — Он, и только он, виноват во всей этой прискорбной истории. Судите сами! Почему он не мог вести себя разумно? Зачем ему понадобилось жениться на этой мадемуазель Штювинг с ее… лавкой? — Выговорив последнее слово, консул досадливо и не без смущения рассмеялся. — Конечно, нетерпимость отца в отношении этой злополучной лавки — чудачество, но Готхольду следовало бы уважить маленькую слабость старого человека.
— Ах, Жан, самое лучшее, если бы папа уступил.
— Но разве я вправе ему это советовать? — прошептал консул, взволнованно потирая лоб. — Я заинтересованное лицо и Потому должен был бы сказать: папа, заплати ему. Но, с другой стороны, я компаньон, обязанный блюсти интересы фирмы; и если отец не желает, идя навстречу требованиям непокорного, взбунтовавшегося сына, изымать из оборотного капитала такую сумму… ведь речь идет об одиннадцати тысячах талеров, а это немалые деньги… Нет, нет! Я не могу ему это советовать, но не могу и отговаривать его. Я ничего знать не желаю об этом деле. Мне неприятно только предстоящее объяснение с отцом.
— Вечером, Жан! Только вечером! Идем, нас ждут…
Консул поглубже засунул письмо в карман, предложил руку матери и они вдвоем пошли в ярко освещенную столовую, где общество только что кончило рассаживаться по местам за длинным обеденным столом.
Статуи богов на небесно-голубом фоне шпалер почти рельефно выступали между стройных колонн. Тяжелые красные занавеси на окнах были плотно задвинуты. Во всех четырех углах комнаты в высоких золоченых канделябрах горело по восемь свечей, не считая тех, что были расставлены на столе в серебряных подсвечниках. Над громоздким буфетом, напротив двери в ландшафтную, висела большая картина — какой-то итальянский залив, туманно-голубые дали которого выглядели особенно красиво в этом освещении. Вдоль стен стояли большие диваны с прямыми спинками, обитые красным Дамаском.
Лицо мадам Будденброк не хранило ни малейших следов тревоги или огорчения, когда она опустилась на свое место между стариком Крегером и пастором Вундерлихом.
— Bon appetit! — произнесла она, торопливо и ласково кивнув головою, и быстрым взглядом окинула весь стол, вплоть до нижнего его конца, где разместились дети.
4
— Ну-с, доложу я вам, есть с чем поздравить Будденброка! — Мощный голос г-на Кеппена перекрыл гул застольной беседы как раз в минуту, когда горничная с обнаженными красными руками, в домотканой полосатой юбке и в маленьком белом чепчике на затылке, при деятельном участии мамзель Юнгман и второй горничной «сверху» — то есть из апартаментов консульши — подала на стол гренки и дымящийся бульон с овощами, и кое-кто уже неторопливо приступил к еде.
— Поздравляю от всей души! Какой простор! Знатный дом, да и только! Да-с, доложу я вам, здесь жить можно!..
Господин Кеппен не был принят у прежних владельцев: он недавно разбогател, родом был отнюдь не из патрицианской семьи и, к сожалению, еще не расстался с привычкой пересыпать свою речь всевозможными «доложу я вам» и так далее. К тому же он говорил не «поздравляю», а «проздравляю».
— По цене и товар, — сухо вставил г-н Гретьенс, бывший маклером при покупке этого дома, и, сложив руки трубкой, принялся рассматривать залив.
Гостей — родственников и друзей дома — рассадили по мере возможности вперемежку. Но до конца выдержать этот распорядок не удалось, и старики Эвердики, сидя, как всегда, чуть ли не на коленях друг у друга, то и дело обменивались нежными взглядами. Зато старый Крегер, прямой и высокий, восседая между сенаторшей Лангхальс и мадам Антуанеттой, царственно делил свои впрок заготовленные шутки между обеими дамами.
— Когда, собственно, был построен этот дом? — обратился через стол г-н Гофштеде к старому Будденброку, который веселым и слегка насмешливым голосом переговаривался с мадам Кеппен.
— Anno… погоди-ка… anno… тысяча шестьсот восьмидесятом, если не ошибаюсь. Впрочем, мой сын лучше меня это знает…
— В восемьдесят втором, — подымая глаза от тарелки, уточнил консул, сидевший несколько ниже; он остался без дамы, и его соседом был сенатор Лангхальс. — Постройку закончили зимой восемьдесят второго года. «Ратенкамп и компания» тогда быстро шли в гору… Тяжело думать об упадке, в котором вот уже двадцать лет находится эта фирма…
Разговор замолк, и с полминуты за столом царила тишина. Все уставились в тарелки, думая о семействе, некогда столь славном. Ратенкампы выстроили этот дом и жили в нем, а позднее, обеднев и опустившись, должны были его покинуть…
— Еще бы не тяжело, — произнес наконец маклер Гретьенс, — когда вспомнишь, какое безумие послужило причиной этого упадка… О, если бы не этот Геельмак, которого Дитрих Ратенкамп взял тогда себе в компаньоны! Я просто за голову схватился, когда тот начал хозяйничать. Мне-то, господа, достоверно известно, какими бесстыдными спекуляциями он занимался за спиной у Ратенкампа, как раздавал направо и налево векселя и акцепты фирмы… Ну и доигрался! Сначала иссякли кредиты, потом не стало обеспечении… Вы себе и представить не можете… А кто склады контролировал? Геельмак? О нет, он и его присные годами хозяйничали там, как крысы! А Ратенкамп на все смотрел сквозь пальцы…
— На Ратенкампа нашла какая-то одурь, — сказал консул; его лицо приняло мрачное замкнутое выражение; склонившись над тарелкой, он помешивал ложкой суп и только время от времени поглядывал своими маленькими круглыми, глубоко посаженными глазами на верхний конец стола. — Его словно пригибала к земле какая-то тяжесть. И, по-моему, в этом нет ничего удивительного. Что заставило его связаться с этим Геельмаком, у которого и капитала-то почти не было, а была только дурная слава? Видимо, он ощущал потребность свалить на кого-нибудь хоть часть своей огромной ответственности, ибо знал, что неудержимо катится в пропасть. Эта фирма окончила свое существование, старый род пришел в упадок. Вильгельм Геельмак явился только последним толчком к гибели…
— Вы, значит, полагаете, уважаемый господин консул, — сказал пастор Вундерлих, наполняя красным вином бокал своей дамы и свой собственный, — что все происшедшее совершилось бы и без этого Геельмака и его диких поступков?
— Ну, не совсем так, — отвечал консул, ни к кому в отдельности не обращаясь, — но мне думается, что встреча Дитриха Ратенкампа с Геельмаком была необходима и неизбежна, дабы могло свершиться предначертание рока… Он, видимо, действовал под неумолимым гнетом необходимости… Я уверен, что он в какой-то мере раскусил своего компаньона и не был в таком уж полном неведении относительно того, что творилось на складах. Но он словно окаменел…
— Ну, assez, Жан! — сказал старый Будденброк и положил ложку. — Это одна из твоих idees.
Консул с рассеянной улыбкой приблизил свой бокал к бокалу отца. Но тут заговорил Лебрехт Крегер:
— Оставим прошлое и вернемся к радостному настоящему.
С этими словами он осторожным и изящным жестом взял за горлышко бутылку белого вина с пробкой, украшенной маленьким серебряным оленем, слегка отодвинул ее от себя и принялся внимательно рассматривать этикетку.
— «К.-Ф.Кеппен», — прочитал он и любезно улыбнулся виноторговцу. — Ах, что бы мы были без вас!
Горничные стали сменять мейссенские тарелки с золотым ободком, причем мадам Антуанетта зорко наблюдала за их движениями, а мамзель Юнгман отдавала приказания в переговорную трубу, соединявшую столовую с кухней. Когда принесли рыбу, пастор Вундерлих, усердно накладывая себе на тарелку, сказал:
— А ведь настоящее могло быть и не столь радостным. Молодежь, которая сейчас сорадуется с нами, старыми людьми, и не представляет себе, что когда-то все шло по-другому. Я вправе сказать, что моя личная судьба нередко сплеталась с судьбами наших милых Будденброков… Всякий раз, как я смотрю на такую вот вещь, — он взял со стола одну из тяжеловесных серебряных ложек и обернулся к мадам Антуанетте, — я невольно спрашиваю себя, не ее ли в тысяча восемьсот шестом году держал в руках наш друг, философ Ленуар, сержант его величества императора Наполеона, и вспоминаю, мадам, нашу встречу на Альфштрассе…
Мадам Будденброк смотрела прямо перед собой с улыбкой, немного застенчивой и мечтательно обращенной в прошлое. Том и Тони на нижнем конце стола, которые терпеть не могли рыбу и внимательно прислушивались к разговору взрослых, почти одновременно закричали:
— Расскажите, расскажите, бабушка!
Но пастор, по опыту зная, что она неохотно распространяется об этом случае, для нее несколько конфузном, уже сам начал рассказ об одном давнем происшествии, который дети никогда не уставали слушать и который кому-нибудь из гостей, может быть, был и в новинку.
— Итак, представьте себе ноябрьский день; на дворе стужа и дождь льет как из ведра; я ходил по делам своего прихода и вот возвращаюсь по Альфштрассе, раздумывая о наступивших трудных временах. Князь Блюхер бежал, город наш занят французами, но волнение, всех обуявшее, почти не чувствуется. Улицы тихи, люди предпочитают отсиживаться по домам. Мясник Праль, который, по обыкновению, засунув руки в карманы, вышел постоять у дверей своей лавки и вдруг громовым голосом воскликнул: «Да что же это делается? Бог знает, что за безобразие!» — получил пулю в голову, и конец… Так вот иду я и думаю: надо бы заглянуть к Будденброкам; мое появление может оказаться весьма кстати: муж лежит больной — рожа на голове, а у мадам с постоями хлопот не обобраться.
И в эту самую минуту, как бы вы думали, кто попадается мне навстречу? Наша достоуважаемая мадам Будденброк! Но в каком виде! Дождь, а она идет — вернее, бежит — без шляпы, шаль едва держится на плечах, а куафюра у нее так растрепана… — увы, это правда, мадам! — что вряд ли здесь даже было применимо слово «куафюра».
«О, сколь приятный сюрприз, — говорю я и беру на себя смелость удержать за рукав мадам, которая меня даже не замечает, и мое сердце сжимается недобрым предчувствием. — Куда вы так спешите, любезнейшая?» Тут она меня узнает и кричит: «Ах, это вы… Прощайте! Все кончено! Я сейчас брошусь в Траву». — «Боже вас упаси! — говорю я и чувствую, что кровь отливает у меня от лица. — Это место совсем для вас неподходящее. Но что случилось?» И я держу ее так крепко, как это допускает мое почтительное отношение к мадам Будденброк. «Что случилось? — повторяет она, дрожа всем телом. — Они залезли в мое серебро, Вундерлих! Вот что случилось! А у Жана рожа на голове, и он не в состоянии встать с постели. Да, впрочем, будь он на ногах, он тоже ничем не мог бы помочь мне. Они воруют мои ложки, мои серебряные ложки! Вот что случилось, Вундерлих! И я сейчас утоплюсь в Траве».
Ну что ж, я держу нашу дорогую мадам Будденброк и говорю все, что говорят в таких случаях. Говорю: «Мужайтесь, дитя мое! Все обойдется!» И еще: «Мы попробуем поговорить с этими людьми. Возьмите себя в руки, заклинаю вас! Идемте скорее!» И я веду ее домой. В столовой мы застаем ту же картину, от которой бежала мадам: солдаты — человек двадцать — роются в ларе с серебром. «С кем из вас, милостивые государи, мне позволено будет вступить в переговоры?» — учтиво обращаюсь я к ним. В ответ раздается хохот: «Да со всеми, папаша!» Но тут один выходит вперед и представляется мне — длинный, как жердь, с нафабренными усами и красными ручищами, которые торчат из обшитых галунами обшлагов мундира. «Ленуар, — говорит он и отдает честь левой рукой, так как в правой держит связку из полдюжины ложек, — Ленуар, сержант. Чем могу служить?» — «Господин офицер! — говорю я, взывая к его point d'honneur. — Неужели подобное занятие совместимо с вашим блистательным званием? Город не сопротивлялся императору». — «Что вы хотите, — отвечает он, — война есть война! Моим людям пришлась по душе эта утварь…» — «Вам следует принять во внимание, — перебил я его, так как меня вдруг осенила эта мысль, — что дама, — говорю я, ибо чего не скажешь в таком положении, — не немка, а скорее ваша соотечественница, француженка…» — «Француженка?» — переспрашивает он. И что, по-вашему, добавил к этому сей долговязый рубака? «Так, значит, эмигрантка? — добавил он. — Но в таком случае она враг философии». Я чуть не прыснул, но овладел собою. «Вы, как я вижу, человек ученый, — говорю я. — Повторяю, заниматься таким делом вам не пристало». Он молчит, потом внезапно заливается краской, швыряет ложки обратно в ларь и кричит: «С чего вы взяли, что я не просто любуюсь ими? Хорошенькие вещички, ничего не скажешь! И если кто-нибудь из моих людей возьмет штучку-другую себе на память…»
Ну, надо сказать, что они немало взяли себе на память, тут уж не помогли никакие призывы ни к божеской, ни к человеческой справедливости. Они не ведали иного бога, кроме этого ужасного маленького человека…
Произведения
Критика