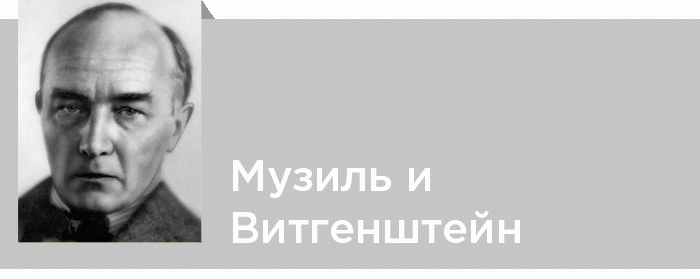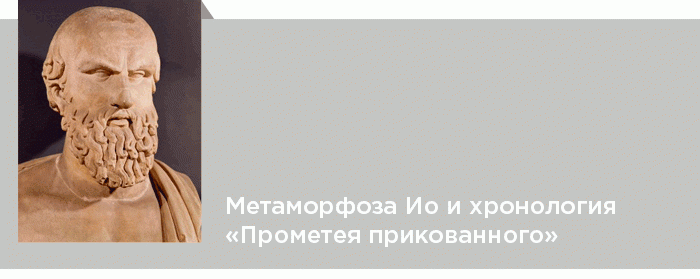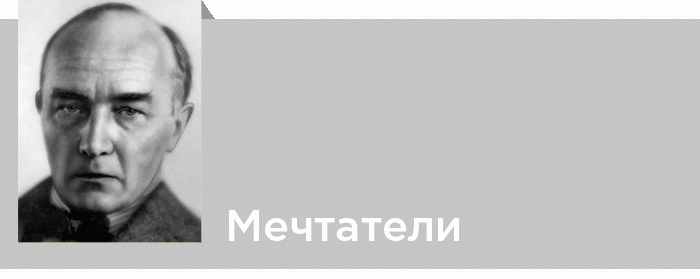О свойствах «человека без свойств»

Юрий Архипов
Томас Манн утверждал, что если человечество когда-нибудь образумится и перестанет разбазаривать свое время, то от всей художественной литературы, написанной по-немецки в первой половине XX века, уцелеет один только «Человек без свойств» австрийца Роберта Музиля. Судя по всему, такое время еще не приблизилось. Недавно один шутих из боннских студентов послал главу музилева романа в толстый журнал и получил незамедлительную отповедь: редактор невысоко отозвался о литературных достоинствах присланного сочинения и дал совет дебютанту попытать счастья в каком-нибудь философском издании.
Странная слава, сокрушался сам Музиль, — очень большая в очень маленьком кругу читателей. Кто знает, может быть, теперь этот круг расширится за счет пытливых «русских любомудров». Во всяком случае, как бы ни оценивать этот роман, нельзя не порадоваться тому, что пора заочного отношения к нему кончилась благодаря прекрасному переводу С. Апта.
Ровесник символистского поколения (его дата рождения точно пришлась между таковыми Андрея Белого и Александра Блока), Роберт Музиль работал над романом последние двенадцать лет своей жизни, оборвавшейся в 1942 году в антифашистской эмиграции. До этого он успел немало, что очень важно для происхождения «интеллектуальной энциклопедии своего времени», как нередко называют его роман. Выпускник привилегированного военного училища (того самого, в котором учился и Рильке), Музиль поведал о своем казарменном детстве в повести «Смятения воспитанника Тёрлесса», получившей широкий резонанс в австро-немецких литературных кругах начала века. В течение нескольких лет он редактировал очень престижный, несколько даже снобистский журнал «Нейе рундшау». Окончил Технический институт в Штутгарте и получил патент на изобретение жироскопа. Окончил затем философский факультет Берлинского университета и защитил диссертацию о Махе. В годы Первой мировой войны руководил австрийским пресс-центром. В двадцатые годы стяжал славу как один из остроумнейших театральных критиков.
Инженер, математик, философ, человек зоркой наблюдательности и точного, въедливого ума, Музиль испытывал органическое отвращение ко всякой приблизительности и богемной разболтанности иных деятелей венского импрессионизма, с которыми делил пристрастие к анализу ощущений. В своем стремлении добраться до самых границ, за которыми начинается несказанное, не уловимое в слове, Музиль перекликается с установками сложившейся вокруг Людвига Витгенштейна венской неопозитивистской школы. Автогерой его романа Ульрих поначалу и задумывался автором как участник неопозитивистского кружка. Однако в дальнейшем Музиль отказался от этой слишком обязывающей привязки, и не случайно: сфера иррационального отнюдь не выносится им за скобки, она выступает в романе как вызов и испытание для способностей ума и сердца героя.
Тематически «Человек без свойств» отчетливо расслаивается на два плана. Это роман-сатира с окарикатуренной панорамой буржуазно-аристократической Вены кануна Первой мировой войны и в то же время философский роман одного героя, занятого прожектами своего предстоящего духовного «прорастания» в жизнь, — как бы утопический эпос индивидуального сознания. Оба плана взаимно проникают и переплетаются и по манере исполнения вобраны в рамки романа- эссе, где эссеизм становится не только стилистической стихией книги и даже не только основным принципом художественной конструкции, но со временем и философией жизни главного героя. Действия в привычном смысле в романе почти нет, это что-то вроде Платоновых диалогов, где интерес не в действии, реальном или возможном, а в чисто духовных перипетиях на многотрудном пути к истине. Тем не менее сюжетное сцепление отдельных диалогов обеспечено тем обстоятельством, что Ульрих, главный герой романа, собственно «человек без свойств», становится секретарем так называемой «Параллельной акции» — смехотворного, но шумного предприятия, вобравшего в себя потуги австрийских псевдопатриотов перещеголять вечную соперницу Пруссию. Секретарские обязанности сталкивают Ульриха с представителями самых разных слоев общества: от банкиров и генералов до знаменитых поэтов и не менее знаменитых преступников.
В Ульрихе много автобиографического. В момент начала действия романа, отнесенного к 1913 году, последнему предвоенному году, ему, как и автору, шел тридцать третий год, в прошлом у него три попытки стать человеком значительным — офицером, инженером, математиком. Завершив образование за границей, он возвратился в Вену и, взяв на год «отпуск от жизни», чтобы удовлетворить свое «человековедческое» любопытство, согласился на необременительные функции секретаря «Параллельной акции».
Суть ее в следующем: в Берлине, по слухам, готовились с помпой отметить тридцатилетие своего монарха, кайзера Вильгельма, имевшее быть в 1918 году. Планируя контрмеры, в Вене выдвигают лозунг «Параллельной акции», благо в том же 1918 году престарелый австрийский император должен был праздновать семидесятилетнюю годовщину своего пребывания на троне. Но в связи с тем, что восшествие на престол Франца Иосифа приходилось на конец года и могли возникнуть подозрения в плагиате, решено было весь 1918 год объявить «австрийским годом». Сатирический перспективизм достигается здесь тем, что читателю хорошо ведом исторический финал: крикливые претензии шовинистов выглядят особенно жалкими на фоне того краха, который постиг империю именно в 1918 году.
По замыслу автора, первый том должен был дать лишь экспозицию романа, обрисовать «мир подобного», то есть постоянно воспроизводящегося, рутинного, затвердевшего, механического — представленного десятками персонажей, с которыми приходится сталкиваться Ульриху. Сам Ульрих — носитель еще как бы не застывшей духовной магмы, отказывающейся заполнять собой какую-либо заранее отлитую форму, не устающей уличать в окаменелости любую устойчивую точку зрения. На постоянном, в необозримых жизненных и духовных пространствах прослеживаемом сопряжении этих двух полюсов — полной неподвижности и непрерывного движения, твердых очертаний и размытых контуров, неколебимой убежденности и вечного сомнения и т. д. — и строится роман.
Весь первый том его вращается вокруг противостояния Ульриха и других персонажей — человека без свойств и людей со свойствами. Бессвойственность Ульриха — это, конечно, не безликость, как может показаться человеку, знакомому только с названием романа. Ульрих не тот «маленький человек», придаток машины, жертва цивилизации, о котором широко и красочно поведала западная литература нашего века. Он выдающийся ум, поскольку ему выпала роль литературного протагониста одного из самых глубоких мыслителей. Но это ум релятивирующий, настаивающий на относительности всякой истины. Он без свойств, потому что нет свойства, ему чуждого или недоступного. Даже в убийцу Моосбруггера он вглядывается, как в зеркало, пытаясь обнаружить ростки насилия и в собственной душе, чтобы навсегда от них освободиться.
«Человек без свойств», таким образом, — это неосуществленный выбор каких-то определенных свойств из бесчисленного числа возможных. Он способен понять все, ибо за всем, по его мнению, есть своя правда, но он не в состоянии что-либо выбрать, потому что его пугает заведомая ограниченность всякого выбора. Потенциально он — средоточие всех качеств и свойств, целокупность возможностей. Но как сумма всех цветов дает белый, так и сумма всех свойств означает бессвойственность.
Музиль давно вынашивал замысел такого героя. Его первый набросок был дан в Терлессе. Второй — в главном герое драмы «Чудаки» (1924) Томасе, о котором автор пишет, что он «не прячется, как другие, от угрозы бесследного исчезновения в миллионах километров космической глубины в узкую скорлупу готового мировоззрения, не притворяется, как другие, не ищет опоры в общепринятом, опоры, которую могут предоставить профессия, цель, характер, знакомые, планы, манеры, платья». Ульрих постоянно «играет» с различными концепциями, взглядами, теориями, мировоззрениями. Вдохновляет его игру «идея недостаточного основания», господства чистого случая, недетерминированности. Играя, он вовлекает в «шутовской хоровод» (как назывался роман Олдоса Хаксли из той же эпохи) других персонажей, которые внутренне неподвижны, четко очерчены, завершены. Это и салонный «князь духа», финансовый магнат и модный публицист Арнгейм (прототип — Ратенау), и философ-дилетант пустопорожний краснобай Майнгаст (Клагес), и поэт-экспрессионист, напыщенный пустозвон Фойермауль (Верфель), и сумасбродный придворный, дегенерат граф Ляйнсдорф, и туповатый генерал Штумм фон Бордвер, и мещанин во искусстве Вальтер, и держательница модного псевдокультурного салона Туци, в шутку называемая Диотимой, и ее муж, изворотливый дипломат, и мертвая душа банкир Фишель, и его честолюбивая дочь Герда, и многие другие. Все это люди со свойствами; в отличие от Ульриха, которого больше всего занимает «возможная действительность», они всю свою страсть отдают «действительным возможностям», практическим интересам — настолько трафаретным, стандартным, что все их поступки напоминают Ульриху подергивания марионеток.
Ульрих чувствует себя единственным зрителем в пустом зале кукольного театра. Недаром он большую часть времени проводит у окна своего особняка, созерцая происходящее на улице, как на сцене. И меняет он свою позицию-символ— «у окна» — лишь для того, чтобы исследовать очередную «возможность», очередной модус существования и чтобы, исчерпав «эксперимент», вернуться снова к созерцанию.
Ульрих именно экспериментатор, «эссеист» в первоначальном смысле слова: essay — опыт. Мир для него — мастерская, где испытываются разные способы быть человеком, выбраковываются несостоятельные, отбираются лучшие. Отобрать лучший способ жить — в этом Ульрих видит свою задачу, разделяя просветительскую веру своего создателя, что человек будет по-новому жить, научившись более совершенно мыслить.
Игра игрой, но вопрос «как жить?» по-настоящему мучает Ульриха. Как жить, как относиться к реальности, допускающей разгул далеких от всякой духовности, диких, варварских (фашистских, говоря на языке истории) сил? Важность вопроса подчеркивается уже самым первым эпизодом романа: в одном из глухих переулков Вены в поздний вечерний час на спортивного вида молодого человека нападают трое хулиганов, избивают и грабят его. Позднее выясняется, что пострадавшим и был Ульрих. Одерживающий верх над самыми блистательными умами своего времени, он не в состоянии защитить себя от носителей элементарной силы: такое причудливое обозначение шпане придает его теоретизирующая мысль.
Этот эпизод — своего рода развернутый эпиграф ко всему роману, вновь и вновь варьирующему тему равных возможностей неравно означенного («Соединение несоединимого — это и есть жизнь», — сказал как-то другой австриец, Гофмансталь). Как решать сложнейшие духовные задачи, когда нет возможности защитить их от угрозы физического насилия и гибели? Как быть «мастерам культуры», когда голову поднимает фашизм? Музиль принял участие в антифашистском конгрессе европейских писателей в Париже в 1935 году, выступил на нем с докладом, в котором призывал к активной защите гуманистических ценностей европейской культуры. Надо ли повторять, какую актуальность снова приобрела проблематика того времени в последние годы...
Ульрих не находит, однако, реального, не утопического ответа на свой вопрос, хотя его философские упражнения охватывают, кажется, все сферы бытия. Всюду он отмечает противоположности, стремящиеся перейти друг в друга. Всюду им устанавливаются противоборствующие и уравновешивающие друг друга корреляты: свобода и необходимость, возможность и действительность, однозначность и сравнение, творчество и рутина, образ и закон, повторяемость и исключение, символ и формула, высокое и низкое, созерцательность и действенность, гений и посредственность, рациональное и иррациональное, сознательное и подсознательное — на любую из этих тем в романе найдется глава-эссе с вариациями в других главах. Итог — решительное низвержение в сознании героя, полный крах всякой абсолютной ценности, ибо, утверждается в одном месте романа, человек так же способен на людоедство, как и на критику чистого разума. Такой человек лишь в крайнем случае, вынуждаемый обстоятельствами, вмешивается в историю. История, как и человек, вполне бездумна и оптимистична: с воодушевлением она решается «начала на одно, а потом на прямо противоположное, что в романе иллюстрируется примерами из истории «Какании» — кайзеровской и королевской Австро-Венгрии.
Пожиратель мировоззрений, Ульрих скользит по «бесконечности переплетенных логий» (Андрей Белый), как Протей, перенимая различные духовные обличья, чтобы в следующий миг от них отказаться, почувствовав, что маска тесна. Он бездействует — ибо таит в себе возможности всех действий. Всякое действие предполагает известное ограничение, определенные рамки. Ограничение, рамки, думает Ульрих, неизбежно поведут к рутине, догме, которой он боится больше чумы. При этом, однако, он не замечает, что его мнительный адогматизм сам становится догмой.
Конечно, Музилю и самому была понятна лишь относительная сила голых, безальтернативных опровержений, ограниченность, непригодность для жизни вечных сомнений. Во втором томе романа он надеялся дать герою позитивные решения мучающих его вопросов, привести его к действию — и тем, самым самому перейти к повествованию. «Проблема: как перейти мне к повествованию — не только моя стилистическая, но и жизненная проблема главного героя», — отмечал он в своем дневнике. Дело в том, что начать повествование — значит внести в анархию, многомерность, хаос жизни некую ценностную логику и порядок. Ульриху первого тома такая упорядоченность традиционного реализма кажется именно привнесенной, мнимой, равной клонящему к уюту самообману. Быть рассказчиком по отношению к собственной жизни, рассуждает Ульрих, значит все свои представления, убеждения, теории, надежды, мысли и даже отсутствие оных поставить на службу психологическому выживанию, — тому, чтобы жить рядом с чудовищными преступлениями и оставаться невозмутимым, безмятежно чувствовать себя на обетованной земле посреди неизведанных космических пространств.
Все это связано, думает Ульрих, с принципом «объективирующего» отношения к себе, то есть сознательного подлаживания к господствующим нормам и правилам, к «миру подобного». Вырваться из этого мира — значит самому пуститься на поиск ариадновой нити в запутанном лабиринте накопленного человечеством и столь противоречивого духовного опыта — и самому отвечать за свой выбор. Смешной приятель Ульриха генерал фон Бордвер приходит в отчаяние из-за необходимости самому обо всем думать, в которую незаметно вовлекает его хитроумный Ульрих. Беспомощные попытки генерала разобраться в клубке философских хитросплетений и обуздать сложность культуры кончаются крахом: он начинает мечтать о «спасителе». От всей этой неразберихи, путаницы понятий, сумятицы мировоззрений, порожденной, как он полагает, интеллигенцией, может спасти, по его мнению, только грубая, нерассуждающая сила.
Бесноватый кретин уже подбирался к власти в Германии в то время, когда писались эти строки, но понятно, что не в стан ревнителей «национального возрождения» хотел привести Музиль своего героя.
Но куда же? Ответ на этот вопрос должен был дать второй том романа. В нем появляется сестра Ульриха Агата. С ее появлением и должно было, согласно авторскому замыслу, начаться собственно «повествование». Выясняется, что недостававший Ульриху магический элемент, необходимый для достижения единства с самим собой и миром, — любовь.
В рабочих записях к роману Музиль отмечал, что появление, обретение любимой сестры придает Ульриху радостное чувство себя самого, сообщает ему таким образом свойства.
Пробужденное Агатой «себялюбие» — как бы катализатор, содействующий переходу Ульриха в «иное состояние», помогающий ему «кристаллизоваться». Важное значение для характеристики этой метаморфозы имеют мысли Ульриха об аллотропии одного и того же химического вещества, выступающего в разных видах-состояниях: угля, графита, алмаза. Аморфный Ульрих, «человек без свойств», соответствует в этой цепи углю. Его поиски «иного состояния» должны увенчаться обретением «утраченного единства» на новой, высшей ступени, соответствующей алмазу (алмаз — символ души в древнекитайской мистике, о которой идет речь, среди прочего, в разговорах Ульриха с Агатой). Только любовь способна преобразовать потенцию в динамику, возможность в действительность. Любовь — мост, соединяющий созерцательного и действующего человека, сухую теорию и полнокровную жизнь.
Сделав и умом и сердцем такое открытие, Ульрих начинает думать, что «утраченное единство» вовсе и не было утрачено, его еще не было на земле, оно еще только придет, если проложить ему дорогу. Не было рая, грехопадения — история человечества лишь начинается. Поэтому достичь искомого единства нельзя руссоистским бегством «назад к природе», но лишь новым синтезом, доступным высокоразвитому сознанию. Счастливая жизнь на земле наступит лишь тогда, полагает Ульрих, когда жизнь будет развиваться в согласии с духом. Бога не было, но за бога нужно бороться. Имя богу — любовь.
Постановка вопроса близка проповеди Толстого, Музиль и сам это признавал, но отмечал и разницу: для Толстого любовь к ближнему — долг, обязанность, ограничение и преодоление изначальных эгоистических инстинктов, для героя Музиля она должна стать внутренней необходимостью, естественной потребностью души.
Для того чтобы подчеркнуть эту разницу, Музиль вводит в самом конце романа фигуру гимназического учителя Линднера, искреннего и убежденного толстовца. Этот сухой педант и казенник жертвенно отказываемся за обедом от десерта, чтобы своим примером поразить воображение прожорливого недоросля сына. Верный страж и служитель морального кодекса, он представляет близкие Ульриху мысли о высокой миссии любви в окарикатуренном, сниженном виде, равно как и предводители «экстатического братства» поэтов Зепп и Фойермауль, абстрактный пафос которых и картинные претензии на роль пророков так раздражают Ульриха (как раздражали Музиля Верфель и прочие экспрессионисты). Эти «кривые зеркала» ульриховых идей помогают ему осознать утопичность реализации, практического воплощения вселенской любви; затрудненность воцарения на земле нового бога. За пределы утопии такое «космическое прельщение» выйти не может, а жизнь плохо поддается утопическим преобразованиям.
К тому же Агата, пробудившая в Ульрихе любовь, как-никак его родная сестра, и практическая реализация такой любви повела бы к инцесту. Конечно, Музиля невозможно заподозрить в симпатиях к теориям знаменитого «венского мага», и дневники его и статьи пестрят едкими замечаниями по адресу Фрейда. Музиль вполне мог подписаться под словами венского сатирика Карла Крауса, сказавшего, что фрейдизм — это болезнь, за терапию которой он себя выдает. Для Музиля мотив инцеста скорее попытка художественной реставрации тотального охвата действительности, предложенного древней мифологией. Это не спасает, однако, одиозный мотив от подозрений в близости к патологии. Мало помогает делу и утверждение Ульриха, что, любя Агату, он стремится тем самым «дематериализовать» любовь, избавить ее от всего низкого, животного, темно-физиологического — одухотворить. В конце концов и самому ему становится понятной несостоятельность этой аргументации — ведь он ищет решения универсального, годного для всех, некоего рецепта спасения разума и души. А спасение человечества уж никак не может основываться на мотиве, внедрение которого в жизнь повело бы к вырождению человечества.
Поэтому, так и не завершив одного прожекта, Ульрих набрасывает абрис следующего, намечает план очередной, утопии — «утопии индуктивного мироощущения». Суть ее заключается в «максимальной нагрузке на минимальную площадь» или в «стопроцентном коэффициенте полезного действия» — бывший инженер и математик Музиль нередко использует подобную терминологию. Ульриха мучает «бессмысленная злободневность жизни», раздражает неотступная навязчивость мелких повседневных забот, тревог, волнений — «жизни мышья беготня», ему кажется, что вязкая тина суеты сует представляет собой самую большую, поелику незримую опасность для осмысленной жизни, что она-то и может прежде всего свести человека к механическому стереотипу существования со стертым смыслом. В противовес этому Ульрих и стремится «максимально нагрузить» каждую, даже мельчайшую единицу времени, стремится на вес золота ценить каждый миг быстротекущей жизни, используя его только для творчества.
Вынашивающий утопические прожекты создания «секретариата точности и души всей Земли», Ульрих хотел бы жить так, как читают, — отбирая все ценное и выпуская все несущественное, второстепенное. Таким целенаправленным отбором жизненной информации, разумным регулированием ощущений и действий герой Музиля надеется справиться с запутанным хаосом жизни и преодолеть свой релятивизм. Путь опять-таки явно утопический — головным, рациональным способом всю совокупность жизненных проявлений и задач, включая и повседневные заботы и нужды, не разрешишь и не подменишь.
Но в том-то и состояло убеждение Музиля, что утопист устанавливает законы, которые обретут действенную силу через две-три тысячи лет. Это не означает, конечно, что будущий человек непременно будет руководствоваться «методом индуктивного мироощущения»: ведь утопия, как отмечал Музиль в дневниках, устанавливает не цель, а направление, но в то, что своим упорным, на десятки лет затянувшимся трудом над романом он содействует «прояснению материи» и тем самым приближению будущего, Музиль верил крепко: «Томас Манн и ему подобные пишут для наличных людей, я — для людей, которых еще нет».
По свидетельству вдовы писателя, Музиль еще в течение по меньшей мере двадцати лет собирался работать над романом. Со свойственной ему неторопливостью и основательностью он хотел додумать до конца занимавшие его мысли — хотя на многих сотнях страниц им написанного утверждается, что додумать до конца ни одну мысль невозможно. Именно поэтому не подлежит сомнению, что Музиль так и не приступил бы к «повествованию», если б даже судьба отпустила ему желанные двадцать лет: по их истечении выяснилось бы, что не хватает еще двадцати и так далее, до бесконечности. Избранная им форма (если не сказать метода) романа-эссе принципиально нацелена на бесконечность.
Означает ли это, что Музиль-писатель потерпел крушение, немало поспособствовав несмолкающим дебатам о «кризисе романа»? Вряд ли. И дело не только в том, что редкий по силе чисто писательский дар Музиля признают даже его ниспровергатели (одна лишь деталь: на страницах «Человека без свойств» литературоведы собрали богатый метафорический урожай: около тысячи удивительно метких и образных сравнений, каждое из которых — как бы произведение в миниатюре), дело еще и а том, что всякая серьезная, продуманная мысль вообще не пропадает, даже если становится непригодной для жизни, неугодной ей; в худшем случае ее место в музее культуры, но не на свалке истории, готовящейся поглотить, к примеру, поделки «унылого охвостья литературы», как назвал один из немецких критиков равнодушных к мысли авангардистов.
Интеллектуальный или философский роман, возникший на стыке образной пластичности и медитативной рефлекторности, искусства и его самокритики, подвергается в последнее время многочисленным нападкам (смотри, например, статью Ю. Давыдова «Зачем критик?» — «Литературное обозрение», № 3, 1980). Признавая все негативные последствия моды на псевдоинтеллектуальное гурманство (этой обывательской реакции на шумиху вокруг НТР), хотелось бы все же заметить, что сам, снабженный эпитетом «интеллектуальный» жанр ни в чем не виноват, с дурными наклонностями жанров не бывает, жанры, как известно, детерминированы исторически. И потом, почему всякий стык — удел непременно ущербной творческой потенции? Можно ведь, хотя бы в принципе, представить себе автора философско-художественного произведения, который «дотянул» и философски и художественно? Ближе всех к такому синтезу в нашем веке подошел, видимо, Роберт Музиль.
Алгоритм движения мысли в его романе следует искать меж таких интеллектуальных растяжек, как, с одной стороны, неопозитивистская «венская школа» с Л. Витгенштейном во главе и, с другой — многовековые отложения мистической литературы. Из ста десяти выдержек из сочинений европейских и азиатских мистиков прошлого, включенных в известный компендиум Мартина Бубера «Экстатические исповедания веры» (1909), Музиль, как показали ученые, включил в свой роман девяносто девять раскавыченных цитат, лишь несколько «отредактировав» их в сторону естественности диалога. В резко сатирическом свете представлены в романе концепции таких, по слову Музиля, «фальшивых пророков», как О. Шпенглер, Р. Штейнер, Л. Клагес, и других властителей дум декадентствующей интеллигенции 20-х годов.
Стремление Музиля к синтезу мысли и чувства («живые мысли» — любимое его выражение) может быть сопоставлено и с попыткой Э. Гуссерля в рамках своей феноменологии примирить спор «бескровных категорий и упитанных интуиций» (Г. Шпет). Однако значение таких сопоставлений не следует преувеличивать: художественное произведение невозможно поставить в зависимость от какой-либо философской системы, скорее, напротив, ту или иную философскую систему можно представить себе некоей рассудочно поясняющей «иллюстрацией» к миру художественного произведения.
Плодотворнее поэтому представляется желание проследить литературную родословную Музиля. По мнению Додерера, его антагониста среди австрийских прозаиков XX века, «Человек без свойств» соответствует представлениям Ницше и немецких романтиков о романе как о своего рода Платоновых диалогах нашего времени. К этому нужно, однако, добавить, что, пожалуй, не меньшее значение для Музиля имели и другие традиции — прежде всего просветительской сатиры («Кандид» Вольтера) вплоть до ее возрожденческих корней у Эразма и аналитической эссеистики, отцом которой справедливо считается Монтень.
При чтении романа нельзя не заметить также, что автор его прошел школу Толстого и Достоевского. Страстный, жаркий, лихорадочный спор словно рвущихся из самого сердца идей в романах Достоевского на всю жизнь приковал к себе творческое внимание Музиля, и свое собственное дело он в иные периоды жизни считал лишь попыткой «уточнения» в описании духовных материков, открытых великим русским романистом. Не меньшим побудителем к собственному творчеству было для Музиля соединение пластического и аналитического, достигнутое в прозе Толстого, как и его, с оттенком утопичности, морализм, удостоенный, как отмечено, романного шаржа.
Но, помимо литературных, стоит, видимо, отметить и общие историко-культурные источники творчества Музиля, некоторые особенности культурной атмосферы Вены конца прошлого века, в которой он сложился как мыслитель и писатель. В частности, особое, небывалое значение, которое приобрел здесь так называемый «фельетон», переименованный в дальнейшем в эссе. Об этом для краткости скажем цитатой из мемуаров Стефана Цвейга: «В этом жанре слово имели только заслуженные и давние авторитеты. Лишь многолетней практикой подкрепленная вескость суждений и совершенство формы могли обеспечить автору это право. Людвиг Шпейдель, мастер миниатюры, или Эдуард Ганслик обладали в области театра и музыки авторитетом папы римского, их Да или Нет решало в глазах Вены успех или неуспех произведения, спектакля, книги, а зачастую и самого автора. Каждая из их статей была предметом повседневных разговоров, ее повсюду обсуждали, критиковали, восторгались или порицали, а если вдруг в ряды давно признанных и всеми почитаемых «фельетонистов» просачивалось новое имя, то это было целым событием. Из молодого поколения туда изредка допускался лишь Гофмансталь с его великолепной эссеистикой, другим оставалось ждать возможности проникновения в литературу через менее популярные жанры... кто писал фельетоны на первой странице, навсегда отчеканивал свое имя на мраморных скрижалях Вены».
Вслед за Гофмансталем допустили в этот храм и Музиля, перенесшего навыки блестящего эссеиста и в роман, вернее, построившего роман как грандиозное мозаичное полотно, составленное из отдельных кусочков-эссе.
Наметим еще один слой сопоставлений — упомянем современников, с которыми его чаще всего сближают. Это одержимый манией ясности французский поэт и эссеист Поль Валери — кажется, единственный писатель, к которому Музиль, по его выражению, «ревновал» свою музу. Ярослав Гашек, дополнивший музилеву сатиру на Австро-Венгрию. Максим Горький, давший в «Жизни Клима Самгина» российский вариант «человека без свойств», не менее широко и мощно, хотя и с других позиций, отозвавшийся на кризис индивидуализма в эпоху крутой социальной ломки. Все это напрашивающиеся «содержательные» аналогии.
Когда же речь заходит о поисках современного романа в области формы, то в одном ряду с Музилем чаще всего называются Томас Манн и Герман Гессе с их каскадами иронической элоквенции, Герман Брох с его «метафизическими экскурсами», пришедшими в наш век на смену былым лирическим отступлениям, а также неразлучная тройка, поистине лебедь, рак да щука классического модернизма — Марсель Пруст, Джеймс Джойс и Франц Кафка. Впрочем, с Кафкой Музиля сближает разве что общая австро-венгерская родина и тенденция к гротескной абсурдизации в изображении ее государственного аппарата; реализуется, однако, эта тенденция слишком по-разному. Да и остальных упомянутых здесь авторов Музиль вовсе не хотел признавать своими союзниками. Постоянно размышлявший в своих дневниках о свойствах текущей литературы и собственном творчестве, он писал: «Роман нашего поколения (Т. Манн, Джойс, Пруст и др.) уперся, в целом, в ту трудность, что прежняя наивность повествования не отвечает будто бы современному развитию знаний. «Волшебная гора» кажется мне в этом смысле опытом показательным и совершенно провалившимся... Пруст и Джойс, сколько я мог заметить, просто поддаются силам разложения, которые относят их в ассоциирующий стиль с расплывчатыми очертаниями. В сравнении с этим мой опыт следует признать скорее конструктивным и синтетическим».
Авторский бунт против типологизирующего ярлыка так же естествен, как желание критики построить мосты съединительных аналогий через полноводный и бурный поток литературного процесса. Вывести автора из обезличивающего типологического ряда может только читательская любовь. Русская судьба необъятного опуса Музиля решается сейчас, когда каждая тысячекратно переворачиваемая страница — как лепесток обрываемой жаждой взаимности ромашки. Порадуемся же во всяком случае еще раз тому, что дело наконец дошло до очного свидания с одной из самых прославленных книг нашего века.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1985. – № 4. – С. 72-76.
Произведения
Критика