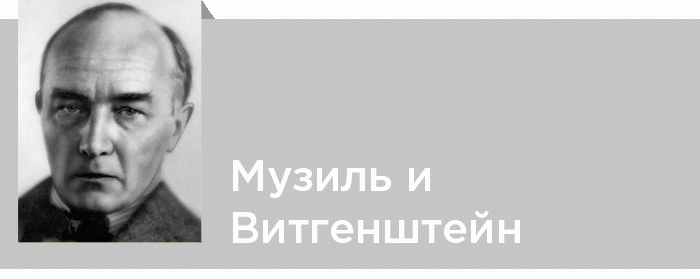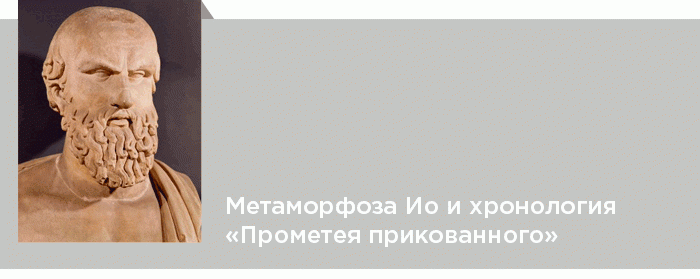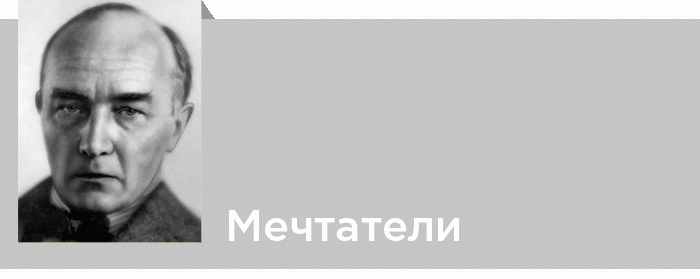Проблема стиля в творчестве Роберта Музиля

С. М. Казначеев
7 января 1913 г. в газете «Der Lose Vogel» Роберт Музиль опубликовал эссе «О книгах Роберта Музиля», где попытался сформулировать творческое кредо. Эта небольшая работа представляет собой своеобразный литературоведческий диспут, проходящий непосредственно... в недрах мозга самого писателя. Участвуют в нем безымянный герой-повествователь и некий маститый теоретик искусства («геолог от литературы»). Время от времени краткие реплики подает и сам мозг.
Главной темой этих дебатов стал авторский стиль Музиля-прозаика, а еще конкретнее — его отношение к пластическим возможностям языка, к средствам художественной выразительности. Придирчиво оценивая все доселе написанное писателем, «геолог от литературы» выносит безапелляционный вердикт: «Невеселый ландшафт... У этого писателя нет дара наглядности». «Не совсем так, — возражает ему повествователь, — у него нет стремления к наглядности».
А. Белобратов указывает в своем исследовании: «Писатель намерен максимально интегрировать эссеистические пассажи в повествовании... Однако абсолютная открытость авторской позиции имела свою оборотную сторону, могла привести к непомерному разрастанию эссеистического начала в произведении, грозившего разрушить внутреннее единство художественной структуры романа».
Предельная эссеистичность романа, особенно второго его тома отмечалась многими исследователями. «Карточным домиком» назвал второй том «Человека без свойств» Ю. Нагибин. Сурово отзывалась на сей счет Т. Мотылева: «Роберт Музиль в работе над огромным романом потерпел ряд художественных неудач, которые нельзя объяснить только тяжелыми условиями жизни писателя или чрезмерной сложностью задач, поставленных перед собой». И хотя трудно согласиться с подобным обвинением против крупнейшего писателя XX в., определенную обоснованность упреков приходится признать.
Но, может статься, прав тот самый «геолог от литературы» и Музилю было не дано ярко выраженного дара в сфере языковой пластики? Отрицание этого предположения находим уже в самом тексте упомянутого эссе, где есть впечатляющие примеры красоты, образности, изощренности письма: «Глыбы головного мозга серой непроницаемой массой вздымались вокруг, как незнакомые горы в вечерней мгле. По долине спинного мозга уже поднималась ночь с ее переливами красок, как в драгоценном камне или в оперенье колибри, с ее мерцающими цветами, мимолетными ароматами, бессвязными звуками».
Образцы прозы такого рода присутствуют и в магистральной книге писателя: «Наступил вечер; дома, словно выломанные из пространства, асфальт, стальные рельсы составляли остывшую раковину города, материнскую раковину, полную ребяческого, радостного, злого человеческого движения. Где каждый начинает как капелька, как взбрызг; начинается с маленького взрыва, подхватывается стенами, охлаждается, становится мягче, неподвижнее, нежно лепится к чаше материнской раковины и наконец застывает в крупинку на ее стене».
«Там и сям торчали уже зажатые толпой экипажи, и властный поток обтекал их нескончаемыми черными волнами, на которых плясала разбрызганная пена светлых лиц. Когда головная часть шествия увидела дворец, показалось, что чей-то приказ умерил шаг, волна откатилась назад, напиравшие сзади ряды втиснулись в передние, и возникла картина, которая одно мгновение напоминала набухающую перед ударом мышцу. В следующую секунду удар этот разрезал воздух».
«Кора деревьев была еще по-утреннему мокрой. По улице стелился бензиновый туман. Солнце светило, и люди двигались энергично. Была асфальтовая весна, был один из тех не относящихся ни к одному времени года весенних дней осени, какие выколдовывают города». Этой зоркости и лаконичной четкости линий могли бы позавидовать художники, работавшие в жанре городских пейзажей, скажем, К. Писсаро или М. Утрилло.
Каждая из цитат наглядно демонстрирует виртуозное владение средствами выразительности языка. Однако если большие фрагменты овеществленной, рельефно написанной фактуры, когда автор массированно применяет технику зримого, четкого письма, встречаются у Музиля нечасто, производя сильное — по контрасту — впечатление, то отдельные детали, образы, сравнения, в которых автор одним штрихом выделяет черту характера, нюанс настроения или оттенок мысли, составляют неотъемлемый элемент его творческой манеры.
У Музиля часто встречаются маленькие прозаические шедевры, поражающие тем, что образцы каллиграфии принадлежат отнюдь не миниатюристу, а автору глобального по замыслу, объему и значению произведения: «Рояль вколачивал сверкавшие шляпками гвозди нот в стену из воздуха», «Губы Диотимы надулись, образовав подобие искривленного хоботка, погружаемого в цветок бабочкой», «Арнхайм сидел при этом спокойно, дыша раскрытым, как лопнувшая почка ртом».
Музиль демонстрирует мастерство точного, оригинального комментария поступков и высказываний персонажей. Краткие, емкие ремарки выражают тончайшие оттенки смыслов, вкладываемые в слова и действия самими героями: «Даже когда ты не пьян, мир бывает ненадежен. Стены улиц колышутся, как кулисы, за которыми что-то ждет определенной реплики, чтобы выйти на сцену», «Когда он открывал рот для таких рассуждений, казалось, что выдернули штепсельную вилку и подключили графа к другой электрической сети. Впрочем, так бывает с большинством людей, когда они говорят публично...», «Услыхав собственные слова, он (Ульрих. — С. К.) улыбнулся, чтобы сузить их смысл».
И все-таки приходится признать, что не это является отличительной чертой манеры писателя. Основной массив прозы Музиля носит совсем иной характер. В большинстве случаев он как бы намеренно отказывается от изображения материальных предметов, отдавая предпочтение феноменам человеческого духа, идеям и переживаниям, нередко отвлеченным и с трудом поддающимся четкому восприятию. Объяснение этой особенности формулируется повествователем из уже цитировавшегося эссе: «Может же у художника... возникнуть однажды потребность высказать больше и точнее, нежели позволяют подобные средства. Вот тогда и возникают новые формы. Искусство есть нечто среднее между логическим обобщением и наглядной конкретностью».
К этой же проблеме Музиль обращается на страницах главного романа: «...человек, который хочет истины, становится ученым; человек, который хочет дать волю своей субъективности, становится, вероятно, писателем; а что делать человеку, который хочет чего-то промежуточного между тем и другим?».
К подобному выводу Музиль пришел еще в самом начале своей творческой деятельности. Его ранний роман «Смятения воспитанника Терлеса» демонстрирует схожий подход к повествованию не только собственно формой письма, где внутренние переживания юного героя многократно перевешивают и по объему, и по насыщенности внешний ход событий, но и отдельными сбивчивыми, рефлексивными откровениями героя, призванными как бы разъяснить эту особенность авторского мировидения.
Вопрос соотношения объективного и субъективного начал в сознании художника, равно как и философа достаточно неоднозначен. Именно об этом свидетельствует туманное, но по существу, доведенное до крайности рассуждение И. Г. Фихте: «Итак, постольку, поскольку человек есть нечто, он есть чувственное существо. Но он согласно сказанному выше одновременно и разумное существо, и его разум не должен уничтожаться его чувственностью, они оба должны существовать рядом друг с другом. В этом сочетании вышеназванное положение — человек есть, потому что он есть — превращается в следующее: человек должен быть тем, что он есть, просто потому, что он есть, т.е. все, что он есть, должно быть отнесено к его чистому Я, к его голой явности (Ichheit); всем, что он есть, он должен быть просто потому, что он есть Я; а чем он не может быть, потому что он есть Я, тем он вообще не должен быть».
В подходе к главному герою «Человека без свойств» Музиль манифестирует отсутствие наличных, застывших свойств, качеств, окончательно присущих данному индивиду. Его Ульрих декларируется как человек возможного, а не действительного бытия: «поскольку обладание свойствами предполагает известную радость по поводу их реальности, то это позволяет увидеть, как кто-то, у кого нет чувства реальности и по отношению к себе самому, может вдруг в один прекрасный день предстать себе человеком без свойств».
Легко представить себе такого субъекта в идеальных условиях, но ведь автор избирает местом действия его вполне реалистический роман с четким указанием места и времени действия. Ясно, что в отношениях с другими действующими лицами Ульриху с необходимостью приходится проявлять определенные черты характера. Эту неизбежность признает и сам Музиль: «Вряд ли, однако, пощечина, которую получит он сам, представится ему позором общества или хотя бы чем-то столь же безличным, как укус собаки; наверно, он сначала даст сдачи, а уж потом придет к мнению, что этого он не должен был делать». И тем не менее установка автора, что его герой — не является человеком итоговых формул и устоявшихся взглядов, требовала, по-видимому, особой формы изложения. Так Музиль приходит к широкому использованию элементов эссеистики: «Эссе — это уникальный и неизменный облик, который принимает внутренняя жизнь человека в какой-то решающей мысли. Нет ничего более чуждого ей, чем именуемая субъективностью безответственность фантазий, но и «верно», «неверно», «умно», «неумно» — понятия, тоже неприложимые к таким мыслям, которые тем не менее подвластны законам столь же строгим, сколь тонкими и невыразимыми они кажутся. Было немало таких эссеистов и мастеров маячащей внутри жизни, но называть их незачем; их царство лежит между религией и знанием, между примером и учением, между amor intellectualis и поэзией».
Итак, эссеизм как художественный принцип становится в романе преобладающим, нарастая по мере неторопливого продвижения книги к финалу, достичь коего Музилю так и не удастся. Его герои не только ведут долгие, изощренные, изнурительные диалоги, но и, оставаясь наедине с собой, продолжают развивать мучающие их идеи. Тонкие, изящные, хотя порой и не до конца понятные рассуждения наполняют страницы романа, и хотя биение живой и оригинальной авторской мысли чувствуется в каждом абзаце нескончаемого произведения, действие романа тормозится, развитие ситуаций замедляется. Сомнения в правильности избранного пути нашли место еще в высказываниях «геолога от литературы», который упрекал автора в отсутствии дара наглядности: «Эти книги не имеют ничего общего с насущными потребностями нашей эпохи. Они обращаются к узкому кругу сверхчувствительных людей, у которых не осталось уже никаких, даже извращенных, реальных чувств, а лишь литературные представления о них. Перед нами искусственно вскормленное искусство, которое от слабости становится худосочным и темным, но строит на этом бог весть какие амбиции».
Тем не менее отказываться от заявленных еще в молодости принципов писатель не мог, да и не хотел. Самообвинение в худосочности и темноте Музиль парировал достаточно резко: «Это еще вопрос... вызвана ли темнота произведения искусства слабостью его создателя или оно лишь кажется таковым читателю по его, читательской, слабости». Аналогичная точка зрения в свое время была сформулирована И. В. Гёте в «Максимах и рефлексиях»: «Тому, кто хочет упрекать автора в темнотах, следует заглянуть в свой внутренний мир, достаточно ли там светло. В сумерках даже очень четкий почерк становится неразборчивым».
О корректности таких обвинений читателя в ограниченности можно спорить. Однако гораздо важнее то, что Музиль здесь прямо указывает: именно идеи, мысли являются главными духовными элементами всякого художественного произведения, хотя они «никогда не поддаются изображению в чистом виде, как таковые». Проблема выражения абстрактных идей конкретными, во многом рациональными средствами художественной литературы и составляет, как кажется, важнейшую проблему исследования его творчества.
В другом своем известном эссе, которое называется «Эскиз поэтического мировосприятия»(Skizze der Erkenntnis des Dichters), Музиль пишет о том, что для точной интерпретации нашего бытия явно недостаточно двух основных философских категорий — рациональное и иррациональное, ибо рациональное чересчур привязано в нашем представлении к плоскостному и приземленному объяснению законов жизни. Иррациональное же, напротив, столь сокрыто от нашего разума, что о предметах, вращающихся в этой сфере, мы практически не можем сказать ничего определенного. Поэтому Музиль вводит собственную пару понятий — рациоидное и нерациоидное (ratioide и unratioide), при этом рациоидное для Музиля равновелико тому комплексу предметов и явлений, которые в полной мере поддаются научному анализу. Нерациоидное же представляет особый интерес. «Факты в пределах этой сферы не поддаются приручению, законы похожи на решето, события не повторяются, они безгранично изменчивы и индивидуальны... Это и есть родовое пристанище поэта...»
Что же входит, по мнению автора, в сферу нерациоидного? Прежде всего — область человеческих идей. Идеи, интересующие Музиля как художника, могут существовать как в форме всеобщего проявления (таковы, к примеру, проблемы человеческой гениальности и неполной вменяемости подсудимого, возможность соединения души и экономики, игра на понижение и на повышение на бирже духа), так и единичные, частные мысли персонажей, будь то полусумасшедшие рассуждения убийцы Моосбруггера или шовинистические доктрины Ганса Зеппа.
Строго говоря, само по себе стремление передать абстрактную идею с помощью искусства, отнюдь не является музилевским изобретением, оно известно мировой культуре не одну тысячу лет, ибо чем, к примеру, являются платоновские диалоги, как не попытками литературно воссоздать мысли и рассуждения Сократа и его собеседников. Сходным образом художники древнего Китая при всей конкретности их письма выработали творческий принцип «сеи», который можно кратко обозначить как «пишу идею». «Смысл сеи состоит в том, — разъясняет Е. В. Завадская, — чтобы экстериоризовать идею... Художник стиля сеи стремился воплотить в живописном образе такое сознание художника, при котором все, что не целостно и не живо в своей непосредственной реальности, устраняется».
Схожие тенденции обнаружим и в XX веке. Эстетические формы нашего столетия отличаются большим разнообразием. Художники применяют самый широкий арсенал средств и способов воздействия на публику. Однако наряду со стремлением к пестроте и изощренности формы мы нередко сталкиваемся с противоположной тенденцией — использованием скромных, скупых, относительно ограниченных средств выразительности. Таков в большинстве случаев стиль Ф. Кафки, Ж. Зайко, Т. Бернхарда, П. Хандке. Повесть последнего «Страх вратаря при одиннадцатиметровом» демонстрирует предельную упрощенность, приземленность мировосприятия. Его герой, монтер Блох, Моосбруггер нашего времени, действует как манекен, регистрируя лишь поверхностный слой происходящего: «Блох дал почтовой служащей другой номер. Она попросила его сперва расплатиться за первый разговор. Блох уплатил и сел на скамью в ожидании второго разговора. Зазвонил телефон, Блох встал. Но это позвонили передать поздравительную телеграмму. Почтовая служащая записала, потом, повторяя каждое слово, попросила подтверждения. Блох расхаживал взад и вперед».
Понятно, не только австрийские писатели работали в похожей манере. Черты этой стилистики можно отыскать у Э. Хемингуэя, А. Камю, А. Роб-Грие и других «новороманистов», С. Беккета, Б. Савинкова, Л. Добычина. В эссеистических заметках итальянского писателя А. Савинио есть даже попытка теоретически обосновать правомерность подобного подхода к языку и стилю произведений: «Выразительную речь принято считать красивой. На самом же деле она безобразна, а главное, бескультурна. Подлинная культура ведет ко все более умственной жизни (и к счастливым последствиям умственной жизни: порядку, систематичности, тишине), а кроме того, к устранению жеста... Подлинно культурные люди будут изъясняться не только без жестов, но и без эмоциональной напыщенности и голосовых переливов... Они не будут придавать звуковой форме слова характер, окраску или выразительность... Так и писатель, одолевший в себе обезьяну, будет писать невыспренно, невыразительно, бесцветно».
Принцип экономности образных средств имеет право на существование и распространен в практике искусства достаточно широко и связан, как правило, с желанием наиболее адекватно передать ту или иную идею. Даже Генри Миллер, которого трудно заподозрить в стремлении к пуританскому использованию образных средств, устами героя из «Тропика рака» изрекает следующий манифест: «Вкратце моя мысль такова: показать воскресение эмоций, описать поведение человеческого существа в стратосфере идей».
Случай Музиля в этом ряду писателей — особый. В известном смысле его стиль, призванный выразить идею ценой утраты экстериоризации письма, — это анти-Хандке, у которого наоборот повествование целиком перенесено в плоскость быта. Но само желание отказаться от полного арсенала образных средств по принципу антитезы роднит две авторские манеры.
Протагонист автора, Ульрих однажды выступил с предложением учредить всемирный секретариат души и точности, чтобы произвести своеобразную инвентаризацию наличного духовного материала, наработанного человечеством. В этом стремлении нельзя не усмотреть желания писателя к выведению некой квинтэссенции опыта нашей цивилизации, причем совершено это должно быть с максимальной тщательностью.
Взгляды промышленника, финансиста и интеллектуала Арнхайма для Музиля важнее, нежели потенциальная любовная связь того с Диотимой. В той же степени криминальное дело сексуального маньяка Моосбруггера интересует Ульриха, а значит, и самого автора, не сутью преступлений, а как особый случай психического состояния человека, балансирующего между невменяемостью и нормой. Естественно, для выполнения этих задач Музилю чаще и чаще требовалось отказываться от использования пластических средств прозы, прибегая к средствам эссеистики.
Закономерно, что использование этого пограничного между литературой и гуманитарными науками (философией, психологией, обществоведением) арсенала в большой степени требовалось для конструирования центрального образа. В подходе к главному герою Музиль подчеркивает именно отсутствие наличных, застывших качеств, окончательно присущих данному индивиду. Его Ульрих декларируется как человек возможного, а не действительного бытия: «Поскольку обладание свойствами предполагает известную радость по поводу их реальности, то это позволяет увидеть, как кто-то, у кого нет чувства реальности и по отношению к себе самому, может вдруг в один прекрасный день предстать себе человеком без свойств».
Пожалуй, такие высказывания позволяют некоторым исследователям полагать, будто герой «Человека без свойств» не является реально действующим человеком, но является плодом авторской фантазии. Так считает, в частности, Ульф Айзеле, прибегнувший к полисемичной метафоре: «А ведь мать Ульриха это чернильница».
Как справедливо подчеркивается в работе Т. Акиндиновой и Л. Бердюгиной: ««Человек без свойств» в негативном смысле — это пустое пространство, заполняемое извне; «человек без свойств» в позитивном смысле — напротив, как бы «выпадает» из внешнего пространства, погружаясь в чистый поток становления».
Свидетельством того, что и сам автор ощущал эту некоторую призрачность места, занимаемого Ульрихом в жизни, служит слетающая с его уст поразительная по глубине и откровенности сентенция, имеющая исключительно важное значение для понимания образа «человека без свойств» и всего романа в целом: «...мне как раз следовало бы сказать, что я никогда не держался какой-либо постоянной идеи. Никакой не нашлось. Идею следовало бы любить, как женщину. Блаженствовать, когда возвращаешься к ней. И она всегда в тебе! И ты ищешь ее во всем, кроме себя! Таких идей я никогда не находил. Я всегда относился, как мужчина к мужчине к так называемым великим идеям. Может быть, и к называемым так по праву. Я не считал, что рожден подчиняться, они подстрекали меня опрокинуть и заменить другими». В этих словах — разгадка души и жизни Ульриха, его судьба и драма.
Интерес к нерациоидному, проявлявшийся на разных уровнях человеческого бытия, обусловил поступательный дрейф романной стилистики по направлению к чистому эссеизму. Однако и отойти полностью от прозаического канона Музиль не мог, ибо чувствовал, что «эссе чередою своих разделов берет предмет со многих сторон, не охватывая его полностью, — ибо предмет, охваченный полностью, теряет вдруг свой объем и убывает в понятие». Утопическое стремление соединить в себе научное и сверхчувственное представление о мире заставляло его вновь и вновь пытаться найти словесную форму для идей, настроений и эмоций, которые составляли квинтэссенцию интеллектуальной жизни его эпохи.
Есть в романе еще один слой, в значительной степени заставивший автора сделать ставку на эссеизм. В ходе работы над монументальным произведением Роберт Музиль — хотел он того или нет — вышел на проблему глобального, геополитического характера. Перед писателем к этому времени отчетливо вырисовалась художественная цель куда более крупного масштаба — изображение австрийской национальногосударственной идеи.
Проблема выражения национальной идеи с помощью художественной литературы настоятельно требовала от автора применения особых средств, особого инструментария. Именно здесь наиболее уместной и эффективной оказалась авторская манера письма, балансирующего как бы на грани литературы и науки. Однако тема эта сама по себе настолько сложна и многогранна, что заслуживает, несомненно, отдельного развернутого исследования.
Л-ра: Филологические науки. – 1996. – № 5. – С. 25-34.
Произведения
Критика