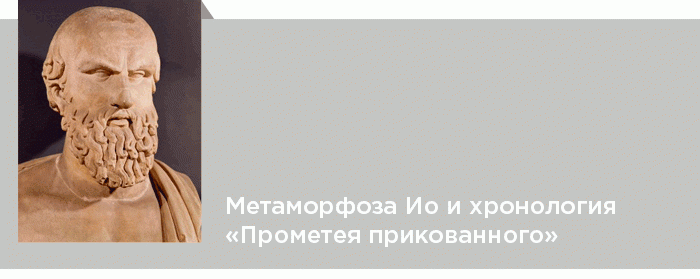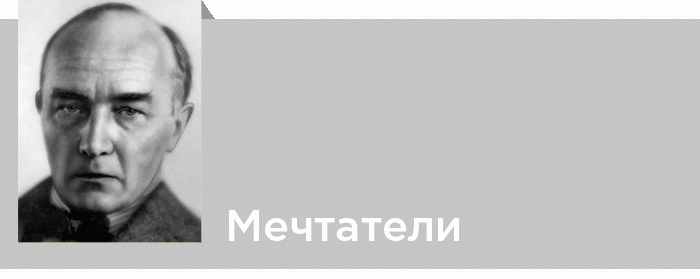Музиль и Витгенштейн, или Литература и философия
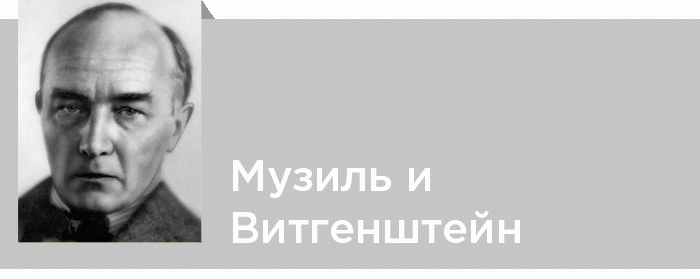
А. B. Белобратов
В современном литературоведении имена двух выдающихся представителей австрийской культуры - писателя Роберта Музиля (1880-1942) и философа Людвига Витгенштейна - уже не один раз ставились рядом. При этом исследователи обращались к сопоставлению художественного творчества Музиля и философских штудий Витгенштейна в ситуации «явной неочевидности»: при знакомстве с законченными и незавершенными произведениями Музиля, с его дневниками и письмами мы вынуждены констатировать, что имя Людвига Витгенштейна и название его самой знаменитой книги «Трактатус логико-философикус» ни разу не встречаются в обширном творческом наследии австрийского писателя. То же самое касается и Витгенштейна: Музиль не был ни в числе его знакомых, ни в списке авторов, к которым Витгенштейн обращался.
К. Нири в своей книге попытался выйти из положения, сославшись на воспоминания Эрвина Хекснера, знакомого Музиля, о якобы высказанных писателем (после 1933 г.) оценках витгенштейновского «Трактата». Однако рассуждения К. Нири о возможном их личном знакомстве и о том, что Музиль и Витгенштейн по меньшей мере «должны были знать друг друга зрительно» (поскольку Витгенштейн строил для своей старшей сестры дом на Кундмангассе в Вене, а Музиль в это время - вторая половина 1920-х гг. - как раз жил неподалеку, на Разумофскигассе), выглядят более чем не имеющими отношения к делу и к проблеме творческих контактов писателя и философа.
«Фигура умолчания», обнаруживаемая в творческом наследии Музиля по поводу Витгенштейна и его «Трактата», представляется явлением довольно странным и необычным, если учесть, насколько книги Музиля и его дневники насыщены отсылками к самым разнообразным культурным явлениям двух первых десятилетий нашего века. За редчайшим исключением, ни одно сколько-нибудь известное в то время имя (особенно в литературе, философии, психологии, социологии, математике) не ускользнуло от внимания австрийского писателя, в той или иной форме он на это культурное явление откликнулся, попытался расположить его в колоссальной панораме идеологий, этических и философских учений, научных и художественных оценок мира и человека, которая составляет его творческое наследие и во многом организует его главное произведение - роман «Человек без свойств». Зигмунд Фрейд, Франц фон Баадер, Рудольф Касснер, Мартин Бубер, Мориц Шлик, Рихард фон Мизес, Рудольф Карнап - список этот можно продолжить; имена и произведения, упоминаемые и цитируемые Музилем, занимают в справочном аппарате собрания его сочинений несколько десятков страниц. Витгенштейна, однако, там нет.
Исследователи, сопоставляющие творчество Музиля и Витгенштейна, с этим, кажется, вполне уже смирились и освоились. Они пользуются при этом приемами и способами сопоставления, вполне корректными и дающими зачастую небезынтересные результаты. П. Кампиц, к примеру, считает: «очевидно, что оба автора великолепно подходят для того, чтобы прояснить, а возможно, даже и реконструировать специфическое развитие духовно-культурной ситуации в Австрии на рубеже веков и в последующие годы». В изящном литературно-философском эссе он сравнивает отношения Музиля и Витгенштейна к проблеме «критики языка», не пытаясь при этом «совершить революцию в толковании Музиля или дать новую, сенсационную интерпретации Витгенштейна». На наш взгляд, в его работе делается также любопытная попытка обнаружить некоторые уровни взаимоотношений философского и литературного творчества, механизмы «продуктивной рецепции» философского наследия - на примере, Музиля и Витгенштейна.
К. Нири выбирает оптику, имеющую не только иную теоретическую (в данном случае - историко-материалистическую) базу, в отличие от духовно-исторического подхода, которым пользуется П. Кампиц, но и противоположную направленность: «Сравнивая Музиля и Витгенштейна, мы можем выявить не только определенное фундаментальное родство между ними, но и то, что возникновение его объяснить общей для них почвой - особыми историческими условиями Австрии». Одновременна венгерский исследователь использует творчество Музиля как «ключ к понимание того, в чем [...] заключалась проблема Витгенштейна», т.е. пытается выявить особенности эпохи, в которую были поставлены под сомнение классические индивидоцентричные понятия, служившие основой прежней философской мысли.
Несомненно, Музиль и Витгенштейн открыты и такому, надо сказать, еще не применявшемуся подходу в их изучении, как исследование схождений между ними в их отношении к общей литературной и философской традиции: упомяну хотя бы страстное увлечение обоих Толстым и Достоевским, их отношение к Гете как художнику и мыслителю, к Лихтенбергу и его афористическому наследию, к Ницше как существенному интеллектуально-этическому раздражителю и т.п. Крайне любопытно - и пока невостребовано - и то направление исследования, которое связано с изучением двух культурных величин через сравнение их с третьей, явно обнаруживающей в своем творческом сознании взаимодействие с двумя первыми: к примеру, чрезвычайно перспективно здесь проследить за филиацией и преломлением витгенштейновских и музилевских идей в творчестве австрийской писательницы Ингеборг Бахмиг (1926-1973).
И все же вопрос о том, почему Роберт Музиль, энциклопедическую всеохватность которого при обращении к культурной жизни Европы постоянно подчеркивают исследователи, категорически игнорирует книгу Витгенштейна, требует если не окончательного ответа на него, то, по крайней мере, выдвижения некоторых предположений на этот счет, требует еще и потому, что в романном творчестве Музиля явно ощутимы «следы» аккумулированного Витгенштейном в 1910-е гг. «чувства жизни», в котором теснейшим образом переплелись тенденции эпохи, столь пристально изучавшейся Музилем - эпохи «незадолго до великой войны».
Обнаруживая «тайные схождения» при полном отсутствии внешних свидетельств каких-либо творческих контактах двух авторов, мы обычно вынуждены либо обходиться фразой об «идеях, которые носятся в воздухе», либо констатировать типологические аналогии в духе научных представлений В. М. Жирмунского о сравнительно-историческом изучении литератур. По мнению К. Нири, «влияние «Трактата» на творчество Музиля не исключено, но предполагать это влияние у нас нет никакой необходимости, ибо темой мистического и темой молчания Музиль занимался еще до опубликования «Трактата», да к тому же эта тема витала, так сказать, в воздухе». Несомненно, если ограничивать возможное творческое взаимодействие Музиля с философской мыслью Витгенштейна лишь областью мистического, областью молчания перед невыразимым, «непроизносимым» («Unaussprechliche»), то «носящиеся в воздухе» идеи и темы констатировать довольно легко. Более того, нетрудно рассадить этих «пернатых» и по определенным «гнездам»: Й. П. Штерн в своем докладе на симпозиуме, посвященном взаимодействию философии и литературы в творчестве Витгенштейна, эти «гнезда» перечисляет: «Скептицизм по отношению к языку, ведущий в «Трактате» к размышлению о выразимом (Sagbare), очевидно, не является открытием Витгенштейна. Напротив, сомнения в соотнесенности языка и мира и светская болтовня о «невыразимом» были широко распространенной модой в венской журналистике на рубеже веков. Мы отыскиваем их в прозе Музиля и Гофмансталя, равно как и в поэзии». Исследователь упоминает также Рильке и Карла Крауса. Нетрудно добавить еще несколько имен, начиная с Малларме и его «высшего поэтического закона» - молчания - и продолжая Метерлинком, через которого многие идеи французского символизма в упрощенной, а значит, более доступной и быстрее усваиваемой форме попали в Германию и Австрию. Не обойтись здесь и без упоминания нескольких имен немецких религиозно-мистических философов, в частности, Якоба Беме, активно входившего в культурное сознание того времени главным образом благодаря «посредничеству» Новалиса.
При этом очень существенно еще одно обстоятельство, «обнажающее прием», вскрывающее механизмы рецепции. Нередки случаи, когда писателю вовсе и нет нужды знать реципируемого автора по первоисточнику, глубоко вникать в ход его размышлений, делать многочисленные выписки, фиксировать собственные мысли по поводу прочитанного. Бывает вполне достаточно воспринять этот материал через «культурных посредников»: в светской, дружеской или научной беседе, в лекции, в рецензии, кратко излагающей источник и цитирующей наиболее казовые выражения, в цитате из научного сочинения. В случае с Музилем здесь имеются известные из исследовательской литературы примеры: рецепция романтического наследия осуществляется писателем из вторых, а иногда и из третьих рук (в «Человеке без свойств» цитата якобы из Новалиса на самом деле является цитатой из «Вильяма Ловелля» Людвига Тика, приведенной по третьему, случайному источнику, а многочисленные высказывания столпов средневековой мистической мысли - Музиль при этом называет знаменитых мистиков поименно - при их атрибуции оказались взятыми из антологии «Экстатические вероисповедания», изданной в 1909 г. в Берлине Мартином Бубером).
Знакомство с отдельными положениями и философскими афоризмами Витгенштейна вполне могло осуществиться через контакты писателя с венскими университетскими философами и на проводившихся в университете семинарах по «Трактату» (в особенности следует отметить знакомство Музиля с Отто Нойратом и другими философами, имевшими отношение к венскому неопозитивистскому кружку, собственно и являвшему собой почти единственный ареал распространения идей Витгенштейна, кроме венской журналистской и салонной публики, которая, разумеется, восприняла «максимы и рефлексии» Витгенштейна с анекдотической - в силу их понятийной закрытости и внешней лапидарности - стороны). Чеканная приблизительность знаменитых высказываний Витгенштейна вполне могла войти в культурный опыт Роберта Музиля и в конце 1920-х гг. во время многочисленных посещений литературно-философских «журфиксов» в доме Рихарда фон Мизеса, известного ученого и директора «Института прикладной математики» при Берлинском университете. По замечанию Ф. Штадлера, Музиль, «внимательно следивший за развитием школы «логического эмпиризма» от Маха до «Венского кружка» и использовавший ее открытия в своей теории романа», был одним из постоянных участников этих бесед, собиравших многих видных представителей «научного и литературного авангарда». И все же самого автора логически отточенных и одновременно мистически-потаенных афоризмов Музиль письменно не упоминает.
Подобная «фигура умолчания», о которой я уже упоминал в начале, может интерпретироваться и иным образом: в истории литературы имеются факты, когда происходит своего рода вытеснение определенного автора, определенного материала, книги, статьи, яркой философской мысли, броского литературного сюжета, оригинально обрисованного характера на периферию воспринимающего сознания. Причины здесь самые разные, в том числе и творческого характера. За вытеснением вполне может следовать сублимация, переведение существующего как бы на краю сознания материала на новый уровень, в новое качество, его растворение в собственной системе художественно-философских представлений, его усвоение как собственной идеи, мысли, сюжета. И с Музилем такое, возможно, уже бывало: наиболее примечательный пример здесь - музилевская рецепция гончаровского «Обломова»: и в плане эксперимента с художественной формой, и в попытке соединения в Ульрихе сразу двух гончаровских героев, Обломова и Штольца, и в запараллеливании пассивного «человека без свойств» Ульриха и активного «человека со свойствами» Арнхайма - во всем этом творческая рецепция романа русского писателя отчетливо ощущается. При этом Гончарова и его героев австрийский автор в его творческом наследии не упоминает ни разу (в противоположность к постоянному фиксированию Музилем своего интереса к Толстому, Достоевскому, Горькому и к записям, свидетельствующим о пристальном чтении этих авторов).
Здесь, на наш взгляд, происходит такое узнавание «своего» в «чужом», когда «чужое» полностью воспринимается как «свое» или, будучи воспринятым как «свое», отторгается от «чужого», не связывается с его референциальными рамками. «Плотность прилегания» отдельных витгенштейновских идей к музилевским представлениям о точном мышлении и языке, об этической ориентации творчества, о динамическом мировосприятии и миропонимании такова, что заведомо исключает ироническую дистанцию, позволяющую распознать «свое» в «чужом» как «чужое свое». Произошло ли так у Музиля с Витгенштейном? Окончательный ответ здесь вряд ли возможен, но обращение к центральным главам первого тома «Человека без свойств» (главы «Экскурсия в царство логики и морали», «Идеал трех статей, или Утопия точной жизни», «И земля, а Ульрих в особенности, преклоняется перед утопией эссеизма»), к ряду философско-художественных суждений австрийского писателя позволяет предположить, что своеобразные форма и содержание «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна не ускользнули от внимания романиста.
В романе в целом Музиль уделяет огромное место проблеме точного языка, необходимости «разработки точного мышления». Своеобразным «раздражителем» для постоянно подчеркиваемой писателем ориентации на точное, ясное мышление и слово, помимо музилевской «школы инженерной мысли», вполне мог служить Витгенштейн с его «апофеозом ясности» в «Трактате»: «Все, что вообще мыслимо, можно мыслить ясно. Все, что поддается высказыванию, может быть высказано ясно».
Музиль делает различие между «фантастической точностью», которая придерживается фактов, и точностью «педантической», которая придерживается «плодов фантазии». Педантическая точность теснейшим образом связана с «предметным» мышлением, с ориентацией не на связи предметов, объектов друг с другом, а на покоящиеся в себе предметы, на статическое восприятие объекта. Глава «Экскурсия в царство логики и морали» посвящена ситуации, в которой оказывается «педантическая точность», нормативная юридическая логика при столкновении с «пограничными случаями» в области душевного здоровья и человеческой морали, один из которых представлен историей сексуального преступника Моосбруггера. По Музилю, «природа не делает скачков, она любит переходы и, по большому счету, [...] держит мир в переходном состоянии между слабоумием и здоровьем. Но юриспруденция не принимает этого к сведению. Она говорит: человек либо способен к противозаконным действиям, либо нет, ибо между двумя противоречиями нет третьего и среднего. В силу этой способности он становится наказуем, в силу [...] наказуемости он становится юридическим лицом, а как лицо юридическое он получает долю сверхличной благодати закона. Кому это невдомек, тот пусть подумает о кавалерии. Если при каждой попытке вскочить на нее, лошадь ведет себя как бешеная, то за ней ухаживают с особой тщательностью, ей достается самая мягкая сбруя, лучшие наездники, отборный корм и терпеливей всего обращаются именно с ней. Если же в чем-то провинится кавалерист.
То его бросают в полную блох клетку, лишают пищи и надевают на него кандалы. [...] В этом смысле человека от животного [...] отличает то, что он способен действовать наперекор закону и совершить преступление; [...] стало быть, лишь наказуемость есть свойство, которое возводит его в ранг человека нравственного».
В области «педантичной точности» господствуют формы профессионального языка, формульного, клишированного говорения, представляющего для тех, кто владеет этими формулами, существенный инструмент власти: «В ярости Моосбруггер чувствовал, что все они говорили так, как им было удобнее, и что это-то говоренье и давало им силу обходиться с ним так, как они хотели». Вероятно, нетрудно усмотреть определенную генетическую связь ситуации Моосбруггера с положением главного героя незавершенной трагедии Георга Бюхнера (1813-1837) «Войцек». Безъязыкость Войцека, правда, имеет иной характер, в ряде ситуаций в драме бюхнеровский герой предстает много умнее и глубже своих «образованных» антагонистов (Капитана и Доктора), чем Моосбруггер по сравнению с судьей, следователем, тюремным священником и другими выразителями «профессиональных идеологий». У Музиля же и Моосбруггер пользуется речевыми формулами, лежащими в области «мертвых мыслей», в сфере статической морали, правда, в силу малой образованности и неразвитости он не в состоянии привести эти языковые клише в некую стройную и действенную систему.
Однако не следует исключать здесь и определенной творческой переклички австрийского писателя со знаменитым витгенштейновским афоризмом: «Границы моего языка означают границы моего мира». При этом для Моосбруггера существует единственный «выход» за границы мышления, данного ему в языке - те смутные видения и будоражащие его тело переживания, голоса, которые во время настигающих его приступов душевной болезни он слышит и которые вызывают в нем аномальные состояния и реакции по отношению к видимому, упорядоченному миру. Именно в этой «зоне» Моосбруггеру «показывает себя» нечто, что можно определить как мистическое. Эта тема - тема «иного состояния» - одна из центральных во второй части романа и в системе музилевских представлений в целом, хотя влиянию Витгенштейна (если таковое имело место) здесь предшествует огромный пласт культурного материала: от «лицезрения Божественного» в средневековой мистической философии через «блаженное ничегонеделание» в литературе немецкого романтизма до предэпилептического блаженства князя Мышкина в «Идиоте» Достоевского.
В главе «Идеал трех статей, или Утопия точной жизни» Музиль, на мой взгляд, отчетливо вводит в философско-художественный обиход своего романа не только отдельные мысли и высказывания Витгенштейна, которые, несомненно, в романном контексте, будучи включенными в романное время и пространство, наложенными на движение мысли персонифицированного героя, Ульриха, претерпевают существенную трансформацию, но все же могут быть идентифицированы как таковые, но и включает в европейский ментально-идеологический континуум и саму книгу Витгенштейна, саму этическую позицию философа.
По Музилю: «Есть виды умственной деятельности, где предмет гордости человека составляют не большие книги, а маленькие статьи. Если бы кто-нибудь, например, открыл, что при обстоятельствах, доселе еще не наблюдавшихся, камни способны говорить, ему понадобилось бы всего несколько страниц, чтобы описать и объяснить такое сногсшибательное явление. Зато о благомыслии можно всегда написать еще одну книгу... Разновидности человеческой деятельности можно разделить по числу слов, которые им нужны: чем больше слов, тем хуже обстоит дело с характером деятельности». Витгенштейновская ориентация на емкое, афористично-точное суждение о мире, пытающееся разрешить «проблему коррелятивности применяемых методов анализа и «картины мира», предстает у Музиля как одна из возможностей постижения истинной действительности, противостоящей «миру свойств без человека».
По Витгенштейну: «то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, о том же, что сказать невозможно, следует молчать». Музиль, высвечивающий в сатирически оформленной приблизительной говорильне верноподданнической «параллельной акции» всю степень девальвированности слова, речения, языка, противопоставляет ей «параллельную акцию» героя, Ульриха, его «святые беседы» с Агатой, цель которых - пробиться к истинному языку, к способам «фантастически точного» говорения о мире: «Таково и в самом деле было настроение и мнение эпохи [...]. Тогда об этом думали [...], нельзя сказать, кто и сколько людей так думали, и все же это носилось в воздухе, - что можно, вероятно, жить точно. Сегодня спросят: что это значит? [...] Это значило бы примерно то же, что молчать, когда тебе нечего сказать; делать только необходимое, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного; а самое важное - оставаться бесчувственным, когда у тебя нет несказанного чувства, что ты распростер руки и поднят волной творчества».
Достигая пределов « выразимого», «произносимого», человек оказывается в пограничной ситуации, на пороге «иного состояния», того мистико-рационалистического переживания «неописуемого» бытия, которое со всей отчетливостью ощущается в философском наследии Витгенштейна. При этом вектор этических поисков философа имеет иную, чем у Музиля, направленность: «Смысл мира должен находиться вне мира. В мире все есть, как оно есть, и все происходит, как оно происходит; в нем нет ценности - а если бы она и была, то не имела бы ценности [...]. Бог не обнаруживается в мире». Австрийский писатель стремится «обнаружить бога» в мире, в ситуации, когда «мир воспринимается не как взаимосочетание внешних, предметных связей, а как цепочка пронизанных твоим «я» (ichhaften) переживаний».
Второй том музилевского романа представляет собой своего рода художественно-философский эксперимент, который совершают Ульрих и Агата, пытаясь нащупать границу между произносимым и молчаливо переживаемым. По П. Кампицу: «В противоположность к отчетливому разграничению Витгенштейном произносимого и непроизносимого, «говорения и показывания», осмысленной речи и того, о чем можно только молчать, Музиль выбирает промежуточное царство: промежуточное царство литературы, которое нельзя интерпретировать только как нечто иррациональное, или же как нечто только нерациональное, или как нечто случайное, но которое пытается соединить обе стороны: воплотить мысль. Музиль обозначает это царство как «попытку разложения и наметки синтеза». Соглашаясь с этим наблюдением, следует все же отметить, что в отношении к литературе для Музиля характерен тот же своеобразный этический ригоризм, которым отличался Витгенштейн и который не позволял им обоим превращать «творчество» в «профессию». Ульрих, интеллектуально-этический опыт которого во многом свидетельствует о поисках в этой сфере, предпринимавшихся самим автором, говорит об этом так: «человек, который хочет истины, становится ученым; человек, который хочет дать волю своей субъективности, становится писателем; а что делать человеку, который хочет чего-то промежуточного между тем и другим?». Нетрудно отыскать в этой «промежуточной зоне» место и для Людвига Витгенштейна, в одной из записей которого (1933 г.) мы встречаем следующую попытку определения собственной позиции: «Я полагаю, [что] мое отношение к философии можно, собственно говоря, представить только с помощью поэтической фантазии».
Музилевский роман, на мой взгляд, также связан, среди прочего, именно с попыткой «поэтизации» отношения к философии. В дневниковых записях начала 1920-х гг. Музиль определяет философа-моралиста как того, кто «применяет лишь такие этические правила, которые поддаются логическому определению. К этому склоняются все философы, для которых этика является своего рода привеском к теоретической философии [...]. Особый, продуктивный вариант представляют собой исследователи, для которых нравственность является предметом, подлежащим исследованию в его взаимосвязях [...]. Они сродни поэту. Их вклад в этику затрагивает не форму, а сам материал». Эта родственность философа поэтическим занятиям, художественному творчеству — несомненная особенность философских текстов раннего Витгенштейна.
Явная ориентация философствования Витгенштейна в направлении «смысла бытия» вполне могла броситься в глаза Музилю, уверенному, что «только один вопрос действительно стоит того, чтобы о нем думать, и это вопрос о правильной жизни».
Л-ра: Вопросы философии. – 1998. – № 5. – С. 113-119.
Произведения
Критика