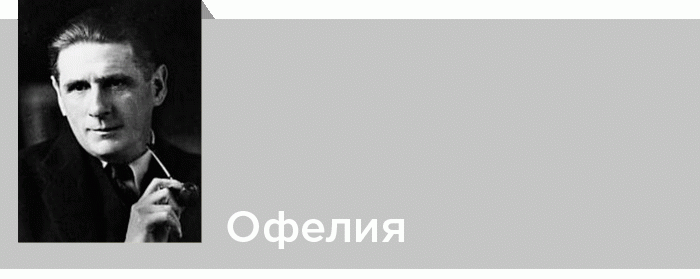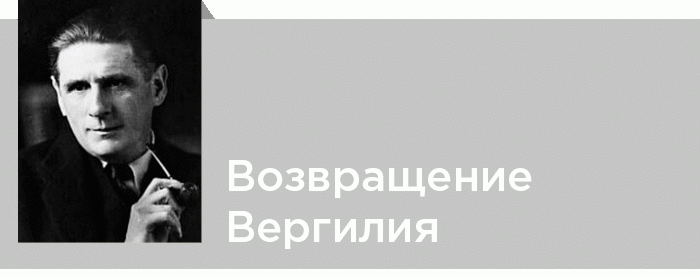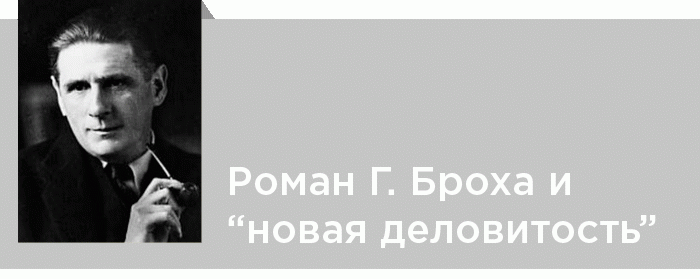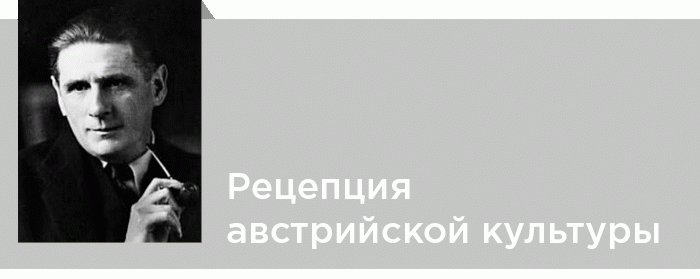«Надежда на созвучье бытия»

А. Ерохин
Соотечественник Германа Броха, писатель Элиас Каннетти, как-то назвал его художественные произведения «поэзией атмосферного», имея в виду то тревожное внимание, с каким австрийский романист прислушивался к неровному, затрудненному дыханию современного ему человечества. Желание вернуть миру утраченную гармонию, исцелить разум от грозящего ему тоталитарного удушья — вот что побудило управляющего венскими текстильными фабриками променять в 1927 году свое бюргерское благополучие на беспокойное и непрочное бытие «вольного художника». Это смелое решение подарило австрийской и мировой литературе самобытного писателя, обогатившего современный роман новыми идеями и средствами выражения.
Знакомство нашего читателя с романами Германа Броха начинается с «Невиновных» (1950) — произведения, составленного из написанных в разное время новелл и лирических комментариев — «голосов». «Притча о Голосе», открывающая роман, содержит ключ ко всему художественному творчеству писателя. В загадках, которые старый мудрый рабби Леви задает своим ученикам, говорится о тайне времени и о тайне Бога. С этими же вопросами — как остановить «железный самотек истории» (выражение Андрея Платонова), как обрести подлинную веру — австрийский романист обращался к себе и к своей эпохе. Ответы, предложенные Брохом в своем последнем романе «Невиновные», кратки и бесхитростны: спасение — в «простой гуманности», нравственном долге и уважении к достоинству личности. Однако за кажущейся самоочевидностью этих истин стоят годы напряженных духовных исканий, заблуждений и горьких разочарований писателя, выстрадавшего свое право обратиться к человечеству с суровым моральным назиданием.
С гибелью монархии Габсбургов в 1918 году порвались последние нити, связывавшие молодого Броха с «материнской» культурой немецкоязычного населения Дунайской империи. Будущий писатель ощущает себя Агасфером, бесприютным пикаро, выброшенным в неуютное пространство мировой истории. Воспринимая свое положение блудного сына как наказание за «слепоту» и равнодушие к страданиям людей, он стремится найти новую «духовную родину», возвести посреди сумятицы и какофонии столетия храм всеобщей гармонии, основанный на вере в достоинство самоценной человеческой личности. Романы Броха, один за другим появляющиеся в тридцатые и сороковые годы, представляют собой эскизы этого величественного здания.
Ужа в первом своем значительном произведении, трилогии «Лунатики» (1932), написанной «под знаком Джойса», в рационально-ироничной манере, Брох ищет спасения от бессмысленной жестокости истории в «простой человечности», в предельной искренности исповеди и молитвы. На страницах «Хюгенау», завершающей части трилогии, нарисована впечатляющая картина народного восстания 1918 года. Брох, подобно Александру Блоку, напряженно вслушивается в «голоса варварских масс», но — в ужасе отшатывается от революции, уловив в ней не патетическую «симфонию созидания», а крик боли, какофонию разрушения. Новое, по мысли писателя, должно появиться в тишине, в первом лепете нарождающейся жизни, на границе мрака и света.
В последующих романах Броха — «Неизвестной величине» (1934), «Наваждениях» (первая публикация — в 1953 году, через два года после кончины автора), «Смерти Вергилия» (1945), «Невиновных» (1950) — лирические настроения усиливаются и становятся главенствующими.
Главному герою «Смерти Вергилия», лучшего романа Броха, все же дано вернуть былую мощь слову и пробиться сквозь невнятицу и хаос гибнущего античного мира к целостности новой религии — в меркнущем сознании римского поэта прогремит очистительный Глас, призывающий к нравственному возрождению.
Но, прежде чем совершить предсмертное восхождение к духовному синтезу, Вергилий должен пройти все круги ада в собственной душе, очистившись от поклонения ложным ценностям и фальшивым кумирам. Все, что происходит с Вергилием в последние тридцать шесть часов жизни — прибытие его вместе с эскадрой императора Октавиана Августа в порт Брундизий, жуткий путь через зловонные городские трущобы, сквозь людские толпы, приветствующие Цезаря, мучительная ночь в императорском дворце, решение сжечь рукопись «Энеиды», встреча с друзьями, долгий и трудный разговор с Августом, отказ от принятого решения — все это в конечном итоге служит обретению искомой «круглой вечности», в центре которой — представление о свободной и самоценной личности. На пределе отчаяния, пропустив через себя все ужасы отчужденного, разлаженного бытия, Вергилий осознает, что только деятельная любовь к человеку восстановит былое согласие. Уничтожение «Энеиды» задумывается поэте как искупительная жертва, знаменующая его окончательное отречение от прежних иллюзий и поворот к грядущей христианской религии. Изображая Вергилия как провозвестника христианства, писатель, несомненно, опирается на средневековых комментаторов римского поэта, усматривавших в IV эклоге «Буколик» предсказание рождения Христа.
Фактической кульминацией романа является спор больного поэта с императором Августом. Тщетно пытается Вергилий объяснить правителю смысл своего решения сжечь «Энеиду». Поэт и его собеседник находятся как бы в разных измерениях, поэтому таким контрастом к скупым, но предельно искренним и выстраданным словам Вергилия звучит самодовольная риторика Августа. Конечно, есть свой резон и в рассуждениях императора о «суровой римской человечности». Но беда Октавиана в том, что он отказывается признать бренность своего детища, своего кумира — государства. Поэтому, уступая владыке рукопись «Энеиды» в обмен на обещание освободить его, Вергилия, рабов, поэт одерживает принципиальную победу: сделан первый шаг на пути к религии любви и сострадания. Истина милосердия оказывается сильнее земной власти кесаря.
В заключительных сценах романа Вергилий, которому благосклонной судьбой дарована легкая смерть (может быть, легчайшая в мировой литературе XX века), становится свидетелем обратного процесса сотворения бытия. В грандиозных картинах возвращения всего «тварного» мира к своему божественному первоистоку происходит единение макро- и микрокосмоса, сближаются противоположные начала: покой и движение, «верх» и «низ», дух и материя. В своеобразной «одухотворенной предметности» сливаются страдавшие от своей разрозненности живые существа, природные стихии и мертвые вещи: так, человек, «причастный растительности и животности», то «истукану из глины, земли и камня». Все сущее стремится к единству и обретает его: этой центральной идее романа соответствует особая музыкальность его языка. Какофония отчужденного бытия, выраженная в мучительных звуковых кошмарах больного поэта, в конце концов подчиняется ритмизованному потоку лирических излияний Вергилия. Общепринятые, застывшие значения слов «расплываются» в мерном ритме безбрежных предложений романа, демонстрируя тем самым несовершенство привычных средств выражения. Вот как, например, описывается одно из мгновений последней ночи Вергилия, проведенной во дворце Августа: «Не спеша оплывали свечи в канделябрах, вокруг которых с монотонным и злобным писком кружили комары, монотонно журчала вода в фонтанчике на стене, и это журчанье казалось частичкой ее общего, несказанно вневременного, неподвижного, океанского течения: на фризе в неподвижной игре, окаменев в такой безмятежности, в таком сверхпокое, застыли амурчики, у которых уже не было собственного лика, они растворились в протяженной вдаль, на весь мир протяженной, стыло-кипучей, потусторонней ночной тишине, в вековечной неизменности эонов, что — насыщенная тенью и порождающая тень — представала как из дыхания возведенное полое вместилище снов, с приливами их и отливами, как невнятное молчание хаоса, осененное беззвучными крылами громов под незамутненными звездами». Так, в столкновениях противоположных смыслов, в создаваемых с помощью пауз и недомолвок «зазорах» читатель должен уловить отголосок некоего трансцендентального «метаязыка», открывшегося поэту.
Мир, находящийся во взвешенном, неустойчивом состоянии перехода, потерявший свою прежнюю ясность и отчетливость, но еще не обретший иную форму, на наших глазах как бы заново осваивается языком. Новое еще не определено, не названо по имени, оно существует неуловимо в размытости привычных контуров и масштабов. Брох в «Смерти Вергилия» стремится уловить миг преображения и перевоплощения, он хочет дать определение тому, что невозможно описать в знакомых понятиях — они слишком однозначны для той высокой утопической задачи, которую поставил перед собой автор. Язык «Смерти Вергилия» — это попытка передать состояние «еще нет, но и уже...», когда слово, в котором брезжит новый смысл, еще сковано смыслом старым.
«Благая весть», прогремевшая в сознании умирающего поэта, остается неясным и таинственным указанием: неведомая сила, направлявшая мысли и поступки Вергилия, обретает плоть и голос, выльется в суровое назидание уже на страницах последнего романа Броха.
Право обратиться к современникам с моральным наставлением дал писателю жестокий опыт Второй мировой войны. Потрясенный ее ужасами, он решает навсегда оставить писательское ремесло: теперь ему кажется, что никакому «слову мудрости» не дано восстановить гармонию, загубленную в газовых камерах и печах Освенцима. Однако через четыре года после публикации «Смерти Вергилия» Брох приступает к работе над романом в новеллах «Невиновные». Одним из поводов к этому послужила острая дискуссия о «немецкой вине», развернувшаяся в послевоенной Германии. Стремясь принять участие в полемике, писатель задумывает «дидактическую» книгу, которая бы непосредственно апеллировала к нравственному чувству его соотечественников.
События в романе «Невиновные» разворачиваются под звуки моцартовского «Дон Жуана». «Предыстории» 1913 года передают настроения «веселого апокалипсиса», царившие в габсбургской Вене, где мишурный блеск и пышность театрального карнавала, подобно крышке перегретого парового котла, едва сдерживали мощный напор сил хаоса и распада.
Одна из черт венской культуры «конца века» — трагизм под маской опереточного фарса — обрисована в новелле «На парусах под легким бризом». Ее герой, некий молодой человек А. (право называться собственным именем Андреас он получит, как и Вергилий, перед смертью), разыгрывает в своем сознании нелепую сцену, пародирующую известный сюжет о Дон Жуане и Командоре. Однако то, что нам представляется порождением больной совести А., сублимацией его тайных страхов и влечений, впоследствии обернется реальной катастрофой.
Суд над Андреасом, «без вины виноватым» антигероем романа, вершит Пчеловод, фигура наполовину реальная, наполовину фантастическая, действующая от имени верховной карающей инстанции — незримого сурового божества. Острие критики в романе направлено против «невменяемых» обывателей, «призраков, приученных к порядку», напоминающих скорее злых персонажей из театра марионеток, нежели живых людей. Их грех состоит в неведении, в равнодушии, с каким они сеют вокруг себя смерть и разрушение. Цахариас и Филиппина, баронесса В., Хильдегард и Церлина живут в «пустом времени» бессмысленных повторений, замкнувшись в узком мирке окостеневших ценностей и идеалов. Только Андреасу, взявшему на себя ответственность за все зло, творимое в мире филистерами, даровано право раскаяться и самому исполнить приговор, пустив себе пулю в сердце.
«Невиновные» — роман открыто антифашистский. Связь косного мещанского сознания с идеологией национал-социализма разоблачена в пьяных откровениях штудиенрата Цахариаса, вознамерившегося, в частности, отменить «упадочную» физику Эйнштейна. Рисуя гротескные портреты немецких обывателей, автор демонстрирует незаурядное мастерство карикатуриста, приобретенное еще в начале века, в далекие годы сотрудничества с крупнейшим австрийским сатириком, издателем журнала «Факел» Карлом Краусом.
Впрочем, содержание романа не исчерпывается его верхним, социально-критическим слоем: немаловажную роль здесь играет своеобразная «геометрическая символика». Любимая фигура Броха — треугольник, положена в основу композиции «Невиновных». Конфликтные ситуации в произведении задаются пересечением двух пар треугольников: «семейного» (Андреас — Пчеловод — Мелитта, Андреас — баронесса — ее покойный муж, председатель суда) и «любовного» (баронесса — господин фон Юна — Церлина, Андреас — Хильдегард — Мелитта). Как известно, простейшая гармония состоит из трезвучия. С другой стороны, цифра «три» может стать символом разлада и хаоса. В «Невиновных» распад затрагивает первичные клеточки человеческого бытия — семью, отношения мужчины и женщины. И все-таки возможность разрешения диссонанса в идеальный аккорд существует: она намечена в сюжетной линии Андреаса, Пчеловода и его приемной дочери Мелитты. «Кривизна» корысти и равнодушия выравнивается чистотой и праведностью простой жизни.
«Назидательный» характер романа отчетливо проявляется в его языке: он становится суше, строже, прозрачнее. По сравнению со «Смертью Вергилия» уменьшается количество риторических фигур, поэтических тропов, синтаксических «излишеств». В лирических «голосах» автор использует то ироническую пародию (так, он в своих целях обыгрывает барочные «ламентации», гетевскую балладу «Лесной царь» и прусский военный марш), то прямую дидактику в духе брехтовских «зонгов», то ветхозаветные пророческие интонации.
Теперь Брох стремится к большей отчетливости и ясности своего языка, своего «позднего стиля», обнажая его строгую логическую основу. В то же время, сосредоточив внимание на малом числе простейших «первообразов» — геометрических фигур, писатель не забывает и о задаче «одухотворения», «очеловечения» этих абстрактных конструкций. Сохраняя хрупкое равновесие между интеллектуальным расчетом и «голосом сердца», Брох надеется вернуться к столь желанному для него «органическому теплу» классического европейского гуманизма.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1991. – № 3. – С. 63-65.
Произведения
Критика