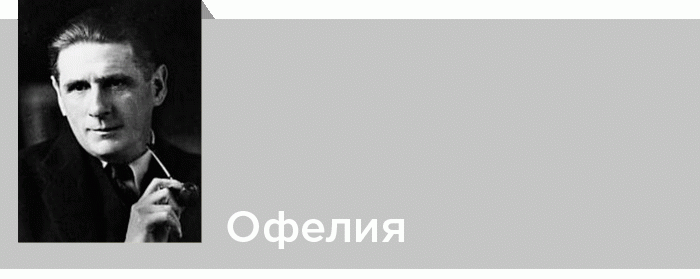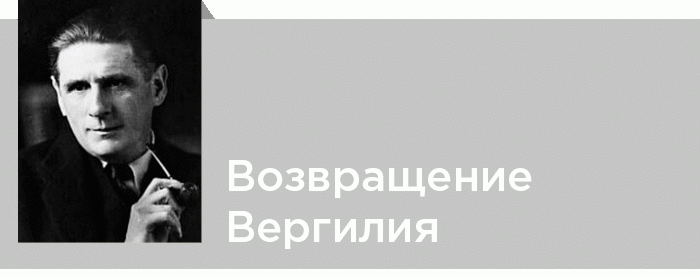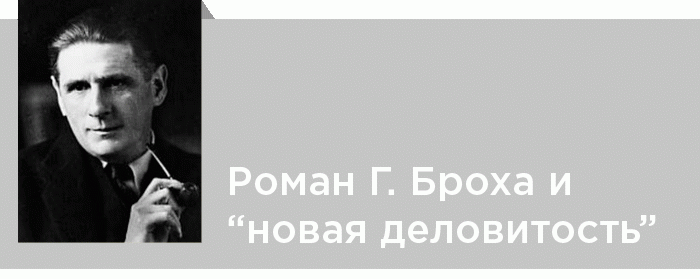Рецепция австрийской культуры рубежа веков в эссе Г. Броха «Гофмансталь и его время»
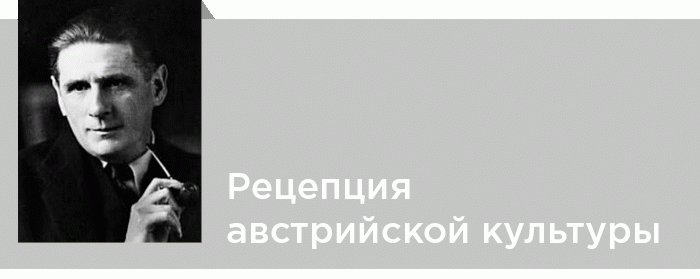
Т. Е. Пичугина
Эссе Г. Броха «Гофмансталь и его время» (1948-1950) было одним из первых исследований, в котором подымалась проблема специфики австрийской словесности и австрийского характера. Изначально предполагалось, что Брох напишет небольшое введение к англоязычному изданию трехтомника Гофмансталя. Однако фигура Гофмансталя мало его привлекала, и введение превратилось в размышление об эпохе fm de siecle, которая во многом определила личность и самого Броха. В письме к Даниелю Броди он признавался: «Я могу изобразить Гофмансталя, этого гомункулуса, только если при этом я изображу всю эпоху». Поэтому времени в эссе Броха уделено гораздо больше внимания, чем Гофмансталю, жизнь которого представлена как «благородный символ исчезающей Австрии, исчезающей аристократии, исчезающего театра - символ в вакууме, но не вакуума». Ценностный вакуум и является, согласно Броху, основной характеристикой современности. Формы его воздействия на европейскую культуру рубежа веков стали объектом рефлексии в эссе о Гофманстале.
Доминирующим настроением австрийского (и прежде всего - венского) общества рубежа веков Брох считает гедонизм, одной из форм проявления которого в искусстве стала декоративность. Легитимность декоративного искусства в Австрии была продиктована, по мнению Броха, не только общим гедонистическим образом жизни, но и любовью к театру. Если югендстиль и приживается в венском интерьере и австрийской живописи, то только в силу своей декоративности и, таким образом, близости к театру (театральной декорации). Здесь Брох проводит две параллели. С одной стороны, он сравнивает Вену и Париж, обнаруживая общие черты не только в атмосфере этих городов, но и в постоянной готовности к наслаждению спектаклем. «Комеди Франсез и венский Бургтеатр, - пишет Герман Брох, - были параллельными институциями». С другой стороны, если французский символический театр тяготеет к мимическому жесту (как пример Брох приводит театр Метерлинка) и к балету, то австрийский - к музыкальному спектаклю (опера, оперетта).
В австрийской словесности декоративность находит свое выражение в фельетонизме, «культуре фрагмента», как определяет этот феномен Клаудио Магрис. «Эта импрессионистическая и фрагментарная литература наполнена сентиментальностью и иронией, некритической любовью ко всему венскому - от кайзера до молодого вина - и язвительной насмешкой над этими же дорогими вещами. Объем подобного литературного жанра мог быть только один - страница, фрагмент». Собственно, Брох и Магрис расходятся лишь в оценке этого литературного феномена: изначальное неприятие культуры вальса как лишенной какой бы то ни было этической ценности не позволяет Броху увидеть в венском фельетоне ту самоиронию, о которой говорит Магрис. Однако корни этого жанра оба видят в нестабильности габсбургской монархии, определившей то специфическое настроение радостного прощания, которое Брох назвал «веселым Апокалипсисом».
В эссе о Гофманстале обращает на себя внимание амбивалентность авторской позиции: изначальная установка на острую критику венского общества и невольно заявляющая о себе ностальгическая привязанность к этому миру. Как отмечает Феликс Крайслер, «...несмотря на все негативные суждения, при более близком рассмотрении в эссе о Гофманстале снова и снова заявляет о себе понимание Брохом специфического национального своеобразия Австрии и австрийцев, ранее им явно не осознаваемое». Предпочтения Броха становятся более определенными, когда речь заходит о немецком искусстве. В данном случае он вспоминает, что помимо Штрауса и фельетона в Австрии были Брукнер и Албан Берг, Рильке и Краус. Наиболее четко прослеживается противопоставление «Вагнер, Ницше, Георге - Гофмансталь, Рильке». Уже первое упоминание о Вагнере намечает линию раздела между немецким и австрийским мировоззрением. Если творчество Вагнера представлено как «зеркало вакуума», то укорененность Брукнера в католической вере позволила ему этот вакуум преодолеть.
Консерватизм австрийской культуры, который Брох понимает как связь с традицией (в случае Гофмансталя речь идет о традиции Бургтеатра) и католицизмом, противостоит эсхатологическим настроениям немецкого общества, которые, в свою очередь, приводят к одержимости идеей спасителя и вождя. «...В поэзии ли, в непосредственном ли обращении к молодежи, в своем ли <...> склонном к возвышенному личном образе жизни Георге изображал этического вождя, призванного привить бытию, и прежде всего - немецкому бытию, новые нравы и приличия», - пишет Герман Брох, отмечая, что подобная позиция была свойственна не только Георге, но и Вагнеру, и Ницше. Ненависть к черни - толпе обывателей, стремление сформировать новую духовно-аристократическую элиту, неизменно окрашенное пророческими и направляющими интонациями, оборачивается в творчестве Георге идеей «очистительного горнила войны», призывом уничтожить десять тысяч: "Zehntausend die heilige seuche raffen/Zehntausende der heilige krieg". По этому поводу Брох отмечает: «Только там, где обезбоженная, но при этом мистически эстетизирующая эсхатология заменяет политическое мышление, возможно подобное извращение этических понятий. <...> Чтобы спасти мир от зла, требовали зла». Отсюда, по мнению Броха, и образ Антихриста, преследовавший Ницше и Георге: «Они чувствовали, что он ... проявляет свою сущность в их эстетизме, что он привел их, хоть и в рафинированно-скрытой форме, к кажущейся гуманности, имигатавной гуманности, и, таким образом, их не должно было бы удивить, что, несмотря на ненависть к обывателю, несмотря на бегство от обывательщины, несмотря на одинокую смерть, их, в конце концов (притом вместе с Вагнером), сделали святыми озверевшей черни, образцовыми святыми безбожников».
Мысль Броха постоянно вращается вокруг средневековой модели мира, обладавшей «идеальным ценностным центром - <...> верой в христианского Бога». Протестантство, по его мнению, превращает язык Бога в язык вещей. В собственной абстрактно-утопической теории возвращения к логосу Брох ссылается на «В начале было Слово» Евангелия от Иоанна. Таким образом, консервативный католицизм, черты которого австрийский писатель обнаруживает в творчестве Гофмансталя, не был чужд и самому Броху, и сформировался в австрийской словесности в силу определенных исторических обстоятельств.
В своем эссе Брох неоднократно использует культурологическую универсалию «конец тысячелетия». При этом тысячелетие западноевропейской культуры, датируемое им IX-XIX вв., совпадает в его представлении с тысячелетием Австрии, что позволяет Броху рассматривать Австро-Венгрию как модель мирового распада. «Апокалиптическое, - пишет Брох, - витало во всем мире, наиболее лихорадочно - в Германии, наименее - в непосредственном центре, то есть в Австрии, так как в центре тайфуна всегда царят вакуум и его тишина: если всюду наблюдались напряжение и беспокойство, то здесь не беспокоились, так как здесь и так уже сто лет царило настроение прощания, и если в других местах искали новые средства, чтобы преодолеть угрозу зла, то здесь довольствовались средствами консерватизма и консервирования, ибо больше не стоило ставить новые эксперименты, а стоило лишь отодвигать неизбежный конец...». Отсюда - недоверие ко всякого рода пророческим тенденциям в искусстве, попыткам объявить себя духовным вождем и провидцем. Характерно, что сам Брох говорит об обреченности этак попыток на провал (случай Пеги и Георге), таким образом недвусмысленно принимая более «мудрую» и «человечную» австрийскую позицию. Поэтому поэту в Австрии отводится функция не вождя, а наблюдателя (Seher - видящий), причем в случае Гофмансталя, по мнению Броха, речь идет о сознательном выборе между «видящим» и «духовным вождем». Эта позиция сказывается и в лирике Гофмансталя. «Поэт, - подчеркивает Г. Брох, - разворачивает лирическую ситуацию не из ее центра, который является также и его центром, а противостоит ей ... как наблюдатель. <...> он видит себя агитирующим на лирической сцене». Это наблюдение Броха затрагивает одну из наиболее интересных черт австрийской литературы: визуальность повествовательного образа и вещественность изображаемого мира, то есть акцент на предмете как на теле, имеющем самостоятельное значение. Эмансипация мира вещей в «Письме лорда Чандоса» (1902) Гофмансталя, «Записках Мальте Лауридиса Бригге» (1910) Рильке, «Душевных смутах воспитанника Терлеса» (1906) Музиля, визуальная вещественность поэзии Рильке, сухой протокол, своего рода «инвентаризация» мира чувств и вещей у Кафки во многом определили самобытное звучание австрийской литературы. Разграничивая общеевропейский и австрийский литературный феномены рубежа веков, отметим, что речь идет не о символизации предметной сферы, хотя и этот элемент, безусловно, присутствует, а о создании языка вещей: от изображения их бунта и обособленности до их значимости в процессе самоидентификации личности.
Сама этимология немецкого слова Gegenstand (то, что стоит напротив, противостоит) содержит в себе основания для подобного изображения, т.е. противопоставления предмета и личности. Мотивы «глаза» и «вощи» играют значительную роль и в творчестве Г. Броха.
Этот феномен «видения со стороны» Брох называет сценичностью, которая, на его взгляд, с одной стороны тесно связана с латинской традицией, и прежде всего с драматургией Кальдерона, а с другой - «в определенной степени указывает на противоположность германской и латинской мысли». Таким образом, Брох ещё раз подчеркивает различия немецкого и австрийского искусства и указывает на барочные черты последнего: гипертрофированность австрийского двора, включение театра в монархическую ценностную иерархию, символом чего, своего рода «монархическим барочным жестом», является наличие «императорской ложи» в любом австрийском театре, свидетельствуют, по мнению Броха, не только о музейном характере Габсбургской монархии, но и о тесной связи австрийской культуры рубежа веков с традициями барокко. «Вена, - пишет Г. Брох, - оставалась барочным городом». Необходимо отметить, что Брох рассматривает проявления барокко в австрийской культуре в тесной взаимосвязи с католицизмом, отсюда - интерес к мистериальным чертам как попытке воскресить христианскую этику в драматургии Гофмансталя. Брох анализирует этот феномен на примере его драмы «Jedermann» («Всяк Человек»): «Всяк Человек, поскольку он должен умереть, снова возвращается к своей христианской основе. Это было «великим утешением», которое, казалось, только и могло подойти австрийскому народу в смертный час его государства». В своей эссеистике Брох постоянно возвращается к проблеме модификации образа Всяк Человека в современной литературе, что, с одной стороны, соответствует его концепции «запрета на личное» в современную эпоху, с другой же - отражает тенденцию литературы модернизма к мифологизации действительности, к моделированию реальности и личности - тенденции в значительной степени присущие австрийской литературе XX в. (романы Кафки, Музиля и самого Броха). «Jedermann» также является своего рода моделью мира, но уже в силу его драматически-мистериальной структуры и развития темы мирового театра приобретающей барочные черты.
Центральное место в творчестве Гофмансталя, по мнению Броха, занимает образ смерти. Смерть представлена в нем как «вершина земного нравственного ритуала». Таким образом, разрешение онтологического противоречия жизни и смерти в творчестве Гофмансталя осуществляется в рамках традиционной католической модели. Несколько иначе феномен смерти рассматривается в творчестве Рильке. По мнению Броха, поэзия является для него средством преодоления смерти, страха перед ней. В творчестве Рильке обнаруживается, таким образом, абсолютно неприемлемое для Гофмансталя «обнажение души и ее интимнейшей святости». Если в случае Гофмансталя речь идет о «нравственном очищении в смерти и через смерть», то в случае Рильке - о «спасении себя (Selbsterinsung)» средствами поэзии.
В работе Германа Броха обращает на себя внимание выстраиваемый им ряд понятий: смерть - католицизм - искусство - познание. В этой парадигме не только искусство выступает как ритуал познания у Гофмансталя и инструмент познания у Рильке (собственно, в этом, по мнению Броха, и заключается отход Рильке от католицизма), но и смерть в ее католической интерпретации становится как онтологической, так и гносеологической категорией.
Выделяя в творчестве Гофмансталя три основных момента - жизнь, смерть и сон, - Брох указывает на их тесное переплетение: «...на трезвучие смерть, сон и жизнь опирается симфоническая структура всех произведений Гофмансталя». Взаимодействие мотивов жизни и сна возникает в австрийской литературе также под влиянием драматургии Кальдерона. Как аллюзию на его пьесу «Жизнь есть сон» (1636) Брох рассматривает пьесу Грильпарцера «Сон - жизнь» (1834). Оба произведения, по мнению Броха, оказали сильное влияние на Гофмансталя, что наиболее ярко проявилось в его последней драме «Башня» (1925). В ней, как отмечает Клаудио Магрис, «...видение социального становится сном, идеалом нового порядка справедливости и понимания».
Восприятие реальности как сна, иллюзии было во многом продиктовано спецификой австрийской монархии рубежа веков, которая, как указывалось выше, руководствовалась принципом «консервирования». Государство все больше редуцировалось в корону, в фигуру Франца-Иосифа. Последний был не только символом монархии, но и символом единства Австро-Венгрии. «Чем старше становился Франц-Иосиф, - отмечает Г. Брох, - тем больше он чувствовал свою идентичность с государством, чья отмеченная смертью судьба была связана с его собственной». Чуждый гедонистических настроений своего времени, Франц-Иосиф вел замкнутый образ жизни, подчиненный церемониалу двора. Полный достоинства, одинокий беспомощный старик, ведущий бюрократический образ жизни служащего, сопротивляющийся всему новому как в архитектуре, так и в политике, «Франц-Иосиф I был просто абстрактным монархом», - пишет Г. Брох. Фигура Франца-Иосифа в определенной степени мифологизируется. Так, его возраст, подчеркиваемый Брохом, ассоциируется с обреченностью австрийской монархии; его пристрастие к военным парадам и строгое соблюдение дворцового церемониала рассматривается как стоическое поддерживание традиции, своего рода мудрый консерватизм.
Иллюзорная реальность габсбургской монархии, ее театрально-ритуальный характер, видимо, и привели к трансформации барочной формулы «жизнь есть сон» в «сон есть жизнь», причем реальность сна оказывается более мудрой и человечной.
«Сном, - пишет Герман Брох, - был город, однако сном в его сне был кайзер, сном, когда для его охраны ровно в двенадцать часов в замок вступала красномундирная сверкающая золотом лейбгвардия со своими алебардами; сном, когда часом позже, с первым ударом замковых часов, тамбурмажор замкового оркестра со следующей за ним в парадной униформе ротой смены караула вступал во внутренний двор замка и кайзер иногда показывался в окне кабинета дня аудиенций; и сном было, когда он несколько позже в своей карете - лейбегерь с развевающимся белым султаном рядом с кучером - выезжал в Шенбруннский дворец; когда посреди этой тишины выступал главным маршем караул, - никогда больше образ кайзера не должен был покинуть фантазию Гофмансталя; он остался сном во сне, сказкой в сказке, воплощением их обоих, поскольку, видимо, в нем ребенок усвоил сущность поэзии». В этом описании обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, это - театральный характер дворцового ритуала (даже появление кайзера в окне рассчитано на театральный эффект), его строгая регламентированность и красивость, что Брох определяет как «сон во сне», в дальнейшем распространяя эту дефиницию на все творчество Гофмансталя. Во-вторых, - сказочное измерение этого сна. Как отмечает Брох, не только кайзер представлен в творчестве Гофмансталя как сказочный персонаж, но и австрийский народ становится «коллективным сказочным образом», созданным по образцу альпийских крестьян. «Сказочный образ был для Гофмансталя истинной реальностью», - пишет Г. Брох. Он также отмечает специфический сплав традиции западноевропейской и восточной сказки, что особенно заметно в образах экзотического принца и кайзера.
Отождествление Брохом сказки и сна не следует рассматривать буквально. Брох зачастую пренебрегает традиционным значением термина, придавая ему собственную смысловую окраску. Так, сказка понимается им не как устойчивый литературный жанр, а как прекрасная греза, пусть даже и отмеченная красотой угасания. Таким образом, означивается разграничение сна как грезы и сна как кошмара. Приведенное выше описание придворного ритуала во многом инспирировано спецификой поэтики произведений Гофмансталя. Красные мундиры, сверкающие золотом, белые развевающиеся султаны, бой дворцовых часов, застывшие со шляпой в руках прохожие, замедленный ритм жизни, воссоздаваемый как необычно длинным предложением с минимальным количеством глаголов, так и фиксированными повторами, - все это воссоздает ту атмосферу грезы, которая свойственна поэзии Гофмансталя. В каком-то смысле Брох прибегает к стилевой цитате как средству анализа.
Наиболее интересным в этом контексте представляется определение Брохом стихотворений Гофмансталя как «сновидных ландшафтов». Это определение объединяет и особенности пространственно-временной организации произведений Гофмансталя, и специфику их предметности (выдвинутость вещи на первый план, любование ею во сне-грезе и ужас перед ней во сне-кошмаре), и ту отстраненность, которую Брох определяет как видение извне.
Третий аспект, привлекающий к себе внимание в цитируемом описании, связан с психоаналитической интерпретацией детских переживаний в творческом процессе. Отметим, что выводы Броха носит, скорее, гипотетический характер. Он обращается к фактам биографии Гофмансталя, однако значимость и сила восприятия этих фактов может рассматриваться лишь как гипотеза, а не утверждение. Брох прибегает к определенной подмене, то есть выводит значимость детских переживаний да творчества Гофмансталя, а не наоборот. Подобным же образом выводится тезис о нарциссизме Гофмансталя и о специфике проблематики «отец - сын» и «учитель - ученик» в его творчестве. Броха интересуют не столько биографические, сколько символически-знаковые факты: портрет кайзера на стене классной комнаты, посещения Бургтеатра, приставка фон, выделяющая юного Гофмансталя в преимущественно буржуазной школьной среде, и выводимое отсюда утверждение, что Гофмансталь ощущал себя «сказочным принцем», и прочее. Постепенно жизнь Гофмансталя приобретает парадигматический характер, становится символом Австрии. Такому пониманию жизни и творчества Гофмансталя способствуют не только структура эссе и постоянная символизация деталей, но и прямые указания Броха, как, например, следующее: «...он должен был воспринимать себя и свою жизнь как символ, как символ своей судьбы».
Влияние психоанализа не исчерпывается вниманием Броха к преломлению детских впечатлений в творчестве Гофмансталя, но сказывается в особом интересе к феномену сновидения, причем сновидение рассматривается им не как вытесненное переживание, т.е. поле реализации индивидуального бессознательного, а скорее - в юнгианском смысле, как сфера проявления архетипов, т.е. коллективного бессознательного. Согласно концепции Юнга, в этой части бессознательного «...заключено то содержание и способы поведения, которые присутствуют везде и во всех людях». Таким образом, архетипическое содержание сновидения универсально, оно - вневременно, поскольку заключает в себе опыт всего человечества. В эстетической теории Германа Броха юнгианскому термину «архетип» соответствует «прасимвол», который, как и архетип, содержит в себе бытийственные основы человеческой души, является «реализацией платоновской идеи в мире эмпирики». Символ же, по мнению австрийского писателя, возникает из «взаимоперетекания жизни и сна». Более того, это слияние, а точнее - острое его переживание, становится соблазном творчества, соблазном «...зафиксировать сон, с тем чтобы суметь зафиксировать жизнь».
Если Юнг отводит сновидению значительную роль в процессе индивидуализации, то Брох, как видно из вышесказанного, сосредоточен на изучении взаимодействия сновидения и поэтического слова. Собственно, отправной точкой размышлений Броха по этому поводу является утверждение, что язык и сновидение представляют собой исключительно человеческую особенность. Сходство этих феноменов Брох видит в их символическом характере и открытости по отношению к реальности, причем язык, являясь средством освоения внешней реальности и способом ее закрепления в вечности, сам становится второй реальностью. Однако язык, как отмечает Герман Брох, обладая практической (т.е. прагматической) функцией, сохраняет реальность «формально», и в этой своей функции ориентирован на настоящее. В сновидении же (im sprachgeufneten Traum) языковая реальность подвергается вторичной символизации так, что слово приобретает уже независимое от времени поэтическое значение, поскольку «прошлое и будущее соединяются в настоящем сна».
Обновление поэтической формы осуществляется, по мнению Броха, также за счет использования музыкальных средств. Слияние музыки и литературы, нашедшее свое выражение в знаменитой формуле Верлена «музыка прежде всего», было для австрийской культуры естественной формой преодоления недостаточности слова, поскольку на рубеже веков Вена представляла собой город с высокоразвитой музыкальной культурой. Как отмечает П. Вайль, «...тогда музыкантов знали как матадоров в Севилье». Венская опера имела для культурной традиции этого города не меньшее значение, чем Бургтеатр. Однако амбивалентность, характеризующая отношение Г. Броха к австрийской культуре fin de sincle, сказалась и в этом случае. По поводу музыкальности Вены он с иронией отмечает: «Поскольку чудесным образом Гайдн и Моцарт, Бетховен и Шуберт собрались на этом клочке земли и, хотя с ними там дурно обращались, все-таки сочиняли свою музыку, Вена вообразила себя музыкальной институцией». То, что именно в Вене были заложены основы атональной музыки, Брох называет «иронией судьбы».
Столкновение эмоционально-личностного и интеллектуально-критического восприятия венской культуры начала века ощутимо на протяжении всего эссе о Гофманстале. Так, любимыми композиторами Броха были Бах, Моцарт и Брукнер, в то время как новации Шенберга привлекали его исключительно с теоретической точки зрения. В музыке Шенберга, конструктивистской живописи, романах Джойса нашла свое отражение тенденция XX века к дегуманизации искусства. Подобно тому как кубисты упростили образ человека до сочетания геометрических фигур, нововенцы логизировали композицию музыкального произведения, символом чего стал магический квадрат, приведенный Веберном в книге «Путь к новой музыке». Математический редукционизм проявляет себя не только в венской музыке начала века, но и в философии. В «Логико-философском трактате» (1921), который стал исходным пунктом построений представителей Венского кружка, Людвиг Витгенштейн видит задачу философии в создании идеального языка, «...который в силу своей однозначности автоматически снял бы традиционные философские «псевдопроблемы» (бытия и сознания, свободы воли и этики)». Еще раньше Отто Вейнингер в широко известной книге «Пол и характер» объявил логику основным требованием этики, своего рода категорическим императивом. Как видим, замечание Броха о случайном характере появления додекафонии именно в Австрии не вполне аргументированно.
На наш взгляд, потребность в некой универсальной системе, способной объединить разрозненные части целого, во многом обязана своим возникновением нестандартной языковой ситуации, сложившейся в Австро-Венгрии. Обращаясь к культурной ситуации в Праге, Клаудио Магрис отмечает, что многие писатели, используя в быту чешский или идиш, «...теряли веру в <...> действительность немецкого языка. Немецкая миссия Габсбургской империи, превратившая людей славянского происхождения в немецких писателей, стала причиной драматической дезориентации и вызвала как ироническую философию языка Музиля, так и орфическое слово Рильке». Смешение языков становилось причиной формирования разного рода фобий. Показателен в этом смысле пример Кафки. В одном из писем к Милене Есенской обнаруживает себя болезненное, почти физическое восприятие Кафкой чешского языка. «А Милена еще говорит о запуганности, - пишет Кафка, - и при этом наносит мне удар в грудь или (что в чешском языке по движению и звучанию совершенно одно и то же) спрашивает: "Jste äd?" Неужели Вы не ведите, как в слове "jste" оттягивается для удара кулак, чтобы собрать в одно всю мускульную силу? А в слове "äd" - радостный, точно рассчитанный, устремленный вперед удар? Для немецкого слуха чешский язык очень часто приобретает такие побочные смыслы»».
По мнению Броха, острое переживание тисового кризиса заявляет о себе и в творчестве Гофмансталя. Выделяя четыре этапа этого кризиса - сомнение, отчаяние, отрицание и любовь к языку, - Брох указывает два возможных выхода: слияние с математикой - путь, которым, как указывалось выше, пошли представители Венского кружка, и слияние с музыкой - путь, избранный Гофманстале. Ни симфоническая организация произведения, ни музыкальные созвучия гласных и согласных не разрешают, по мнению Броха, ситуацию языкового сомнения. Наиболее радикальным шагом является «героический отказ» от вербальной самодостаточности литературного произведения, переход от театра к опере, предпринятый Гофмансталем - автором либретто «Кавалера роз». В данном случае намечается определенное сродство концепций Вагнера и Гофмансталя: и для одного и для другого произведение искусства представляло собой нерушимое единство, и сочинение текста никогда не было для них побочным делом. Различие между Вагнером и Гофмансталем заключается в разнонаправленности творческих интенций: революционных - в первом случае и традиционалистских - во втором. Брох еще раз подчеркивает, что ценностный вакуум был для Вагнера питательной почвой, из которой он черпал свои силы, в то время как Гофмансталь стремился этот вакуум преодолеть. «Структура музыки казалась устойчивым полюсом, - пишет Г. Брох. - И, таким образом, многое говорит за то, что Гофмансталь ожидал от нее преодоления вакуума, видел в ней будущую отправную точку новой кристаллизации ценностей».
Л-ра: Від бароко до постмодернізму. – Дніпропетровськ, 2000. – Вип. 4. – С. 82-90.
Произведения
Критика