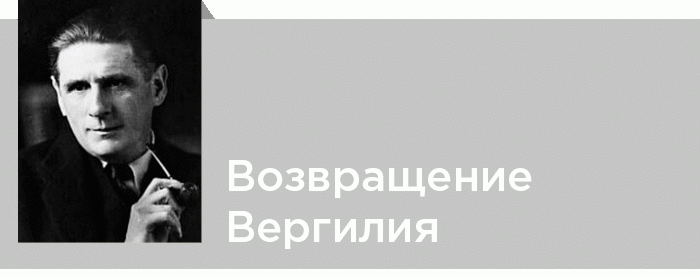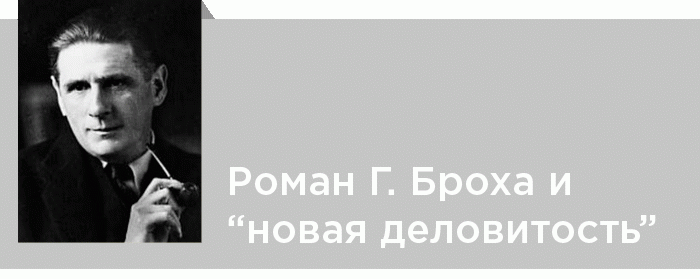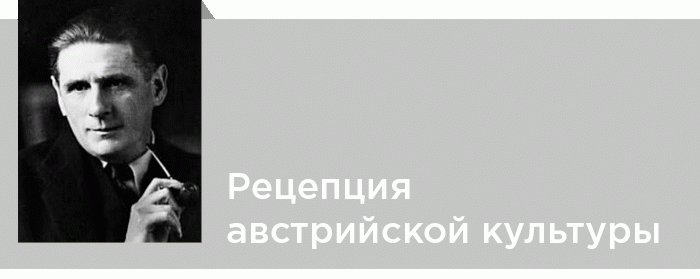Герман Брох. Офелия
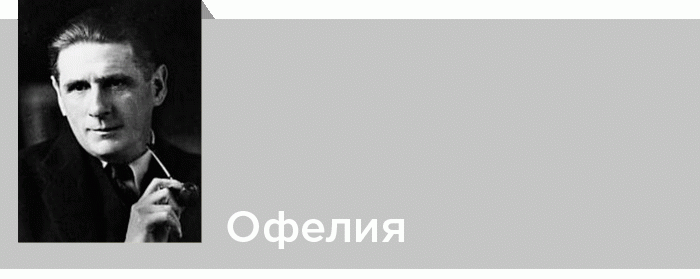
История эта лишь кажется такой сложной; разобрав ее по частям, мы еще, может статься, удивимся тому, насколько она проста. А может, и не удивимся, зная, что литература живет небольшим числом простейших проблем, которые — Гамлет во фраке — предстают во все новых костюмах. Более того, вполне оправданно утверждение, что из всякого сколько-нибудь значительного художественного произведения (а я подозреваю, что и из любой бульварной строчки) можно вывести все литературные проблемы, какие только возможны. Взять хотя бы того же Гамлета: сколько всего можно написать о том, почему Офелия ему отказала.
К северу от Альп, а тем более вблизи северных морей, настоящего лета, пожалуй, и не бывает. На юге как редкая драгоценность дни, когда по-весеннему прохладный воздух словно застывает среди деревьев не в силах шелохнуть потемневшие и засохшие в ожидании смерти листья. Будто весна и осень встретились и протянули руки друг другу. Здесь же, на севере, такое не в диковинку. В каждом летнем дне умещен кусочек весны и кусочек осени, и они не смешиваются. И кто знает, может, эта двойственность отражается в складе души северного человека, не вполне юного в юности, по-мальчишески незрелого в зрелом возрасте, вечно колеблющегося между скепсисом и сантиментом, что иногда, к примеру, у русских, приводит к мудрости. Чудесно время между юностью и старостью — и вовсе не в пресловутой полноте возможностей тут дело, а в том, что о весне еще вспоминаешь без сожаления, однако уже понимая, насколько глубоко о ней когда-нибудь загрустишь.
Всякий раз, как она слушала «Влтаву» Сметаны, название этой известной чешской реки казалось ей внешним привеском к совершенной, в безупречном народном духе музыке, ибо волны ее, хоть и отливали чистым золотом, гораздо больше напоминали, по ее мнению, простые и прелестные пейзажи Моравии или Богемии с их колышущимися на ветру полями пшеницы. Теперь вот, когда она шла по такому полю, в голове у нее все звучала мелодия Сметаны и казалось, не будет сил вырваться из ее плена.
Не спеша добралась — она до конца поля. Дорога, по которой она шла, высохшая и крошащаяся колея, проложенная крестьянской телегой в еще мягкой почве во время весенней пахоты, выбралась на полоску луговины, лежавшую, подобно морскому побережью, между золотым разливом пшеницы и тенистым лесом. Прохлада приглушила навязчивую музыку в душе — вместе со стуком разгоряченной крови в висках, — дав место мелодии более нежной и едва различимой, почти неслышной. Ибо постичь эту музыку, постоянно и неотступно сопровождающую человека, как его думы, дано немногим, как говорят в таких случаях, избранникам божьим. Серебряный перезвон листьев, исторгнутый ветерком на лесной опушке, просто погрузил ее в настроение легкой беспечности, в то время как для Моцарта он стал бы серебряным основанием непогрешимой логики.
С каким-то почти веселым раздражением она подумала о том, что это романтическое свидание выходит очень уж утомительным, и ей чуть ли не стыдно стало за своего партнера — что он всерьез принял эту детскую игру и согласился на длинный путь в полуденную жару. Но, конечно, ее бы разозлило еще больше, если бы он не сдержал обещание, не пришел; и она ничуть не удивилась, увидев, что он уже ждет. Он полулежал на опушке, явно наслаждаясь прелестным видом, а заслышав ее шаги, встал и поспешил ей навстречу.
Им предстояло еще не меньше часа идти лесом, чтобы достичь романтической цели прогулки с ее литературной подоплекой: эти живописные развалины она избрала потому, что они напомнили ей декорации «Новеллы» Гёте, она как будто надеялась наяву увидеть то, что породил в ее воображении вымысел поэта. Во всяком случае, вид им предстал весьма героический: лес, а вернее лесистый холм резко обрывался, словно обрубленный, свесившись голой скалой над долиной, по краям которой громоздились остатки былого горного обвала — холмы и кручи, поросшие зелеными зарослями или отчасти возделанные. А между холмами, под самой скалой торила себе путь река, и, казалось, что стены замка, воздвигнутого па обрыве со всею смелостью и подлинным инженерным искусством двенадцатого века, вырастают прямо из воды.
Впечатление от этой картины при всей ее очаровательности было прежде всего именно героическим, как в какой-нибудь симфонии Бетховена или в «Апассионате», где и самая мощь зиждется на очаровании. И это впечатление было настолько сильным, что подействовало на нее, как тягостное, почти трагическое расставание с человеком, который ненавязчиво, почти незримо сопровождает се и который был для нес поначалу не более чем партнером по несерьезной, ничего не значащей игре. Они молча сидели на обомшелых развалинах замка, глядя на долину, словно бы подернутую в лучах медленно закатывавшегося солнца морской дымкой, так что им чудилось, будто простирающаяся перед их глазами равнина и те поля, по которым они пришли сюда, сливаются где-то в одно огромное озеро, из которого их гора торчит, словно тот остров, каким он, судя по геологической формации, и был в доисторические времена. Захватывающий и по-своему тревожный спектакль захода солнца: эти багровые сполохи по западной кайме долины среди сгустившихся в этом месте облаков, будто желавших прикрыть печальное исчезновение светила; а когда оно, точно повинуясь приговору, все же закатилось, оставив после себя лишь отблеск былого, из уст девушки исторглось столь понятное в эту минуту «Прощай!» И, тотчас испугавшись этого ужасного, хоть и прекрасного слова, испугавшись, что относится оно не только к исчезнувшему дню и неудержимому мигу настоящего, но и к нему, к тому, кто был частью этого дня, и словно прося у него прощения за это прощание и в то же время желая углубить боль и даже придать ей некую тайную горечь, она прильнула к груди неведомого человека, испытывая благодарность, но и некоторое разочарование оттого, что он не искал ее губы.
Этой ночью на нее нахлынули воспоминания. Да, когда-то было у них свое гнездо. Не замок ли над морем? Перед ее мысленным взором круто вздымались из зеленоватой воды его стены, облепленные скользкими жирными водорослями, когда море, как теперь забвение, отступало и можно было видеть скалы, на которых держались стены. Всюду сновавшие слуги кланялись ей, на головах беззубых старух словно вились седые змеи, свешиваясь к худым, иссохшим шеям. Хорошо было чувствовать себя под зашитой этих старух, а если у них выпадал и последний зуб, так ведь зато после этого исчезал и запах изо рта. И какую радость доставляла им роль свах. Каким событием для них стала ее помолвка с принцем: они еще и уговаривали ее согласиться на то, чего она и сама страстно желала, и, чтобы доставить нм удовольствие, она долго упиралась для вида. До сих пор приятно вспомнить то чувство: тебя тянут туда, куда и самой хочется, а ты будто наливаешься тяжестью и не желаешь сдвинуться с места. Отношения ее с принцем были легки и радостны, а жизнь казалась ясной, твердо очерченной, такой же однозначной и звонкой, как фанфары на башнях, коими они всякий раз приветствовали их возвращение в замок, и поскольку в этой непреложности и постоянной связанности приличиями было много радостного, они с принцем любили играть в свободу и необязательность предстоящего. Прозвучал потом и сигнал прощания, выстроилась во дворе кавалькада, стукнули о каменный настил алебарды, сам король вышел из дверей проститься, и принц ускакал, чтобы вскоре вернуться. Где-то он теперь? Вновь прихлынули к стенам волны забвения: она еще различала в золотых лучах зубцы башен, замок высился как Монзальвач, а когда наступила темнота, по черной глади воды заскользили лебеди. Черное знамя реет на башне. На лестнице перед освещенным замком стоит властелин, окликая сына своего Гамлета; а она тем временем сидит в ложе, держа голову Гамлета на трепетных коленях, покрывая поцелуями его ухо, чтобы не услыхал он зов и чтобы злодей не мог влить ему яда. Ах, да то череп Йорика держит она в руке, а правитель сталкивает Гамлета в пучину ада, вздымающуюся и захлестывающую замок зелеными, черными волнами с белыми барашками поверху.
Проснулась она с чувством необычного и блаженного спокойствия. Будто дождалась некоего знака, и вот открылся ей путь, в истинности которого можно было не сомневаться. Вспомнился вчерашний день и показалось, что так и нужно, чтобы он кончился тоской расставания: ведь то была, как она поняла, увертюра к грядущему, прощание вовсе не было только прощанием, но пророческим предвестьем будущего пути, которого она теперь не боялась, в который вглядывалась как в радостную необходимость. В том, быть может, и состоит романтическое назначение любой увертюры, чтобы смягчать будущую трагедию предсказанием, облегчать се бремя, превращать его чуть ли не в радостную ношу, в добровольно накладываемые на себя, хоть и предуказанные родственным вечности роком вериги.
Но разве то прощание и на самом деле было лишь предчувствием будущего, пусть небывалого? Разве не было в нем и обычной боли от расставания с предшествующей жизнью? И того, сопутствующего увертюре, страха перед поднятием занавеса, разделяющего радостное ожидание и безнадежную окончательность данности? Она вспомнила о том, с кем была помолвлена, размышляя, не к нему ли на самом деле относится эта тоска расставания, приставшая к незнакомцу, к которому она склонилась на грудь. Но эти воспоминания мигом развеяли то чувство уверенности, которым она наслаждалась. Да, та уверенность, при которой она чувствовала себя как отлаженная антенна, собирающая бегущие издалека радиоволны и созидающая из них чудесную музыку, — эта уверенность исчезла; стоило вспомнить о женихе, провода сразу повисли. Раздражение, гнев чуть было не овладели ею, но поняв, что вовсе не его образ повинен в том, что радость, исчезла, она испугалась. Ее воображение было бессильно оживить его. Так бывает в кино, когда рвется пленка и на месте изображения обнажается вдруг белое мерцающее полотно; музыка еще звучит, но потом посреди такта смолкает и она. В ушах и перед глазами внезапная пустота, и напряженно ждешь возобновления картины. Память силится удержать исчезнувшее видение, ей все труднее справляться с ускользающей ношей, как вдруг изображение восстанавливается, музыка, будто отыскав наконец нужную дверь, продолжается с того самого такта, на котором оборвалась, и мы счастливы. Худо, однако, если память не донесет своей ноши, оборвется, как струна, и в зале, ко всеобщему смущению, зажгут свет: в такие минуты хочется сгинуть от стыда или изничтожить механика.
И вот его образ — и не образ даже, а белое пятно полотна — оборвал музыку уверенности в ее душе, и ей захотелось бежать, но сначала прикончить жениха. Да как же он выглядит наконец, как выглядит тело, жующее и переваривающее пищу где-то за тридевять земель отсюда? Она силилась восстановить в памяти его лицо, но выходило оно смутно, как на фотографии из старинного альбома, листая который всякий раз недоумеваешь: у скольких мужчин и женщин одинаковые лица и нельзя понять, почему этот любил ту, а эта зачала детей с тем. Остается догадка, что этих людей притянул друг к другу некий особенный запах, не улавливаемый дагерротипом. Ей же чудилось, что от жениха ее пахнет пыльной грамотой с золотыми тиснениями, хотя он и был молодым человеком. Она подошла к письменному столу, чтобы рассмотреть его портрет. Вот лицо его, то лицо, которое она знала, когда оно еще принадлежало мальчишке, ребенку, а теперь оно так странно увеличилось, как бледное, вздернутое лицо-маска какого-нибудь утопленника в болоте. Мы еще спешим схватить голову за волосы и вытащить ее, но не соразмеряем пространство зеленоватой глыби, и лицо вместе с телом и принадлежащей ему душой исчезает навсегда. Ибо болота ненасытимы. Да, то было его лицо, оно торчало из воротника рубашки, как иной раз торчит чье-нибудь лицо над забором. Что за рубашка была на нем, невозможно себе и представить: то ли свободная, длинная, как у призрака, то ли заправленная в брюки. Невозможно себе представить и грудь, которую она прикрывала: Левой рукой она непроизвольно прикрыла грудь, словно боясь, что кто-нибудь или что-нибудь на нее надавит. И как-то странно сжав пальцы, будто держа в руках нечто круглое, хотя это была всего-навсего небольшая фотография, она сказала «Poor Jorick» и поставила фотографию на место.
Что ж, струна уверенности ее оборвалась навсегда? Все это длилось несколько секунд, может быть, минуту, не больше, а все ж струна успела настолько провиснуть, что не издавала больше ни звука. Музыка смолкла, а когда она попыталась восстановить ее, то не нашла в голове ничего, кроме пошлой джазовой мелодийки «Poor Рара», за которую уцепилась, как утопающий за соломинку. На мгновение ей показалось, будто бесшумно появился некто в лодке, протянувший руку, чтобы поддержать ее. Но она не отваживалась коснуться этой руки. В том решении, которое нужно было принять, которое уже было принято, мог ли играть какую-нибудь роль незнакомец? Или он всего-навсего символ, так же, как жених — символ былого? Он стоял на пороге, она переступила порог. Больше она ничего не знала, не хотела знать. И вот она стояла у окна, всем телом ощущая прохладу летнего утра и любуясь парком, что облегал дом, будто легкое летнее платье. И весь парк, и каждое дерево в нем, в каждый листик на дереве, и гравий на дорожках, и черный шланг на газоне - все было так отчетливо зримо, так поднимало настроение, что музыка уверенности в ее душе постепенно восстановилась, сменив убогую пошленькую мелодию, будто той и не было, и снова, стоя у окна, она задышала вольготно и легко. Мелодии, хоть и зарождаются в душе, но живут своей собственной жизнью. Есть такие, что нуждаются в побочной теме, дабы слиться с нею вместе в сонате, но есть и одиночки, неподатливые, упорные, не терпящие никакого контакта или смешения, и совладать с ними — овладеть ими — можно только посредством фуги. Одно из другого вытекает тогда с неопровержимой необходимостью. Музыка вырастает из основной темы, как из созревшего семени, развивается согласно собственной, врожденной логике и сама собой становится — если только ей не мешать — прекрасной и доброй.
Так вырастает дитя — оно непременно станет прекрасным и добрым, если не найдется тот, кто этому помешает, — но такой человек всегда находится. Есть дети, которые тянутся к людям и нуждаются в любви, а их обрекают на засыхание, и есть другие — гордые одиночки, способные давать редкие плоды, а их принуждают спариваться и скучиваться, и насилуют их, и они становятся убоги и кривы, с гримасой отвращения на лице. Кому же посчастливится не отклониться от логики своего существа, тому посылается счастье уверенности в своих силах.
Как открыт всему на свете уверенный в себе человек! Его логика — это логика всего зрелого, его цельность — соприродна миру. Для него все — содержание, ибо это его собственное содержание, ибо всякая сфера в чистом виде — одно сплошное содержание, формой она становится, лишь захватывая предмет чужой сферы. Таким образом, человек уверенный живет в некоей высшей реальности, составляющей содержание его самого, содержание мира.
Так и чистая музыка, сплошь состоящая из содержания, преисполнена высшей реальности, если не деградировала до чужой формы. Тогда логика ее роста — это символ и зеркало роста всего живого вообще, в одной — единственной фразе ее может отразиться целая жизненная ситуация, и не имеет значения, сконструировал ли ее чистое содержание из музыкальной материи Бах или добыл в лучшие, звездные часы свои, абстрагируя символизированные чувственные состояния, Бетховен.
Как прекрасно было то прежнее чувство прочной оседлости, полновластия в собственном доме, стоявшем без всяких соседей на привольной собственной земле, под защитой деревьев и речек, в которых купались служанки. Хороши были при такой оседлости зимы, когда застывает в осязаемой неподвижности все вечно бегущее, неуловимое, неподвластное. Земля окаменевает в немом величии, музыка звучит редко — только в хижинах крестьян да в повозках бродяг и скитальцев. Тот же, кто восседает на троне своей уверенности, держит уста сомкнутыми и размыкает их только в крике от боли. Молча служат они господу — с трепетом благоговения, но не постигая его. Свобода земли и всего земного — немая свобода.
Однако какое несказанное блаженство дает чистая уверенность познания. Не в сопричастности богу состояло счастье великих пророков, но в обладании познанием, отлившимся в мелодию мистики. Таким же счастьем дышат иной раз математические формулы и открытия, чистая музыка, да и все, что можно назвать чистым. Всякая в чистом виде выраженная идея, пусть это даже всего-навсего идея механизма, да и все, что сделано толково и с полной отдачей, все это дышит логикой и реальностью, все это не оболочка, не просто форма, но сплошное содержание, на котором отсвет высшего.
Как свободна музыка в своей чистоте, несмотря на всю связанность свою правилами логики. Как свободен чистый человек, несмотря на всю связанность свою правилами совести. Ибо в бесконечно многих сферах реальности, в бесконечно-конечном множеств вещей, во все новых и новых символах является в мир сама необходимость, а на всякий сделанный выбор, сколь он ни кажется обязательным, найдется бесчисленное множество столь же обязательных: такова бесконечная свобода композиции, оперирующей элементами бесконечно строгих правил, такова бесконечная реальность земного в бесконечности внеземных сфер. Таково все счастливо удавшееся и приносящее счастье в этом мире; какой бы ни была исходная его материя — грубой или нежной, материальной или духовной, по удача всегда утверждает себя в переживании полной уверенности, которая есть уверенная полнота, которая может быть покоем или движением, по всегда должна быть свободой, ибо покой тогда уравновешивается движением, а движение — покоем, как благословение и исход на полотне Рафаэля «Брак в Кане Галилейской».
И еще одно открытие она сделала — удивительную способность человека отождествлять себя со своими мыслями: в мечтах своих человек превращается в лес, который оп видит, в музыку, которую он слышит, он становится то приливом, то забвением, то нахлынувшим воспоминанием. И он заблуждается, думая, что наяву дело обстоит иначе. Человек наделен способностью видеть во всех предметно-символических формах мира лишь себя самого; меняя и тасуя символы, он лишь разбирает слон за слоем себя, чтобы в конце концов прийти к последнему непостижимому — и до конца не достижимому — символу: себе самому. Потому что ощущение этого «я» совпадает с самопознанием. Она почувствовала себя вдруг будто выставленной па какой-нибудь сцене и в то же время незримой, она стала вдруг — так, что сделалось даже страшно — одинокой мелодией, совсем краткой и простенькой, но совершенно чистой: темой, обещающей интересное развитие. Ей стало ясно, что нужно отдаться логике грядущего, уже поселившегося в ней, что ей не убежать в сферу оседлости и покоя, для которых она стала бы чужой формой, а они для нее — чужим содержанием; что ей нужно сделать усилие и подняться и взять на себя вериги и даже, быть может, смешаться все — таки с тем чужим, которое в итоге станет ею самой; она знала, что если все это удастся, то будет для нее не праздной игрой, но чистым и строгим музицированием. Все в ней напряглось навстречу тому, что было реальностью и в то же время лишь отражением ее самой, и потому это состояние, а точнее — система музыкальной гармонии, была свободна от всякого содержания; она была, так сказать, системой безотносительных отношений чрезвычайного равновесия и, благодаря этому, — той счастливой уверенностью, которую она воспринимала как свободу, и совершенство, и нестесненность в передвижении. В легкой ночной рубашке стояла она у распахнутого навстречу прохладе окна, и сад, а за ним и весь мир представал перед ней как невиданная доселе реальность.
Она вышла в холл отеля. Портье со связкой ключей па шее поклонился ей, как мажордом, и вручил письма, дожидавшиеся в ее ящике. Вращающаяся дверь была отворена и застопорена таким образом, чтобы впускать свежее дыхание утра, а оба надрессированных боя справа и слева от нее не уставали отвешивать поклоны. Все это выглядело так, будто все кругом хотели восполнить понесенные ею утраты, и это смешило. Она раздумывала, не уехать ли ей. Ведь то, что было вчера, походило па прощание, и встретиться снова казалось ей неприличным. Однако то чувство уверенности, которым пружинили ее шаги — безоговорочное и какое-то в высшем смысле безответственное, — внушало ей: что бы ни произошло, все будет, как тому и надлежит быть.
На веранде еще завтракали. Белое, четко очерченное солнце сияло, железные столики, когда их зацепляли, неприятно взвизгивали на каменном полу. На некоторых из них еще были остатки завтрака, тарелки и кофейники с запекшимися на боку струйками кофе, кусочки масла, расплавившиеся вместе с приложенными к ним кусочками льда. Дамы в шезлонгах старались передвинуть в тень свои газеты и книги, — хотя бы в тень, отбрасываемую собственной головой. Она рассердилась, встретив его здесь, среди них. Он сидел за столиком и читал, и это ей тоже не понравилось. Она ответила на его вежливое приветствие тем, что пригласила проводить ее.
Она сидела потом на садовой скамейке, незнакомец рядом с нею, и хотя это было крайне нелепо называть его «незнакомцем» или «другим» — он ведь был так же близок ей и так же от нее далек, как и ее жених, — она все же точно лопатками ощущала присутствие чего — то постороннего за спиной, будто кто-то держал там темный, невидимый плащ, так что стоило откинуться слегка, и он лег бы на плечи. Так иной раз музыка вчуже парит в темноте над нашей головой, кружит и кружит, дожидаясь, пока мы не сдадимся и не улетим вместе с нею. На сей раз это ожидание было как неподвижная вода, что стоит и не шелохнется, оно не беспокоило, то есть скорее почти успокаивало, оно сулило уверенность и надежду, как та свобода, с которой она вольна была решать, откидываться ей назад или нет. Чувство было тарное, будто сидишь в какой-нибудь уютной ложе, спиной к стене. Она вглядывалась в то, что можно было видеть из ложи, — и садовая дорожка перед ней оживала. В кустах, в сплетении их ветвей и листьев царила, если приглядеться лесная темнота, и почва под ними была, как в лесу, и из нее пробивалась остролистая лесная трава, повсюду валялись сухие сучья, виднелся даже домик улитки, а меж распускавшихся уже почек была натянута паутина, в которой бились насекомые. Но там, где кустарник кончался, осторожно склоняясь к сочному, светло-зеленому газону, где одиноко и потерянно торчали лишь две-три высоких травники, там воздух еле заметно и лениво дрожал, вбирая в себя обрывки обывательских разговоров и отдаленные звуки санаторного оркестра. Доносился до её слуха и его голос — как раз объяснявший; что ценностную шкалу музыкальных произведений можно выстроить, отправляясь от того, насколько они воспринимаются на природе: чем выше музыкальное творение, тем меньше оно поддается восприятию вне концертного зала, и, напротив, чем живописнее природа, тем более банальной музыки она требует. Похоже на то, что два совершенства не помещаются на одном пространстве. Здесь, в этом роскошном парке, еще могут прижиться Мейербер или Пуччини, причем любопытно было бы отметить, как эти разные музыкальные миры здесь сближались бы между собой, теряя различия, так что сама природа в этом случае явилась бы строгой ценностной шкалой. Она повернулась на его голос, обнаружив заметную припухлость его щек и морщинки под глазами. Поспешно перевела взгляд снова на лужайку перед собой, на кусты пионов с их мясистыми листьями, на группу кленов, чьи гладкие светлые стволы чётко выделялись на зёленом фоне, на пятнистую, слегка колышущуюся тень, отбрасываемую их кронами на газон.
Натянутый канат, по которому я уверенно ступаю, теряется в сгущающейся темноте. Все шире и темнее купол надо мной, все расплывчатее и удалённее лица внизу. Найдет ли канат моя нога и при следующем шаге, или он оборвется? Далеко позади остались свет и покой. Чем дальше иду, тем больше понимаю материнский страх. Все дальше, дальше, и вот в конце концов становится безразлично — сделать ли еще один шаг по канату или просто пасть в темноту. И тогда падение кажется почти блаженством.
Я все еще называю его нёзнакомцем, хотя правильнее было бы — нёвидимкой. При этом я имею в виду не что-то таинственное, а обыдённый факт. Есть вещи, узнанные настолько, что не замёчаешь их, и есть такие, что, непостижны, как музыка, до которой недорос. Или то просто-напросто дефект зрения?
Я отправилась к развалинам одна. Всякий путь нужно уметь проходить в одиночку.
По ночам я иногда просыпаюсь от страха. По шоссе мчатся автомобили, их гудки похожи на голоса мужчин. То будто кто-то зовет на помощь, то будто кто-то угрожает кому-то. Я испуганно вскакиваю и все же чувствую себя уверенно, убереженно, бывает, что я даже сама разжигаю в себе этот страх, чтобы только насладиться чувством убереженности. Как дитя, играющее в прятки с пальчиком собственной ножки.
Нередко кажется, будто и вся жизнь уходит на то, чтобы придумывать себе что-нибудь, что может напугать или удивить. И в конце концов сам веришь в то, что придумал. Примерно так бывает и когда сочиняют музыку или прозу: сначала придумывают план, а потом и сами изумляются тому, что выходит.
Произведения
Критика