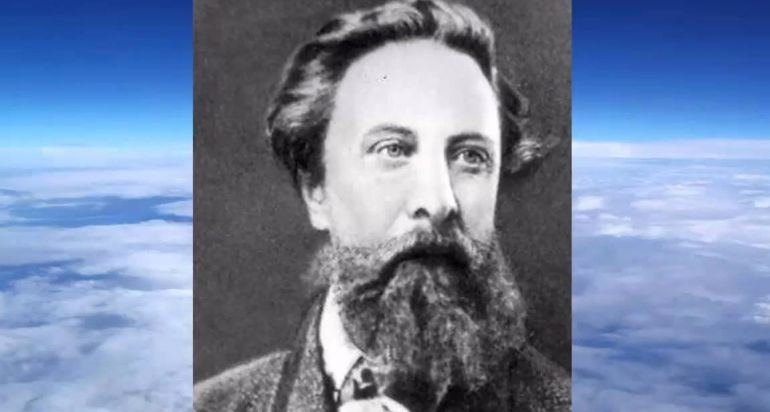Готическая традиция в прозе А. К. Толстого («Упырь»)

А.А. Полякова, О.В. Федунина
Ранняя проза А.К. Толстого, написанная под сильным влиянием романтической фантастики, содержит вместе с тем и многочисленные отсылки к готической литературной традиции. Вопрос о связи первых произведений писателя с готикой в научной литературе ставился крайне редко1. Ученые либо вообще обходят их стороной, обращаясь к изложению биографии Толстого2, исследованию его поэзии3 или сатирических произведений4, либо упоминают о них вскользь в контексте анализа толстовской прозы5. В данной работе мы ограничимся рассмотрением готических элементов в повести А.К. Толстого «Упырь» (1841).
В сюжете «Упыря» можно выделить три линии, где главными действующими лицами выступают представители разных поколений семьи Островичевых: линия Марфа – Амвросий, Прасковья Андреевна – Пьетро д’Урджина и Даша – Руневский. При этом последняя сюжетная линия осложнена входящей в нее историей Рыбаренко о его путешествии в Италию. Хронологически истории отделены друг от друга несколькими десятилетиями или же веками: события, связанные с Марфой и Амвросием, происходят в конце пятнадцатого века, Прасковья Андреевна является теткой бригадирши Сугробиной, следовательно, их истории разделены несколькими десятилетиями. Хотя все линии и не объединены общим действующим лицом, они тесно связаны между собой, так как представляют историю одного рода (старинной венгерской семьи Островичевых), а точнее – историю проклятья этого рода, поскольку каждая линия сюжета оказывается в итоге очередным этапом его осуществления.
Первая сюжетная линия представляет собой ряд трагических событий, произошедших в замке старого барона Островичева. Его молодая жена Марфа вступила в сговор с рыцарем Амвросием, прозванным «Амвросий с широким мечом» – злейшим врагом барона. Марфа впустила Амвросия с вассалами в замок мужа, где они истребили всех его жителей. Умирая, муж проклял Марфу и весь ее род. Само проклятие, записанное в виде баллады, входит в повесть вставным текстом и во многом предопределяет дальнейшее развитие событий, связанных как с Прасковьей Андреевной, так и с бригадиршей Сугробиной (кроме того, сам факт проклятия важен как демонстрация связи между миром человеческим и потусторонним).
Функция проклятия в данном случае вполне характерна для готической литературы: потомки рода подвергаются каре за грехи предков до того момента, пока не будут выполнены определенные условия, которые при перечислении кажутся абсолютно невыполнимыми либо просто лишенными смысла6. Однако именно буквальное осуществление этих условий и образует сюжет «Упыря». Марфа умирает, род Островичевых угасает, Сугробина оказывается упырем и сосет кровь Даши, своей внучки. Призрак Прасковьи Андреевны, умершей невесты, является Руневскому в зеленой комнате, когда он ночует в доме бригадирши, а Рыбаренко, внебрачный сын бригадирши и, следовательно, «последняя жертва преступной любви»7, бросается с колокольни Ивана Великого и расшибается насмерть. Линия Марфа – Амвросий объясняет, таким образом, происхождение проклятия.
Вторая сюжетная линия связана с историей любви Прасковьи Андреевны, тетушки Сугробиной, и итальянского дворянина Пьетро д’Урджина. Здесь показано проклятье в действии. Страстно влюбившись в Пьетро, Прасковья Андреевна становится его невестой. Однако накануне свадьбы жених исчезает. Вскоре из Италии приходит известие об его смерти. Прасковья Андреевна кончает с собой, и с тех пор душа ее не знает покоя. Именно ее призрак является Руневскому. Эпизод с призраком, являющимся живому человеку в некой «проклятой» комнате или доме, интересен нам потому, что это один из популярнейших мотивов в готической литературе.
Среди наиболее ярких примеров – повесть В. Скотта «Комната с гобеленами, или дама в старинном платье», опубликованная в 1821 году. У Толстого эпизод с явлением призрака повторяется вплоть до мельчайших деталей (дама является в платье старого фасона, ее рука оказывается рукой скелета). Однако призрак здесь – не отрицательный персонаж, хотя фраза «Мне немного времени остается с вами говорить, я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла, а там так жарко!» (23) явно указывает на то, что призрак явился из ада, как и в повести Скотта. При этом типичность события подчеркнута и самим автором: так, Руневский, узнав из разговора с лакеем, где ему предстоит ночевать, вспоминает «несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями» (19).
Интересна пара: призрак Прасковьи Андреевны и его двойник – портрет. Мотив портрета авторы готических произведений также чрезвычайно охотно использовали. Примеры можно найти у Скотта, Льюиса, Метьюрина, Гофмана. В России самый яркий образец – «Портрет» Гоголя. Призрак, например, может сходить с портрета, чтобы явиться живым и поведать некую тайну8.
Изображение на портрете производит на зрителя неизгладимое впечатление своим выразительным взглядом, иногда удивительной красотой и, зачастую, порочным лицом (в случае с портретом Прасковьи Андреевны последняя характеристика, впрочем, не реализуется). В повести Толстого к паре портрет Прасковьи Андреевны – ее призрак примыкает еще один персонаж – Даша. Именно ее удивительное сходство с Прасковьей Андреевной позволяет «пойти замуж портрету» (18) и на шаг приблизиться к снятию проклятия. При этом если портрет и призрак – два изображения одного и того же человека, а потому их сходство не только понятно, но и необходимо, то сходство Прасковьи Андреевны и Даши определяется их родственными связями, поскольку обе они – потомки рода Островичевых.
Не менее интересен и Пьетро д’Урджина. Его биографию мы узнаем из рассказа аббата, входящего в качестве вставной повести в рассказ Рыбаренко. Обладатель многих пороков, д’Урджина продал свою душу дьяволу, получив взамен земные наслаждения и каменную доску с каббалистическими знаками. Как только доска разбивалась, дьявол должен был явиться за душой Пьетро и забрать ее с собой в ад. После смерти д’Урджина на стене его дома появляется картина с изображением красивой женщины, играющей на гитаре. Все попытки замазать картину оказываются безуспешными, и сын Пьетро приказывает запереть дом и никого туда не пускать. После этих событий место получает название Чертова дома, где по ночам играют на гитаре и поют два голоса9.
С этим персонажем, как видно, связан еще один популярнейший мотив готической литературы, а именно – продажа души дьяволу на неких условиях. Мотив характерен преимущественно для «черного» готического романа (к примеру, «Мельмот скиталец» Метьюрина). По истечении надлежащего срока дьявол является за душой Пьетро в образе человека в домино и маске (аналогичную фигуру находим в новелле М.Н. Загоскина «Концерт бесов») и увозит его с собой.
Особого внимания заслуживает национальность д’Урджина. Италия всегда играла важнейшую роль в готической литературе. В то же время поздняя готика отказывается от перенесения места действия в отдаленные страны, предпочитая разворачивать события в современной и хорошо знакомой читателю действительности. В «Упыре» Толстой сочетает две эти тенденции: Рыбаренко едет путешествовать в Италию, где переживает самые необыкновенные приключения. Кроме того, итальянские мотивы присутствуют и в других сюжетных линиях.
Например, интересной трансформацией готического топоса является загородный дом Сугробиной: «Здание было вместе легко и величественно, можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор италиянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима… Все в доме бригадирши ему [Руневскому] казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами, картины италиянской школы, покрытые пылью и паутиной, столы из флорентийского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты, – все это <…> составляло самую странную смесь» (16). Для натренированного глаза читателя готических романов такого описания было бы вполне достаточно, чтобы отнести дом Сугробиной к проклятым местам и допустить наличие в нем призраков. В то же время налицо и иная тенденция – прозаизация готического топоса. Дом действительно построен итальянским архитектором, однако он находится в России и принадлежит русской бригадирше: следы необычайного происхождения сочетается с обычными и банальными признаками неустроенного быта.
Наконец, перейдем к третьей сюжетной линии в «Упыре», являющейся последним этапом в развитии событий и знаменующейся снятием проклятия. Действие происходит в современной автору России. Руневский оказывается втянутым в историю проклятого рода. Влюбившись в Дашу, он пытается защитить ее от любой угрозы, даже от такой, казалось бы, сомнительной опасности, как бабка-упырь. Поначалу герой принимает рассказы Рыбаренко за бред безумца, однако, постепенно он начинает сомневаться в безумии Рыбаренко и нелепости его предостережений. Во время болезни, вызванной ранением на дуэли, видения в доме Сугробиной и сна сомнения перерастают в уверенность. После смерти бригадирши, женитьбы Руневского на Даше и самоубийства Рыбаренко правдивость всего произошедшего подтверждает еще один свидетель – молчавшая до сих пор няня Даши Клеопатра Платоновна. Тайна раскрыта, но Руневский предпочитает не рассказывать ее жене и другу Владимиру.
Третья сюжетная линия – основная в повести. Другие истории вплетены в текст с помощью классических приемов литературной готики: историю Марфы и Амвросия мы узнаем из рукописи, которую Даша случайно находит в доме Сугробиной. Позже эта же история подробнее рассказывается Клеопатрой Платоновной. Историю Прасковьи Андреевны мы впервые слышим от лакея, сопровождающего Руневского в зеленую комнату на ночлег, затем новые детали разъясняются частично той же Клеопатрой Платоновной, частично Рыбаренко, частично призраком самой Прасковьи Андреевны.
Кроме того, в основную сюжетную линию входит и история путешествия Рыбаренко в Италию и пережитых им там приключений на вилле д’Урджина. Этот временной пласт входит в ткань основного повествования посредством типичного для готики приема «рассказа в рассказе». Классический случай использования подобной схемы – романы «Мельмот скиталец» Ч.Р. Метьюрина и «Рукопись, найденная в Сарагосе» Я. Потоцкого, где нагромождение рассказов ведет к тому, что читатель окончательно теряет нить повествования. Так, рассказ Рыбаренко надолго прерывает развитие событий линии Руневский – Даша. В то же время и в сам рассказ Рыбаренко входит история, поведанная Титтой Каннелли, переодетым аббатом.
Отдельного упоминания заслуживает система персонажей. Все они оказываются так или иначе связаны с историей проклятия, но их отношение к нему и таинственному миру потусторонних сил различно, и именно это различие определяет их судьбу. Те, кто верит в проклятие и пытается проникнуть в тот мир, повлиять на высшие силы, должны за это поплатиться. Цена за это – утрата человеческой сущности (Сугробина, Теляев), безумие (Рыбаренко), молчание (Клеопатра Платоновна) или смерть (Пьетро д’Урджина, Антонио). Те, кто не верит в проклятие (Даша, Владимир), остаются в полном здравии10.
С такой точки зрения особенно интересна фигура Руневского, поскольку это единственный персонаж повести, чье отношение к ирреальному меняется по ходу действия. На протяжении всей повести он пытается разобраться в происходящем, постоянно колеблясь между здравомыслящим Владимиром и болезненно-мистически настроенным Рыбаренко11. Но когда Руневский узнает всю правду, он предпочитает молчать, как Клеопатра Платоновна, понимая, что лишь при этом условии он сможет сохранить благополучие своего брака. Его наказание за попытку приподнять завесу над таинственными событиями – болезнь после дуэли.
Такая расстановка персонажей тесно связана с конфликтом «Упыря». Одна из важнейших проблем повести: имеет ли человек право вторгаться в область непознанного, следует ли стремиться к всеобъемлющему знанию или существуют вещи, которые не только невозможно, но и не нужно пытаться постичь. Герои расплачиваются как за свои попытки проникнуть в ирреальный мир, так и за знания, полученные о нем. Раз соприкоснувшись с ним, они уже не могут более нормально существовать в обычной жизни и несут наказание в виде безумия, болезни, смерти. Рыбаренко прямо говорит об этом Руневскому: «Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в силах понять и которые <…> отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградою его любопытства» (36).
Наконец, следует упомянуть еще об одном сюжетном пласте повести, а именно – об истории поездки Рыбаренко в Италию, которую тот рассказывает Руневскому. Путешествие героя и возвращение его назад в Россию перекликается с сюжетной схемой «Эликсиров сатаны» Гофмана, где монах Медард путешествует из Германии в Италию и обратно.
Находясь там, Рыбаренко слышит историю о вилле д’Урждина и решает из любопытства там переночевать. Среди множества желающих присоединиться к нему он с помощью жребия выбирает себе двух спутников, Владимира и Антонио. Герои устраиваются на ночь в вилле и переживают там каждый свое приключение. Примечательно, что трое героев подвергаются при этом нападению вампиров, однако последствия встречи различны для каждого из них: Антонио теряет много крови и заболевает, Рыбаренко также видит ранку у себя на шее, но лишь чувствует легкую слабость, Владимир же не укушен вовсе.
Мотив крови играет во всей повести важную роль. Прежде всего, он связан с мотивом вампиризма, занимающим значительное место в повести и обусловливающим ее название. С разговора об упырях начинается произведение. При этом важно (и это оговаривается в тексте повести), что речь идет не о западноевропейских вампирах, а именно о славянской нечистой силе. Упырями являются Сугробина и Теляев, которые предположительно (в тексте нет прямых отсылок, однако имеется целый ряд намеков) служили причиной смерти матери Даши, а также напали и на саму героиню, и лишь вмешательство Клеопатры Платоновны спасло девушку от гибели. При этом упыри кажутся всем обыкновенными людьми, и только Рыбаренко знает об их истинной сущности.
С мотивом крови связан еще один эпизод повести. Направляясь к вилле д’Урджина, Антонио падает и разбивает лицо. Показавшаяся кровь не только является дурной приметой, как отмечает сам герой, но и предвосхищает его дальнейшую судьбу – смерть от болезни, вызванной потерей крови12.
Еще одно значение мотива – связь между людьми. «Упырь» представляет собой историю одного рода, все члены которого состоят в кровном родстве. Оно оборачивается родовой виной и ответственностью: наказание, наложенное за преступление одного из членов семьи, разделяет весь род. Связывая между собой членов рода Островичевых, мотив крови скрепляет и сюжетные линии повести.
Примечательна и субъектная структура произведения. В нем присутствуют несколько разных рассказчиков. Как и в большинстве готических произведений, значительная часть повести написана от третьего лица. При этом субъекту речи заведомо известно намного больше, нежели читателю и героям, он постоянно предвосхищает дальнейшие события, не открывая их, впрочем, полностью. Таким образом поддерживается интрига произведения. Например, выводя на страницы произведения Клеопатру Платоновну, повествователь немедленно отмечает, что «она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна» (15). Как выяснится позже, Клеопатра Платоновна действительно – хранительница тайны Островичевых.
Входящая в основную сюжетную линию история Рыбаренко написана от первого лица как предостережение любопытным от человека, пережившего встречу с потусторонним. Подобная дидактическая установка сказывается, прежде всего, на вступлении, построенном как обращение к Руневскому. Во время рассказа Рыбаренко делает один раз небольшую паузу, которая делит его историю на две части, значительно различающиеся с точки зрения субъектной структуры. Сюжетно пауза приходится на тот эпизод, когда трое героев, оставшись в вилле д’Урджина, разбрелись по своим комнатам и стали ложиться спать.
Если до этого рассказчиком выступал сам Рыбаренко (за исключением монолога цирюльника и рассказа мнимого аббата), то во второй части истории функция Рыбаренко-рассказчика заметно ограничена. Здесь он не является главным субъектом речи, но выступает как один из трех рассказчиков, которые делятся впечатлениями о ночи, проведенной в «чертовом доме». Появляются точки зрения Антонио и Владимира, воспринимающих все произошедшее под совершенно иным углом, нежели сам Рыбаренко. Его позиция представляется в данном случае нейтральной – он не рассматривает все случившееся как дьявольское наваждение (точка зрения Антонио) и не утверждает, что это был сон (как считает Владимир). Система точек зрения важна для понимания представленного в повести варианта соотношения фантастического и реального.
Как правило, авторы готических романов решали проблему соотношения реального и вымышленного по-разному, отдавая предпочтение явной фантастике или логичному разъяснению произошедшего в зависимости своих литературных ориентиров и эстетической позиции. В повести «Упырь» на данный вопрос не дается однозначного ответа. Автор предлагает читателю несколько разных точек зрения, из которых можно выбрать наиболее адекватную.
С одной стороны, налицо проклятие, документально подтвержденное рукописью. Каждый его пункт в конце концов сбывается, все члены проклятого рода, за исключением Даши, погибают. Кроме того, существует несколько очевидцев таинственных явлений – это, например, Рыбаренко и Руневский, причем на момент встречи с таинственным Рыбаренко еще не является столь убежденным мистиком, а Руневский вообще придерживается точки зрения Владимира, утверждающего, что ирреальное как таковое есть не что иное, как плод воображения. Однако после соприкосновения с иной реальностью точки зрения обоих героев претерпевают значительные изменения. В конце концов, Рыбаренко кончает с собой, а Руневский решает никогда не рассказывать о своем знании, не сомневаясь, впрочем, в его истинности.
Отметим в связи с этим особую значимость мотива смерти. Умирают герои, приобщившиеся к миру таинственного (Антонио, Пьетро д’Урджина) и ставшие его частью (Сугробина). Кончает с собой Рыбаренко, чья нейтральная позиция во время ночевки на вилле д’Урджина сменяется крайним мистицизмом при возвращении на родину. Эпизод гибели Рыбаренко важен еще и тем, что практически в деталях повторяет гибель Натаниэля из «Песочного человека» Гофмана (герой, безумный с точки зрения окружающих, бросается с башни и падает «с размозженной головой <…> на мостовую»13).
С другой стороны, во всем тексте повести нет ни одного явного свидетельства вторжения злых сил в мир людей. Все упоминающиеся случаи такого рода скрыты под маской предположения, сна, бреда безумца, сомнительного предания или легенды.
Такая художественная форма, как сны персонажей, очень важна для исследования роли фантастического в повести. При анализе структурных особенностей и функций этой формы в «Упыре» на первый план выходит проблема отграничения собственно снов от других композиционноречевых форм, особенно видения. Особенности поэтики литературного сна как художественной формы (в частности, характер границ, хотя бы одна из которых обязательно выделяется в тексте, а также пространство и время, отличные от условно-реальных) указывают на нереальность событий, пережитых героем во сне. Видение, напротив, никаких ощутимых границ с условно-реальным миром не имеет. Промежуточное положение занимает бред, по характеру границ близкий к видению, но в то же время заведомо воспринимаемый как плод воображения. Таким образом, оценка изображенных в «Упыре» событий как реальных или увиденных героями во сне упирается в определение природы имеющихся в нем онирических форм.
В свою очередь, проблема их границ с основным повествованием (то есть границ увиденного героем во сне и произошедшего с ним наяву) связана здесь с особенностями субъектной структуры как произведения в целом, так и собственно снов. События, происходящие с героями, получают несколько различных оценок, принадлежащих разным субъектам сознания, причем они могут меняться в ходе развития сюжета. Наше повышенное внимание к таким оценкам вызвано тем, что в «Упыре» характер границ снов и видений не позволяет однозначно сказать, какая именно перед нами форма.
Границы снов с условно-реальным миром нарочито размыты, что сближает их по структуре с видением и провоцирует двойственность оценок. Так, первый сон Руневского на даче изображается как вполне реальное событие и только ретроспективно оценивается героем как сон. В начале фрагмента подчеркивается, что герой бодрствует: «Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаянием груди, его внезапно пробудил» (22). О конце сна косвенно свидетельствует появление лакея, который опровергает реальность свидания Руневского с Прасковьей Андреевной: «Руневский чуть не упал в обморок, но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках.
– Чего изволите, сударь? – спросил он.
– Я тебя не звал.
– Да вы изволили позвонить. Вот и снурок еще болтается!
Руневский в самом деле увидел снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны; когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета» (23–24).
Таким образом, истолкование события здесь вынесено за рамки собственно сна, тогда как структура самого фрагмента не позволяет однозначно считать его таковым. Отметим при этом, что оценка повествователя, которая могла бы задать единственно верную трактовку, здесь отсутствует. Степень реальности события оценивает сам герой, причем эта оценка отнюдь не является окончательной. Логическое объяснение, приведенное выше, кажется ему «не совсем естественным», и Руневский решает, что «все виденное им – один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют cauchemar. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта – ясность и совершенное сходство с действительностию» (24).
В следующем затем фрагменте, где Руневский видит Прасковью Андреевну в другой комнате, также присутствует двойственная оценка. С одной стороны, это событие никак не определяется в тексте, что позволяет считать его условно-реальным. С другой же – ему также дается логическое объяснение: призрак оказывается пестрой ливреей, лежащей на кресле. Структурное сходство этих фрагментов налицо, хотя второй из них не определяется как сон. Таким образом, сон и видение в этой повести максимально сближаются по своему строению.
Подтверждением этому служит то, что бредовое видение Руневского после дуэли имеет структуру, сходную с рассмотренной. В начале фрагмента также подчеркивается, что герой бодрствует: «В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него» (57). В самом фрагменте степень реальности события не оценивается, однако затем оно вписывается в ряд ему подобных, определяемых как бред (то есть заведомо нереальных): «Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить» (59). Таким образом, характер границ с условно-реальным миром не позволяет однозначно судить о том, какая именно перед нами форма. Это заставляет обращаться к оценкам героев, ни одна из которых не имеет статуса единственно верной.
Замыкает систему снов в повести единственный фрагмент, который изначально определяется в тексте как сон и имеет максимально четкие границы14: «Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном. Во сне он был перенесен в виллу Урджина. <…> Он громко закричал и проснулся» (59–61). Необходимо отметить маркированное положение этого сна в сюжете: он знаменует собой конец страшных событий в жизни героя и предшествует его счастливому соединению с Дашей. С этой функцией сна связан и особый характер его границ с условно-реальным миром: они замыкаются.
Однако никакой окончательной оценки таинственным событиям при этом не дается. Далее в тексте появляется любопытное указание на то, что Руневский сомневается в словах Даши и Владимира, поскольку «с тех пор, как он был болен, воображение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались, и он не мог различить обмана от истины» (61). Здесь уже реальность принимается героем за сон, а не наоборот, происходит определенная инверсия. Руневский продолжает колебаться, не зная, что является истиной, а что – плодом его воображения, причем его оценка постоянно меняется. Во многом это связано с аргументами, приводимыми другими персонажами, поскольку в тексте даются и иные точки зрения на события, представляющие как бы два полюса.
Для Рыбаренко, предостерегающего героя от слишком близкого соприкосновения с иным миром, и Клеопатры Платоновны эта история является несомненной истиной. Примечательно, что Клеопатра Платоновна называет все пережитое Руневским видениями: «Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Руневский, и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения» (63). Отметим, что ее рассказ о проклятии рода Островичевых заставляет и Руневского в очередной раз пересмотреть свою оценку: «Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности, которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения» (67).
Совершенно иначе оценивает эти события Владимир. Для него увиденное Руневским и Рыбаренко является бредом, порожденным горячкой и опиумом, подмешанным в пунш. По мнению Владимира, Рыбаренко «помешался в Комо со страха. Все, что он видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе [Руневскому], а ты, будучи в горячке, всю его чепуху еще более спутал и, сверх того, уверил себя в ее истине» (68).
Таким образом, как уже говорилось, колеблющаяся оценка самого Руневского находится как бы посредине между этими полюсами – оценками Рыбаренко, Клеопатры Платоновны и Владимира, сближаясь то с одной, то с другой. Ни к какому окончательному мнению герой не приходит, в конце повести упоминается только о том, что он «не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича» (72). Руневский отказывается от поисков разгадки, столкнувшись со слишком убедительным доказательством истинности происшедшего – ранкой на шее Даши.
Что касается ночи на вилле Урджина, то и здесь события изображаются сначала как абсолютно реальные. Никто из героев не спит в момент соприкосновения с потусторонним миром: Рыбаренко «проснулся и начал протирать глаза», Владимир смотрел в окно, Антонио прохаживался по комнате. Поскольку рассказы Владимира и Антонио являются здесь элементами вставного рассказа Рыбаренко, то границы соответствующих фрагментов задаются сменой субъектов речи.
Никак иначе фантастические события не отделяются от происходящих в условно-реальном мире, более того, степень их реальности становится предметом спора между Рыбаренко и Владимиром. Оба героя считают произошедшее с ними самими истиной, а с другими – сном (45). Важно отметить, что Антонио в этом споре не участвует. Очевидно, это оказывается ненужным, поскольку он перемещается во сне в другое пространство, заведомо отличное от условно-реального, то есть увиденное Антонио с большей вероятностью можно считать нереальным. Реальность всех событий на вилле Урджина, казалось бы, опровергается последующим приходом солдат и разговором с подестой, в котором дается якобы истинная версия случившегося. Однако ранки на шеях каждого из этих героев заставляют Рыбаренко (основного субъекта речи и носителя точки зрения в этой части повести) вновь усомниться в этом.
Что касается субъектной структуры самих онирических форм, то они, как уже упоминалось, вводятся в повествование двумя разными способами: от лица повествователя (сны и видения Руневского в основном повествовании) и от лица героев-сновидцев (во вставных рассказах о ночи на вилле Урджина). При этом рассказы Владимира и Антонио являются составными частями вставного рассказа Рыбаренко, то есть передаются с его слов. Это ставит под сомнение истинность рассказанной им истории, что подчеркивается иной трактовкой событий, которую дает в конце повести Владимир.
Сны Руневского объединяются общим мотивом общения с портретом Прасковьи Андреевны, причем здесь происходит сближение кругозоров героя и повествователя. Так, в первом сне дама, явившаяся Руневскому, называется «привидением» только после того, как он берет ее за руку и обнаруживает, что это скелет. В бредовом видении и сне Руневского во время болезни это сближение сохраняется. Значение разбиваемой Клеопатрой Платоновной доски с письменами не осознается героем во сне, хотя потом (за рамками сна) он благодарит Клеопатру Платоновну за это, поскольку разбитая доска означает конец сверхъестественной власти ее владельца.
Эти особенности субъектной структуры связаны со спецификой пространства и времени в онирических формах. Во всех них пространство предельно сближено с условно-реальным. Исключением являются сны Антонио и Руневского, где подчеркивается перемещение героев в пространстве. Антонио переносится на грифоне в Грецию (соотносящуюся с другой залой на вилле), а Руневский – на виллу Урджина, где видел свой сон Антонио; Рыбаренко показывает ему «ту залу, куда Антонио ездил на грифоне» (60).
Такое сходство пространственной структуры и тесная мотивная связь, существующая между этими снами, позволяют сопоставить их. Прежде всего, в обоих случаях это перемещение совершается героями под руководством проводника (грифона и Рыбаренко), что отсылает, очевидно, к Вергилию и Данте. Зала, в которую они попадают, имеет адскую атрибутику: в обоих снах появляется черт (человек в домино). Но если в сне Антонио ад замаскирован под Олимп, то в сне Руневского эта символика пространства подчеркивается мотивом огня: изо ртов гостей выходят огненные струи, грешники объяты огнем и т.д. И в том, и в другом сне присутствуют персонажи из условно-реального мира: дон Пьетро, аббат (сон Антонио), бригадирша, Даша, которая оказывается затем Прасковьей Андреевной (сон Руневского). Все эти персонажи так или иначе связаны с потусторонним миром, чем, очевидно, и объясняется их появление в снах.
В обоих снах пространство меняется. Антонио, пронзенный взглядом маленьких белых глаз черта, оказывается в Китайской комнате. Руневский, ведомый Дашей-Прасковьей Андреевной, перемещается в темный узкий коридор, а затем в «боковую дверь». В обоих случаях из этого другого пространства оказывается возможным возвращение в условнореальный мир.
Но при таком разительном сходстве есть и существенные различия. По характеру границ сон Антонио ближе к видению (хотя и в меньшей степени, чем сны-видения Владимира и Рыбаренко), тогда как сон Руневского имеет нарочито четкие границы. Очевидно, такая структурная особенность связана с тем, что Антонио является активным участником событий, вступает в непосредственный контакт с дьяволом и даже спорит с ним. Руневский же остается наблюдателем, видит все со стороны. Отсюда и разный итог соприкосновения героев с иным миром: Антонио умирает, Руневскому удается спастись.
Сон Руневского, столь явно связанный со сном Антонио, содержит, таким образом, отсылки к прошлому, к событиям трехлетней давности относительно основного повествования. Кроме того, этот сон соотносится с началом повести – балом, на котором Руневский встречает Дашу, бригадиршу и Рыбаренко. Ср.: «Бал был очень многолюден» (5); «Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку» (60). При этом круг замыкается, начало и конец таинственных событий образуют симметрию.
Как в этом, так и в других снах, изображенных в повести, отсутствуют какие-либо специальные указания на то, когда происходят события снов. Но при этом они всегда связаны с прошлым, с историей рода Островичевых. Такое сближение времени сна и условно-реального времени и одновременно их разведение с помощью временной дистанции (связь с прошлым) соответствует основным структурным особенностям снов в повести. С одной стороны, усиливается эффект их смешения с действительностью, с другой – всегда присутствует возможность другой оценки событий, которые можно толковать и как несомненную реальность.
Еще одним важным инструментом для введения фантастического элемента в повествование является мотив безумия. При этом сама антитеза безумие-разум может трактоваться неоднозначно. Так, отношение Рыбаренко к потустороннему считается признаком безумия по мнению большинства персонажей, однако Руневский в конце концов приходит к мысли, что речь идет не о безумии, а наоборот, о чрезмерном знании, обременяющем Рыбаренко.
Итак, в повести «Упырь» мы сталкиваемся с постоянными колебаниями между оценками событий как реальности и нереальности, что подчеркивается, в частности, предельно сближенной структурой снов и видений. Этому способствует также множественность оценок, принадлежащих героям, ни одно из которых не является окончательной, и отсутствие объективной оценки повествователя. Проблема соотношения фантастического и реального не решается в повести в пользу того или иного утверждения персонажей. Автор предлагает читателю самому сделать выбор и интерпретировать произведение по своему усмотрению.
Авторская позиция относительно фантастики выражена также в тексте через соотношение дальнейших судеб героев. Отметаются крайности – чрезмерное следование логике, свойственное Владимиру, и крайний мистицизм Рыбаренко, предлагая некий третий вариант, выраженный в позиции Руневского. По всей видимости, авторской задачей было создать такую картину мира, в которой истинность существования потустороннего мира не может быть установлена однозначно.
Появившись на закате готической литературы, «Упырь» стал осмыслением традиции, рефлексией над ней. Именно поэтому в рамках одной повести оказалось собрано такое количество мотивов и сюжетных схем готики, какого никогда не нагромождали в своих произведениях авторы классических готических произведений.
[1] Практически единственная работа подобного рода – Васильев С.Ф. Проза А.К. Толстого: направление эволюции и контекст. Ижевск, 1989.
[2] См., например: Жуков Д.А. А.К. Толстой. М., 1982 и т.д.
[3] Бельский Л.П. Основные мотивы поэзии графа А.К. Толстого. М., 1894; Покровский К.В. Период расцвета поэтической деятельности А. Толстого. М., 1908; Илюшин А.А. Стихотворения и поэмы А.К. Толстого. М., 1999 и т.д.
[4] Котляревский Н.А. Гр. А.К. Толстой как сатирик // Вестник Европы. 1906. Июль. Т. 4;
Цертелев Д.Н. Юмористические и шуточные произведения гр. А.К. Толстого. СПб., 1907; Berry T.E. A.K. Tolstoy: Russian humorist. Bethany college press, 1971 и т.д.
[5]Так, Н.И. Дюнькин и А.И. Новиков в своей работе ограничиваются замечанием, что «первое произведение Толстого, появившееся в печати, это фантастическая повесть “Упырь”, написанная под влиянием Гофмана» (см.: Дюнькин Н.И., Новиков А.И. А.К. Толстой. Биография и разбор его главных произведений. СПб., 1909. С. 10).
[6] Ср. текст проклятия с аналогичным текстом в романе Х. Уолпола «Замок Отранто»:
Где шлем лежит, сему мечу под стать,
Там дочь твоя обречена страдать.
Альфонсо кровь одна ее спасет,
И князя тень покой тогда найдет.
(Уолпол Г. Замок Отранто // Уолпол Г., Казот Ж., Бекфорд У. Фантастические повести. Л., 1967. С. 74).
[7]Толстой А.К. Упырь // Толстой А.К. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1980. С. 18. Текст повести цитируется по этому изданию. В дальнейшем страницы указываются в тексте, в скобках после цитаты.
[8] См., например, «Замок Отранто» Х. Уолпола.
[9] Как отмечает С.Ф. Васильев, мотив «чертова места» в «Упыре» соотносится не только с виллой д’Урджины, но и с усадьбой Сугробиной, поскольку и там, и здесь «актуализируется непосредственная связь с адом». См.: Васильев С.Ф. Указ. соч. С. 29.
[10] С.Ф. Васильев объясняет подобную закономерность доминированием ирреального мира над реальным, что, впрочем, противоречит его же утверждению о гармоническом равновесии двух миров, приводимому в другой части работы.
[11] Об этом упоминает в своей монографии и С.Ф. Васильев. См.: Васильев С.Ф. Указ. соч. С. 30. 12
[12] Мотив предсказания вообще характерен для техники ведения повествования в готической литературе. Используя предсказание, авторы романов, с одной стороны, интриговали читателя, частично приоткрывая ему предстоящие события, а, с другой стороны, используя намеки и недомолвки, сохраняли тайну вплоть до самой развязки.
[13] Гофман Э.Т.А. Песочный человек // Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. М., 1994. С. 322.
[14] Этот факт был отмечен Е.Г. Чернышевой, однако при рассмотрении функций этого сна исследовательница ограничивается лишь упоминанием о том, что он «служит классическим с точки зрения психоанализа символическим замещением подсознательных интенций и воплощает <…> некоторые сюжетные развязки». См: Чернышева Е.Г. Проблемы поэтики русской фантастической прозы 20–40-х годов XIX века. М., 2000. С. 38– 39.