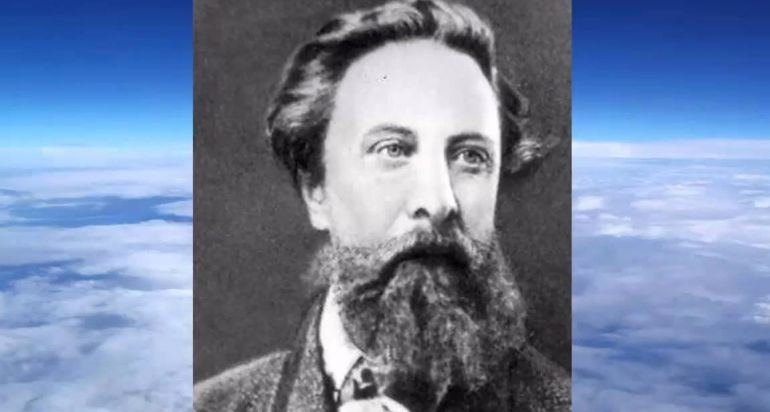Драма А. К. Толстого «Посадник»: средневековая государственность, доисторическое миропонимание

УДК 821.161.1: 82–13
Е. А. Прокофьева
г. Днепропетровск
Аналізується підтекстовий шар п’єси з елементами доісторичного світогляду, що дозволяє говорити про нове семантичне тлумачення твору.
Неоконченная драма А.К. Толстого «Посадник» (1870–71) – наименее исследованное сочинение известного автора. Оно крайне редко попадает в поле зрения ученых-филологов. Из изысканий, более-менее приближенных к нам по времени, можно назвать только работы Г. И. Стафеева [11, с.130; 12, с.293–302; 13, с.107], И. Г. Ямпольского [18, с.162; 19, с.324], Д. А. Жукова [3, с.367], М. Н. Виролайнен [2, с.359–360], А. Солженицына [10, с.143], хотя по сути они только указывают на наличие пьесы в контексте всего литературного наследия А. К. Толстого. В авторитетных трудах: «История русской литературы» [8], подготовленной Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) Академии наук СССР в 1980-е годы, «Теория драмы в России от Пушкина до Чехова» А. А. Аникста [1] и «А. Н. Островский и русская драматургия его времени» Л. М. Лотман [6] даже не упоминается о «Посаднике». Такая ситуация сложилась, во-первых, ввиду явного художественного «проигрыша» пьесы по сравнению с драматической трилогией – главным творением А. К. Толстого в этом роде литературы. Вовторых, из-за незавершенности произведения, которая затрудняет в должной мере оценку его поэтической специфики и особенностей психологии действующих лиц.
Вопрос об изучении места «Посадника» в творчестве А. К. Толстого, его роли и значения в литературном процессе XIX века открыт и в должной мере – научной необходимости и актуальности – еще не сформулирован, не заострен. Данная статья имеет целью пересмотреть исследовательское отношение к этому произведению, обнаружить в нем нераскрытый потенциал и оригинальное художественное видение. Нашей задачей стало выявление всечеловеческого, общекультурного архетипа в незавершенной пьесе А. К. Толстого, его рецепция драматургом.
Речь идет о доисторическом миропонимании главного героя, сублимировании им первобытными жреческими функциями средневековых посадничьих. На такой ракурс размышлений нас натолкнула работа Б. А. Успенского «Филологические разыскания в области славянских древностей», в частности трактовка ученым былины о Садко через мотив человеческой жертвы, приносимой водяному [16, с.83]. Мы ориентировались на то, что индивидуально-авторская актуализация в произведениях часто встречающихся тем, образов, персонажных схем позволяет обнаруживать и обосновывать как неповторимость того или иного писательского решения, так и универсальное общечеловеческое содержание казалось бы в мелких, незначительных вопросах.
Замысел «Посадника» возник у А. К. Толстого после принципиального отказа от сочинения на тему смуты-междуцарствия начала XVII века – своеобразного продолжения драматической трилогии. Хотя «Смерть Иоанна Грозного» (1862–64), «Царь Федор» (1864–68) и «Царь Борис» (1868–69), ее составляющие, считал сам автор, «открывали … путь к Дмитрию Самозванцу, но им уж слишком много занимались» [15, т.4, с.340]. Поиск сюжета для новой, «человеческой» драмы, как представлял жанр произведения А. К. Толстой, привел его к мысли о герое, который, «чтобы спасти город, берет на себя кажущуюся подлость» [15, т.4, с.347]. Однако, «нужно вдвинуть это в рамку, и Новгород – была бы самая лучшая» [15, т.4, с.347], – конкретизировал свое намерение автор.
Тематической канвой пьесы, определяющей в ней фабульно-сюжетные фон и колорит, явилось военно-политическое противостояние Новгородской феодальной республики и Суздальского княжества в XIII веке. Оно было вызвано борьбой двух сильных государственных субъектов за сферы торгового влияния в Восточной Европе и Прибалтике. А. К. Толстой, опираясь на первые четыре тома «Истории государства Российского» (1816– 24) Н. М. Карамзина [4] и двухтомный труд «Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада» (1863) Н. И. Костомарова [5], художественно смоделировал ситуацию длительной осады Новгорода суздальскими войсками и отчаянных усилий патриотов-республиканцев не сдавать город. Конфликт произведения автор основал на стремлении положительных героев сохранить государственную независимость Новгорода, служащую гарантией моральной свободы его граждан. Но это благое дело наталкивается на сопротивление отрицательных персонажей «Посадника», преследующих в первую очередь корыстные имущественные интересы.
А. К. Толстой придавал большое значение точности воспроизведения обычаев и нравов изображаемой в произведении эпохи. Драматург приступил к работе над «Посадником» за границей, потому обратился с просьбой к своей супруге, пребывающей в России. Она заключалась в поиске исторических названий улиц и должностей, имен людей, живших в то время; требовалось даже оправданное «домашнее занятие для патрицианских женщин в Новгороде», причем не «только одних боярынь» [15, т.4, с.352]. В итоге появилось объемное, масштабное, красочное полотно, передающее в динамике событийный ряд пьесы, причины, его обусловившие, мотивы поступков персонажей и особенности их характеров.
Автор достоверно воссоздал общественную организацию и психологическую атмосферу средневековой республики. Он показал вече – высший орган новгородской власти, включавший городское и свободное сельское население. Из среды боярства вече избирало посадника, тысяцкого и архиепископа, фактически управлявших республикой. Оно созывалось посадником, но могло сходиться и по собственному почину.
Новгородский князь приглашался из других земель, с ним заключался договор – «ряд» на управление и пользование определенными территориями. При этом функции князя были строго ограничены. Он выступал прежде всего военачальником и резиденцию имел на «Городище», то есть за городом, а не в центре города, не в «Детинце». Если князь не выполнял принятых на себя обязательств, то ему «указывали путь».
Большим значением в Новгороде обладала фигура посадника – выборного должностного лица, ведавшего управлением, представлявшего республику во взаимоотношениях с внешним миром, выступавшего посредником между народом и князем. Печать посадника прикладывалась ко всем новгородским грамотам. Он выполнял военные функции, укреплял Новгород и пригороды, вместе с тысяцким «вводил» в дом Святой Софии нового владыку – передавал ему управление новгородскою церковью. Посадник происходил из знатной боярской семьи, полномочия были бессрочными. Но его могли сменить в любое время, если вече посчитает нужным. В одном из писем А. К. Толстого посадник назван «новгородским мэром» [15, т.4, с.437], что, на наш взгляд, во многом определяет понимание автором европейского характера новгородской общественной структуры – идентичность развитым странам с их выборными и потому подотчетными должностными лицами. Князь сместить посадника не мог.
Торгово-ремесленное население Новгорода имело свои объединения. Это были: 1) кончане (жители «концов», пяти районов города) – Гончарского, Загородного, Неревского, составлявшие Софийскую сторону, Славенского и Плотницкого, входивших в Торговую сторону; 2) уличане (жители улиц), из которых в пьесе упоминаются реальные Добрынина и Люгоша; 3) знаменитое «Ивановское сто» – первая купеческая гильдия на Руси. Они непосредственно участвовали в политической жизни республики. Однако народные настроения были переменчивы, действия импульсивны, расположение поддавалось влиянию. Вече часто становилось инструментом в политической борьбе боярских группировок.
А. К. Толстой ввел в произведение персонажей с подлинными историческими именами, упоминаемых Н. М. Карамзиным и Н. И. Костомаровым. Среди них: Вышата, Рагуйло («История государства Российского» [4]) и Жирох, Ставр, Радько («Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада» [5]). То же можно сказать о должностях и сословиях, возникших в специфических условиях феодальной республики. В первую очередь речь идет о «подвойском» – гонце, объявляющем волю и исполняющем другие поручения вече. Затем упоминаются «кончанские старосты», доводящие приказы высших должностных лиц до жителей своих районов, «гридьба», составляющая войско посадника и тысяцкого, «ушкуйники» – молодые люди, искавшие раздолья и приключений за пределами новгородских земель. Зажиточные республиканские граждане обобщены в пьесе определением «огнищане», что соответствует самостоятельным земледельцам, дворянам в современном понимании, а не княжеским тиунам (распорядителям домашнего имущества), как это было на других русских территориях.
«Патрицианские женщины», представленные в «Посаднике», преимущественно ведут светскую жизнь. Они свободно, без сопровождения мужчин передвигаются по городу, высказывают собственное мнение по любому вопросу и не обременены теми «прозаическими занятиями», о которых в начале работы над пьесой думал драматург. Вера, дочь главного героя, и Наталья, сожительница воеводы Чермного, часто посещают церковь. Боярыня Мамелфа Дмитровна, вдова предшественника Глеба, в своем доме «учиться благочестью / И вежеству» собирает «весь Новгород» [15, т.2, с.592]. Желание Натальи помочь двум прислужницам готовить стол к приему гостей – ввиду отправки многочисленной челяди на крепостные стены – встречает их тихое, но упорное сопро-тивление.
Первое действие пьесы А. К. Толстого начинается диалогом новгородцев, возвращающихся с вече. На нем по инициативе посадника Глеба Мироныча произошло переизбрание воеводы. Вместо Фомы Григорьича, склонного к заключению мира с суздальцами, был поставлен Андрей Юрьевич Чермный, полагающий возможным продолжать оборону осажденного города. Через несколько дней псковичи должны ударить в тыл войскам суздальского князя. (Псков входил в состав Новгородской феодальной республики до 1348 года, потому логично использование его военной силы.)
Однако единодушия среди населения нет: «пошли бы в топоры, когда б не посадник» [15, т.2, с.557]. Одни страшатся «суздальским пригородком учиниться» [15, т.2, с.558]. Другие риторически вопрошают: «не все ли равно торговать, что на своей, что на княжой воле?» [15, т.2, с.559]. Третьи полагают важным «время выиграть», а если князь станет «власть забирать» – «опять бы ему путь указали» [15, т.2, с.559]. Новгородцы разбиваются на две «толпы», главными аргументами в их споре делается, что «Глеб-то … из своего погреба по стопе поднес» и «князь заплатил за Фому стоять» [15, т.2, с.560]. Напряженная обстановка в «вольном» городе чревата взрывом.
Далее на сцене появляется сам главный герой. Степенный, то есть, действующий, посадник изображен человеком волевым, решительным, твердым, уверенным в своей правоте. Глеб Мироныч обладает непререкаемым авторитетом: «а что велит посадник, то у нас / И деется и свято!» [15, т.2, с.568], – признают даже его оппоненты. Двадцать лет занимает Глеб выборную должность, будучи несгибаемым и беспощадным в вопросах, касающихся исполнения общественных обязанностей. «Мы Новгород Великим государем / Поставили и головы послушно, / Свободные, склонили перед ним. / Вот наша воля!» [15, т.2, с.596], – определяет посадник социальное кредо соотечественников.
В тяжелое время, в «голодный год» Глеб Мироныч скупил хлеб «да тотчас / За полцены спустил его в народ» [15, т.2, с.572]. Причем это нанесло ощутимый ущерб капиталам посадника. Потому часть его врагов – бояре Жирох и Кривцевич, бывший воевода Фома Григорьич – убеждена, что военные действия, ведомые Новгородом, посаднику выгодны. Пока длится осада, «небось не правят / с него долгов», при сдаче города – «с него-то взятки гладки», а кредиторам, живущим торговлей – «убыток от войны» [15, т.2, с.571], при победе суздальцев – вероятно полное разорение. Другие, среди которых влиятельная боярыня Мамелфа, обвиняют посадника в безбожии. Его желание отстаивать город истолковывается как «лучше, / Чтоб приступом нас взяли? Из церквей / Иконы потащили б?» [15, т.2, с.589]. Богатым горожанам мирные переговоры и уступки суздальцам представляются более заманчивыми, чем верность «Ярославлим грамотам» – новгородская независимость.
Посадника подобные разговоры не беспокоят, «то для меня равно, как если дождь / По крыше бьет» [15, т.2, с.598], – заявляет он. Глеб полагает важным «чинить безропотно и свято, / Что государь наш Новгород велит» [15, т.2, с.596]. В этой трудной миссии главным посадник считает возможность «для собственной своей / Чинить хочу для совести, и сам / Свое себе спасибо говорить» [15, т.2, с.598]. Так его почитание Великого Новгорода и служение патриотическому идеалу получают выражение в виде исключительной личной оценки происходящего и соразмерения этого преимущественно с собственными взглядами и убеждениями.
Новый воевода, ставленник посадника, несмотря на молодость, «лучше всех защиту умеет весть» [15, т.2, с.598]. Действительно, он сразу же принимает меры по укреплению обороны и предотвращению неожиданного приступа, на который могут решиться осаждающие из-за скорого прибытия псковичей. Чермный собирается отправиться на разведку и узнать направление атаки суздальцев. Путь он избирает через потайной ход, соединяющий Спасский монастырь в стенах города и овраг («Свенельдов враг»), находящийся в стане неприятеля. О наличии подземной коммуникации, созданной еще «при варягах», было известно только игумену. Сам воевода «случайно прошлым летом, / Охотясь, … на устие набрел» [15, т.2, с.565]. До избрания он никому не говорил о своей находке, теперь же просит Глеба Мироныча отправиться в монастырь и принести ключ от двери, позволяющей проникнуть в подземелье.
Известие о потайном ходе вызывает противоречивые чувства и намерения героев. Посадник и боярин Вышата полагают, что следовало бы его засыпать: это брешь в обороне, которой может воспользоваться противник. Бывший воевода со сторонниками сожалеют о своей прежней неосведомленности. Они хотели бы «князю весточку подать, / Как приступ весть» [15, т.2, с.621]. Еще один персонаж, Рагуйло, пленный суздалец, бежавший из-под стражи, видит здесь средство к спасению. Он заставляет свою сестру Наталью похитить ключ у Чермного, когда тот неожиданно засыпает. Затем суздальцы, ведомые Рагуйло, врываются в город через Спасский монастырь.
Наступление отбито, подземелье монахи начали засыпать, но новгородцы, подстрекаемые Фомой и его приспешниками, стихийно собирают вече и обвиняют Чермного в измене. Тот не может объяснить исчезновение ключа, который к тому же оказывается торчащим в двери потайного хода «снутри»; значит, дорогу суздальцам открыл кто-то из новгородцев. Воевода полагает, что дома был один, вся челядь, даже женщины, была задействована в обороне города, его сожительница Наталья отправилась к больной тетке. Последним уходил от Чермного посадник Глеб, но предположение Жироха о его причастности к похищению воспринимается горожанами как клевета на посадника.
В вечевой толпе – смятение и шум, новгородцы негодуют, слышатся призывы к расправе над Чермным. «В Волхов пса», «веревку, братцы! И на шею камень», «разграбим дом его» [15, т.2, с.637], – кричат озлобленные и взбудораженные произошедшим осажденные. Глеб Мироныч пытается образумить соотечественников: «когда б он замышлял / Нам изменить, не стал бы нам он ключ показывать», «нельзя казнить / без обыска», «домашних надо допросить», «коль смените его – все пропадет! Один он держит город», «хоть на два дня оставьте воеводство / Вы Чермному» [15, т.2, с.634, 636]. Однако аргументы разума и логики не представляются разгоряченной толпе убедительными. Доносятся крики, требующие вернуть на воеводство Фому Григорьича. Посадник взывает к совести, к спасению души похитителя, надеясь, что тот признается в содеянном и обелит Андрея Юрьевича. Однако все тщетно. Чтобы не допустить смены воеводы, Глеб Мироныч берет вину на себя. «Я вор!» [15, т.2, с.638], – безапелляционно заявляет он. Стремления посадника обезопасить Чермного от переизбрания с должности и спасти Новгород от внешней агрессии сливаются. Для Глеба они превращаются в определенную «сверхцель», ради которой следует без колебаний пожертвовать своей честью, а если понадобится, то и жизнью.
Требования «топить его» и «грабить дом» тут же меняют адресата. Редятинцы, уличане посадника, помня, как тот помог во время голода, ограждают Глеба от растерзания. За измену посадника могли бы приговорить к смертной казни. Похоже, что Глеб готов к такому повороту в судьбе. Но, учтя его многолетние заслуги, вече выносит другой приговор:
Из города и волости своей
По жизнь тебе указывает путь.
С закатом солнца Новгород оставить
Сегодня ж должен ты [15, т.2, с.647].
Бывший посадник с поклоном благодарит «за милостивый суд» и уходит сквозь толпу, которая, согласно ремарке, «перед ним раздается» [15, т.2, с.648]. Начинается штурм, враги с двух сторон идут на приступ. Воевода Чермный, намеревавшийся силой заступиться за Глеба Мироныча, спешно отправляется отбивать атаку. На этом заканчивается третье, последнее из написанных А. К. Толстым, действие пьесы.
Дальнейшее развитие сюжета «Посадника» реконструировал Д. Н. Цертелев, племянник супруги драматурга и близкий ему человек, по личным воспоминаниям и несохранившимся черновикам автора [15, т.2, с.691–692]. Четвертое действие должно было состоять из двух картин и содержать следующие события. В первой, происходящей в доме бывшего посадника, жене и дочери Глеба предлагает свое покровительство боярыня Мамелфа: семья изгнанника может переселиться к ней. Жена Глеба пребывает в нерешительности и Мамелфа готова разорвать с ней отношения. Приходит Василько, жених Веры, он не изменил своих матримониальных планов. Однако девушка заявляет, что выйдет замуж, только если отец будет оправдан. От Глеба требуют сдачи печати и казны. Чермный отбивает приступ, но не отыскивает вора. Бывший посадник интересуется: пойдет ли семья за ним в изгнание? Жена отвечает уклончиво, Вера отказывается. Она хочет найти человека, унесшего ключ у воеводы.
Вторая картина предполагала декорации крепостного вала, до которого уже добрался Глеб Мироныч. Он, осыпаемый оскорблениями, покидает город. В последний момент Вере удается привести Наталью, которая перед народом сознается в похищении ключа. Невиновность бывшего посадника доказана, но он не собирается оставаться в Новгороде. Глеба все уговаривают. Чермный одерживает решительную победу над суздальцами. Затем, по замыслу автора, посадник погибает. И в письме княгине К. СайнВитгенштейн, постоянной корреспондентке и другу, содержится ясно оформившееся намерение А. К. Толстого относительно своего героя. «Я решительно заставлю его умереть в последней сцене» [15, т.4, с.438], – выработал концепцию финала драматург.
Считаем важным подчеркнуть именно это обстоятельство – непременную кончину Глеба Мироныча, – которое определяет, по нашему мнению, смысловой строй, вектор и психологию данного художественного образа и всей пьесы. Стремление посадника принести себя в жертву Новгороду осуществляется. И по времени оно совпадает с известием о победе над внешними (разгром суздальского князя) и внутренними (разоблачение похитительницы ключа) врагами.
Самозабвенное служение Глеба Мироныча феодальной республике превращается по сути в сакрализацию традиций «вольности». Посадник чтит, вернее, обоготворяет Новгород и его обычаи. По мнению Глеба, вечевой приговор «должен быть, как божье слово, свят» [15, т.2, с.561]. При этом посадник не видит вокруг себя никого из тех, кто составляет население города. «Стыд тому, чья подлая душа / Иное б что, чем Новгород вмещала, / Пока беда над ним не миновала» [15, т.2, с.598] (здесь и далее подчеркнуто нами. – Е. П.), – нравоучительно вещает он. Показательно, что Глеб Мироныч ни одного человека не считает достойным уважения. «Людей / По шерсти ль гладь иль против шерсти – то же / Тебе от них спасибо» [15, т.2, с.598], – полагает посадник.
Чермный после избрания искренне благодарит Глеба, «что о себе не мысля, за меня / Стоял на вече». Тот ему высокомерно и пренебрежительно отвечает: «не за тебя, за Новгород стоял я. / Будь кто тебя получше, за того бы / Я и стоял» [15, т.2, с.566]. Посадник дает саркастический отпор боярыне Мамелфе, занявшей сторону смещенного с воеводства Фомы. «Матушка, мы баб / Не трогаем. Кричи себе, коль хочешь, / Во здравие» [15, т.2, с.589], – язвительно поясняет Глеб и отсутствие угрозы для оппонентки от властей, и «важность» мнения бывшей посадницы для окружающих. Нареченному зятю Василько он внушает: «как смеешь ты иметь / Хотение свое, когда я сам, / Я, Глеб, себя другому подчинил…» [15, т.2, с.598]. Достается от него даже сожительнице Андрея Юрьевича.
Сначала посадник комментирует поведение Натальи и Чермного: «дурь бабья. Избаловал ты ее». А потом наставляет новоиспеченного воеводу: «не след тебе нянчиться с ней. Поискал бы себе ровни, в закон бы вступил» [15, т.2, с.606]. Причем все эти заявления Глеба Мироныча, череду которых логично продолжает самооговор, имеют характер однозначных, верных безусловно и единственно возможных путей решения вопроса или развития ситуации, словно посадник обладает сокровенным знанием, доступным только ему.
Возникает самоидентификация, позволяющая не щадить ни себя, ни других ради какой-то «надличной» цели. Реализуя ее, герой действует подобно профессиональному жрецу – своеобразному посреднику между высшими силами и людьми. Авторитет такой персоны основан на необходимости специальной подготовки к отправлению культа, на запасе сведений для правильного исполнения сложного ритуального действа. В начале драмы Глеб Мироныч говорит: «двадцать лет / Посадничью мою храню я честь – / Но если б только ей спасенье наше / Я мог купить – как свят господь, я б отдал / Ее сейчас! [15, т.2, с.598]. В этом контексте самооговор становится самопожертвованием – ритуальным жертвоприношением. Его сущность заключается не в получении божеством какого-нибудь драгоценного дара, а в отказе верующего от обладания им ради обретения более существенного – «общественного» – блага. Причем ценность приношения для жертвователя должна быть значительно выше, чем для объекта поклонения.
Языческая традиция предполагала так называемые бескровные и кровавые жертвы. К первым относились «возлияния», «брызгания», бросания кусочков пищи перед едой, вешания лоскутов ткани и оставления предметов в священных местах. Ко вторым – убиение живого существа, сопровождавшееся нередко поеданием части дара. «Жертвенный» диапазон простирался от единичного лишения жизни (индейцы белой собакой почитали солнце, древние славяне – быком или бараном Илью-громовержца) до грандиозных торжеств античности – гекатомб, где не менее ста волов составляли предмет приношения. Принесение в жертву человека считалось высшим ритуальным актом, увенчивающим иерархию даров божествам.
Мотивы таких сакральных действий различны. Здесь может быть «и кормление умерших, и задабривание духов, и магическое умерщвление животного, и тотемическое „причащение“, и умилостивительный дар богу, и акт очищения, и своекорыстный обман со стороны жрецов», и «жертвыгадания» [14, с. 25–26, 31], – проанализировал истоки ритуала признанный специалист истории религии С. А. Токарев. Причем четкая традиция жертвоприношений прослеживается не только в периоды дикости и варварства в качестве проявления единства родового коллектива и среды его обитания, но и в сформировавшихся классовых обществах.
Персидский царь Ксеркс (5 век до н. э.), устанавливая отношения с проливом Геллеспонт, приказал опустить в его воды кубок и меч. Карфагенский полководец Ганнибал (3–2 века до н. э.), унимая шторм в Средиземном море, распоряжался бросать в бушующие волны быков в дар Посейдону. Знатный римлянин Марк Курций (4 век до н. э.) в боевом вооружении верхом на коне кинулся в бездонную пропасть, разверзшуюся среди римского форума. Этим он предотвратил беду, угрожающую государству, принеся в жертву богам самое дорогое, что у него (Римского государства) было – личную доблесть гражданина.
Схожую этимологию имеет древнеегипетский обычай «арусех» (невеста). Он заключается в выставлении в затопляемом месте конического земляного столбика, который уносится поднимающейся водой. Это заменяет старинный обряд бросания в реку молодой девушки в пышном наряде с целью получения полноводного разлива Нила.
Израильтяне в конце II–начале I тысячелетия до н. э. стремились овладеть Палестиной. Завоевывая каждый город, они никого не оставляли в живых, не разбирали ни пола, ни возраста. Объяснением служило повеление бога Яхве, требовавшего массовых человеческих жертвоприношений. Такие же свирепые объекты поклонения были у бенгалийцев (Кали), финикийцев (Молох), аммонитов (Мильком) и других народов древнего мира, считающихся в наше время цивилизованными.
Подобный же характер – божества, жаждущего крови, – приобретает в понимании героя А. К. Толстого вечевой Новгород с его гарантированными «свободами». Глеб, в соответствии наблюдениям знатока доисторической культуры Э. Тэйлора, ведет себя как «жрец, для которого смысл обряда, иногда очень отдаленный от первоначального, стал предметом слепой веры» [17, с.475] (курсив наш – Е. П.). Моральные приоритеты феодальной республики, необходимые для развития индивидуального самосознания, превратились у него в доктринальную норму, в догмат, позволяющий извне руководить человеком или людской массой.
Воевода Чермный в ответ на устное несогласие с ним горожан говорит, что «повздорили маленько, … / … сам ведаешь, народ ведь вольный!» [15, т.2. с.561]. Посадник категорически возражает такому принципу взаимодействия новгородских властей и населения. «Ты не грози тому, кто спорить станет, / А с жерновом на шее кинуть в Волхов / Его вели!» [15, т.2. с.561], – однозначен в разрешении полемики Глеб. В данном случае посадник выступает как жрец, намеривающийся ритуально «кормить» свой свирепый объект поклонения. Согласно первобытному миропониманию, «духовная часть жертвы поедается духом идола (т. е., божеством, пребывающем в идоле или воплощенном в нем), которому она приносится» [17, с.487]. Божеством для Глеба сделался сам «господин наш Новгород», идолом – республиканская «вольность», подкрепляемая убийствами населяющих его «свободных» граждан.
Длительная оборона города, столь тщательно осуществляемая посадником, также заставляет думать о ритуальном «кормлении» сообразно с воззрением: «будто жизнь есть кровь» и даже бестелесные духи способны потреблять ее [17, с.484]. Неслучайно боярыня Мамелфа улавливает в поведении Глеба что-то неадекватное средневековой ментальности. «Некогда быть в церкви? / Нет времени молиться?» [15, т.2. с.591], – на первый взгляд риторически вопрошает она. «Стало быть, / Нам не нужна молитва?» [15, т.2. с.591], – делает бывшая посадница вывод, логически верный и невозможный – чудовищный – для человека, живущего в XIII веке. «Нет божьего на том / Благословенья, кто не верит в Бога!» [15, т.2. с.591], – выносит приговор строптивая праведница.
Супруга Глеба, после ухода Мамелфы, не на шутку пугается и уговаривает мужа помириться со своенравной боярыней. «Тебя, мой свет, / Осудят все!» [15, т.2. с.593], – предупреждает она, видя закономерное развитие ситуации. Посадника, похоже, недвусмысленно забавляет создавшееся положение. «Мне-то что ж? / Иль в самом деле я безбожник?» [15, т.2. с.593] (курсив наш – Е.П.), – ерничает Глеб, уверенный в моральном превосходстве над остальными. «Бояться толков – шагу не ступить» [15, т.2. с.593], – закрывает посадник «теологическую» дискуссию. Но с новой силой она неожиданно распаляется в третьем действии пьесы.
Здесь, о чем уже говорилось, герой берет на себя чужую вину. Сначала народ ему не верит. Затем возникают сомнения, поскольку обнаруживается материальная заинтересованность Глеба в сношениях с суздальцами – долги, о которых всем известно. Чермный, понимая, «что на себя поклеп посадник держит» [15, т.2. с.642], призывает вече требовать от саморазоблачителя «крест … целовать / В своих словах» [15, т.2. с.642]. Воевода, истинный персонаж средневековья, уверен в невозможности ложной присяги в случае, когда речь идет о конфессионном символе. Чермный ничего не знает о размолвке Глеба с Мамелфой и ее – теперь уже «общественных» – умозаключениях относительно религиозности посадника.
Однако до крестного целования дело не доходит. Кривцевич, враг Глеба, поворачивает его таким образом, что тот неизбежно оказывается преступником. «Что крест ему? Чтоб выручить тебя, / … Не морщася, он поцелует крест. / Известно нам, не верует он в Бога!» [15, т.2. с.642], – устраивает квазирациональную ловушку провокатор. Другие бояре подтверждают: они не в первый раз слышат об «атеизме» посадника. Теперь и самооговор, и истинное признание Глеба превратятся в глазах окружающих в однозначную циничную ложь.
«Мнение народное», бескомпромиссное по отношению к другим людям, оформляется необычайно быстро. А. К. Толстой передает его коротким убедительным диалогом.
Один из народа
Слышь братцы! Глеб не верит в Бога!
Другой
Стало,
Изменщик он?
Третий
Изменщик, стало быть!
Четвертый
Так, значит, нам не Чермного, а Глеба Теперь топить?
Пятый
А то кого ж еще?
Хватай его – иди! [15, т.2. с.643].
Четко прорисовывается витальный круг: посадник хотел посредством жернова и Волхова «переубеждать» инакомыслящих, а сам оказался перед угрозой самосуда.
Здесь заслуживает внимания и еще один – зооморфный – аспект мировоззрения персонажей пьесы, не доминирующий над другими, однако очень показательный. Оппоненты главного героя, семантически не соединяя два понятия, называют население Новгорода «бараньим стадом», а посадника «вороном». Кривцевич говорит о своих соотечественниках как о толпе глупцов и упрямцев, не задумываясь, что баран, овца или ягненок, составляющие стадо, являются наиболее распространенными жертвенными животными у многих народов. А вот Жирох, пожалуй, верно определил связь некоторых черт внешнего поведения Глеба Мироныча и хищной птицы, питающийся падалью, но не убивающий то, что ест.
В этом плане ворон – мифологический медиатор. Он, по мнению известного исследователя архетипов, этнографа и социолога К. ЛевиСтросса, олицетворяет умозрительный образ «посрединности»: между плотоядными и травоядными, между охотой и земледелием и, в конце концов, между жизнью и смертью [6, с.201]. Сходное – медиативное – положение занимает в первобытной общественной структуре жрец, задача которого «обновить и упрочить мироздание в целом» [9, с.183]. Потому путем магических обрядов, где главный – жертвоприношение – он обеспечивает «нормальные взаимоотношения» – «взаиомообмен» естественного мира со сверхъестественным, этого света с «тем», людей с божествами, духами и демонами.
Таким образом, в смысловом строе драмы «Посадник» открывается еще один – подтекстовой – слой. Жрец добровольно выбрал ипостась жертвы, предполагая выделиться из родового коллектива и утвердить моральное возвеличивание над ним. Однако первобытное по характеру служение божеству в условиях средневекового мировоззрения сыграло негативную роль. Вместо утверждения своей избранности Глеб Мироныч сделался заложником ситуации, потерял над ней контроль. Последующее развитие сюжета (решение вече об изгнании) и предполагаемая развязка драмы (нахождение истинного виновника нападения врага) представляют посадника зависимым от действий других героев. Среда бытования персонажей, созданная А. К. Толстым, историческая локализация хронотопа произведения позволили автору через первоначальную абстрактную конструкцию – «человек, чтобы спасти город, берет на себя кажущуюся подлость» – провести глубокое, всеобщее, гуманистически направленное содержание. Перспектива дальнейшего изучения, в целом направленного на пересмотр сложившегося, во многом поверхностного литературоведческого отношения к незавершенной пьесе А.К. Толстого, открывается как в плане продолжения начатого анализа «Посадника», комплексного рассмотрения произведения, так и переоценки творческого наследия его автора и всей русской исторической драматургии романтического направления.
Бібліографічні посилання
- Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М., 1972. – 643 с.
- Виролайнен М. Н. Драматургия А. К.Толстого // История русской драматургии. Вторая половина XIX–начало XX века (до 1917 года). – Л., 1987. – С.336–360.
- Жуков Д. А. Алексей Константинович Толстой. – М., 1982. – 384с.
- Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т., 4 кн. – Тула, 1990.
- Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. Т. 7. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки): Историческая монография: [В 2 т]. – СПб., 1886.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 1983. – 536 с.
- Лотман Л. М. А.Н. Островский и русская драматургия его времени. – М.; Л., 1961. – 360 с.
- Лотман Л. М. Драматургия 60–70-х годов // История русской литературы: В 4 т. Т. 3. Расцвет реализма. – Л., 1982. – С. 446–494.
- Петрухин В. Я. Жертва, жертвоприношение // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М., 1995. – С. 181–183.
- Солженицын А. Алексей Константинович Толстой – драматическая трилогия и другое // Новый мир. – 2004. – № 9 (953). – С. 137–144.
- Стафеев Г. И. В Отчизне пламени и слова. – Тула, 1983. – 188 с.
- Стафеев Г. И. Сердце полно вдохновенья. – Тула, 1973. – 320 с.
- Стафеев Г. И. А.К. Толстой (1817 – 1967): Очерк жизни и творчества. – Тула, 1967. – 128 с.
- Токарев С. А. О жертвоприношениях // Этнографическое обозрение. – 1999. – № 5. – С. 24–35.
- Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. – М., 1963–1964.
- Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. – М., 1982. – 248 с.
- Тэйлор Э. Первобытная культура. – М., 1939. – 568 с.
- Ямпольский И. Г. А. К. Толстой // Ямпольский И.Г. Середина века: Очерки о русской поэзии (1840–1870). – Л., 1974. – С. 83–170.
- Ямпольский И. Г. А. К.Толстой // История русской литературы: В 10 т. Т. VIII. Ч. II. – М.; Л., 1956. – С. 313–348.
Надійшла до редколегії 12.05.08.