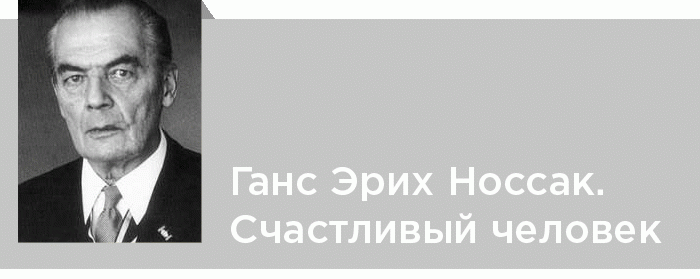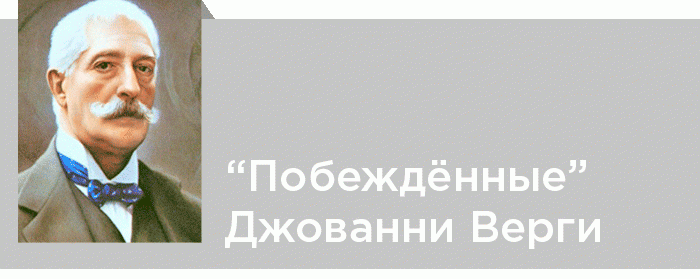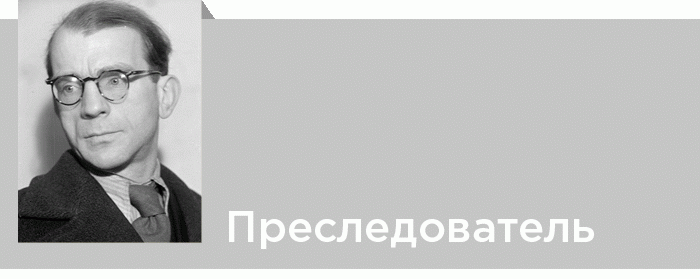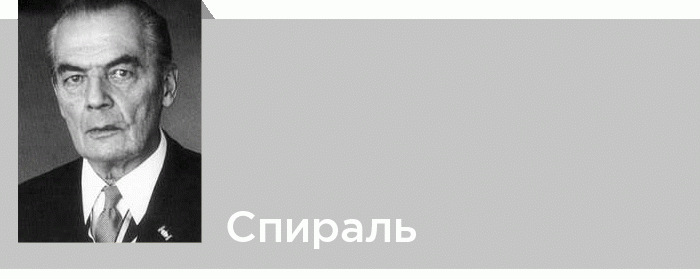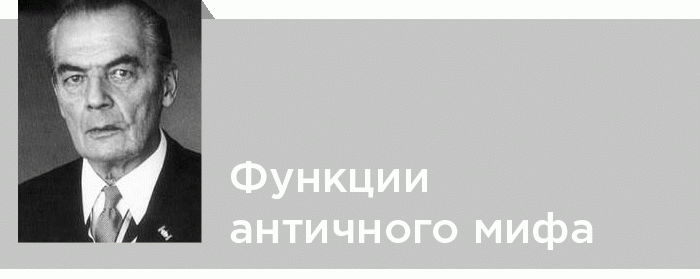В границах времени

А. В. Михайлов
[…]
Нет в творчества Носсака той безусловной мощи, которая вынесла бы его за границы времени — к последующим поколениям. Это несколько обидно, потому что Носсак был писателем с яркими чертами дарования, но все равно это так. Не двоедушным был он, а как раз цельным и совестливым, — тем обиднее наблюдать в его произведениях борьбу между писателем-беллетристом, мыслящим довольно-таки эмпирически узко, коротко (короткая мысль), терпеливо и скучно плетущим нити романической фабулы («Дело д'Артеза», 1968), и настоящим прозаиком-поэтом, которого обступают образы-видения, неумолимые, как рок, и непременные. Они не придуманы и не скомбинированы — они прорезывают человеческое бытие и, раскрывая его, захватывают важным для всех, общим смыслом. Особенная черта творческой личности Носсака: в его творчестве возникают такие пугающе-интенсивные и жестокие, ярко-конкретные картины. Они возникают скорее на дальних окраинах его поэтического мира, но иногда способны осветить весь ландшафт тяжелого бытия. Тогда, напротив, исчезают широкие и бесплодные поля беллетристического вымысла.
Носсак неровен, и колебания качества у него часты; заземленно-мелкое и поэтически-сильное существуют порознь, и нелегко их слить. Рознь творческих начал внушает желание опосредовать их в отвлеченных плоскостях — таковы новеллы и притчи с античными сюжетами («Кассандра», «Орфей и ...», «Завещание Луция Эврина», замечательно переведенные А. Карельским и Е. Михелевич) с их глубокой необязательностью и виртуозной игрой включения сугубо современной психологии в бледные очертания древнего мифа и древней истории. «Жизнь, построенная на обмане, не жизнь» (слова из «Завещания») — для такого принципа в этих этюдах слишком мало земли, и на вошел он в самую плоть литературного творчества.
Совсем иное дело — «роман бессонной ночи» «Спираль» (1956); уже первый раздел его показывает писателя замечательным, без всяких скидок, мастером, умеющим извлечь волнующий смысл из житейской, полной всяких пустяков пестроты. Тут писатель не скупится не детальные описания, мелки« наблюдения и всякие малозначительные подробности, но нет здесь ничего неважного, потому что во всех этих описаниях и мелочах подготавливается и настроение таинственности и столь впечатляющий образ «запретного берега». Вот рассказ, в котором нет ничего трагического (в «фабуле»), но в котором действие протекает, как узнаем и начинаем верить, и посреди обыкновенного человеческого быта, и тут же — на грани и пределе жизни. «Другой берег» реки, «запретный» берег, на который нельзя переправляться и о котором не положено думать и спрашивать, — волнующая мифологема. Рационалистически толкуя ее — но не искажая, — обращаем ее в аллегорию культурной изоляции людей и целых народов, когда разрываются между ними естественные и органические связи... Смысл мифологемы универсальнее и необъяснимее, словно слепая «запретительная» сила веет ветром по миру, поражая абсурдностью своих запрещений: «запретный» берег — всего лишь другой берег реки. Но брат и сестра, наблюдающие за ним (в отличие от остальных, забывших о нем), замечают, что и там дует ветер и там всходят солнце и луна. Потусторонен этот другой берег, но и мучает душу затаенными загадками реального. Может быть, там случится что-то важное, а люди пропустят это событие, потому что забыли о другом береге. Может быть, люди когда-то объявили этот берег запретным, потому что там лучше, чем здесь. А. Карельскому при чтении этого раздела припомнились немецкие романтические сказки (Людвиг Тик!), и это справедливо, хотя, казалось бы, что у них общего с новой, проникнутой горьким опытом литературой. Помимо сказок, вспоминается Жан-Поль, его образ «правой земли» («Озорные годы»).
Колебания качества в прозе Носсака — это, на поверхности, чисто индивидуальное свойство его творчества, отражение уровня и склада его писательского таланта. Есть большая глубина проблемы — характер эпохи и созданное ею самою противоречие. Литературный язык времени; Носсак стал писателем в ту пору, когда у западногерманских литераторов переживание истории как шока стало перелагаться в слова, когда проходило онемение сердца и души. Пережитый шок — в нем для поэзии своя польза. Он лишает ее самоуспокоенности и мелкотемья, и человеческая личность, которая кажется такой хрупкой и беззащитной в механике истории — она, униженная и растоптанная, вырастает, как идея, во всем своем богатстве и во всей своей ценности. Шок, становящийся словом; есть в таком перехода и опасный для поэзии момент: в литературу вновь проникает беллетристическая пространность, размывающая, размазывающая самую суть пережитого, схваченного как страшное целое. Возникают две крайности — сжатая густота смысла и беллетристика, «бродящая» по закоулкам жизни, без своей «идеи». Не так резко эти крайности были в Носсаке — направленный эпохой язык противоречий.
Носсак пережил катастрофу Гамбурга, почти стертого с лица земли во время ночного налета авиации, — апокалиптическое событие в пределах города, но для отдельного человека событие бесконечное, несоизмеримое с человеческой малостью, аллегория гибели всего человечества, страшный суд истории без спасения. Носсак ничего не успел напечатать до 1933 года и уже не мог публиковаться до 1945 года. Фашистский режим обрек на молчание писателя, не успевшего сказать свое слово. Рукописи сгорели в пожаре Гамбурга. Когда Носсак напечатал свое первое произведение, ему было 46 лет, и он был писателем зрелым, долгие годы учения которого протекли в уединении — личность человека как спасительный островок среди потерпевшего кораблекрушение мира. Режим пал, и такие островки стали подниматься среди стихии. Носсаку в его изоляции удалось сохранить наиважнейшее — знание того, что есть человеческое и есть бесчеловечное, и знание того, что человечно и что бесчеловечно.
Этим своим традиционным гуманизмом Носсак отличался от многих писателей послевоенной Западной Германии, человечность — вот мера, какой пользовался он, изображая мир людских отношений. Ему не поставишь в вину, если отношения бесчеловечны; так ведь оценивал их сам писатель. Психология, какую излагает Шнайдер, персонаж второго раздела романа «Спираль», — так и названа рассказчиком «бесчеловечной», это психология выживания в условиях войны всех против вся. Этот персонаж произносит у Носсака фразу, часто цитируемую в литературе, она того заслуживает: «Следует окружить себя со всех сторон цепью ледяных гор — правилами игры, и тогда люди, которые захотят к тебе приблизиться, отморозят себе руки». Сравни в другом эпизоде: «Все должно выглядеть столь «надежным» и столь «безукоризненным», таким гладким, чтобы у людей, прикасающихся к нам из любопытства, начинали скользить пальцы и они отпускали нас, оттого что им сделалось бы неприятно».
В одном случае перед нами современный карьерист, преемник бальзаковских искателей счастья; в отличие от героев Достоевского он не способен разочаровываться в своих ротшильдовских идеях, неисправим, как тезис, который уже не вырубить топором, для него отношения «я» и «мира» мнимо перевернуты. Внутреннее «я» — бескрайне широко, внешний мир — пуст, мир не страшен, но можно споткнуться на самом себе. Второй случай — человек, носящий в себе бездонный, беспредельный страх. Можно было бы между ними, воплощениями отчаяния, находить общее. Есть у них и сходство с автором. Оно в постоянном, основном представлении Носсака — о пределе, встающем перед человеком, перед людьми, как стена: «другой» берег людей с «этого» берега. Двое живут в неизбывном страхе, в страхе, который столь велик, что совершенно невыносимо для них и то, что ничего страшного не происходит, потому что это означает для них только то, что все еще ничего страшного не произошло, и, стало быть, страшное все вероятнее и его можно вот-вот ждать. Эти двое, муж и жена, не в состоянии больше терпеть муки, сентябрьской ночью они оставляют свой дом, и муж теряет свою жену в снежном буране (которого заведомо не могло быть в сентябре). Теперь его судят — по подозрению в убийстве жены (и, разумеется, не принимают во внимание ссылок на сентябрьскую вьюгу)... Этот третий эпизод романа, блестящий по художественному уровню, захватывающий, гнетущий своими ужасами,— сцена суда, написанная не без импрессионистического нагнетания «тоски»,— корни ее в модерне, может быть, и в Стриндберге (вот здесь Носсак — большой мастер!). Метель, вьюга — вновь «метафизический» символ человеческой бесконтактности, экзистенциальной обособленности, как горная цепь, как гладкая поверхность...
И вот героя романа судят, и суд этот продолжается долго, и читатель успевает забыть, что суд этот «выдуманный», что он происходит во «внутреннем пространстве» души... Но не забывает автор, и вот все вместе с героем начинает растворяться в снегопаде и исчезает, баз конца... Что же? Писатель усложнил и облегчил себе задачу. Усложнил и выиграл в «символичности», потому что «всякого» подвел к стене, в которую упирается человеческое существо (снегопад разделяет людей, как гора, как стена). Облегчил и превратил суд в нечто фиктивное, что всегда можно прервать, не испытывая ответственности перед действительностью. Между тем суд над Дмитрием Карамазовым нельзя просто прекратить, и писатель, все додумывая до конца, вынужден идти на муки вместе с героем и доходить до тех финалов, лишенных расплывчатости, какими не может не кончиться жизненная ситуация. При всей настоятельности символа-мифологемы снегопад превращается и в литературный прием, с помощью которого можно выходить из серьезных, а порой и жестоких игр жизни.
Все это имело касательство к экзистенциализму тех лет, а сам экзистенциализм в его новых вариантах имел касательство к духовной ситуации послевоенного времени. И сам Носсак жил в среде, что порождала тогда эти разные варианты экзистенциализма. Вместе с другими он пережил шок, причиненный историей, и вместе с другими начал переводить его в слово (и в слова, слова...), освобождая замершее дыхание.
Эпоха подсказывала обобщенное и весомое слово, и до тех пор, пока писатель остается весь в плену своих шоковых переживаний, не способный выйти в широту исторической реальности, до тех пор его слово, лишенное самоценности и чуждое самолюбования, питается грандиозным образом человека — того, что терпит крах и опустошается до дна, и того, что воскресает из своего унижения как великая ценность. Обобщенность — основное свойство тогдашней литературы, пока она стремится к существенности и еще не может разлиться на просторах самой истории, обрабатывая богатство ее материалов. Обобщенность — это сильная ее сторона, сторона мысли в ней, какому бы отчаянию ни предавались писатели в своих мыслях,— в обобщении их заключена идея, пусть искаженно, но схватывающая нерв происходящего. Франц Кафка стал, как пророк, классиком этой литературы. У него «фабульную» сторону романов и рассказов пронизывали и заслоняли настоятельные поиски сущности человека — художественно-философский метод литературы, не желающей быть просто беллетристикой. У Носсака иногда встречаются ходы-мысли, напоминающие Кафку,— кроме возможного влияния, значима общность атмосферы: как дышится у крайнего предела... Художественно-философская направленность превращала произведения Кафки в нечто экспериментальное (причем результатами писатель редко бывал удовлетворен), не формальные эксперименты, а идейно-художественные. Экспериментальны и произведения Носсака, тем более, чем свободнее они от беллетристического многословия и празднословия. «Спираль» заведомо выигрывает при сравнении с «Делом д'Артеза» — трудно считать этот второй роман наиболее значительным произведением Носсака (так считает П. Толер); художественный итог второго несообразен с гигантской затратой средств, громоздящихся непретворенной (до конца) скукой обыденного.
Одно из проявлений экспериментальности «Спирали» — язык романа, подчеркнуто литературный и очищенный. В этом кажущийся парадокс: какой же эксперимент в том, чтобы писать литературно, без резкой характерности и вульгаризмов? У Носсака и в шоферской «столовке» разговаривают хотя и не вычурно, а нормально — но разговаривают гладко. Такой выверенный и отделанный язык — это условие самого эксперимента: он обеспечивает в произведении константу там, где надо бросить человека к пределу его бытия. Язык — это своеобразная мера вещей,— которым здесь, как и человеку, свойственно теряться, исчерпываться, опустошаться, свойственно лишаться своих свойств. Этим языком писатель «держит» своего героя.
Автор «Спирали» может отразить даже и пестроту жизни и быта, но вся эта пестрота лабораторно подготовлена — тщательно и аккуратно — для того, чтобы вобрать в себя сказочно-мифологическую таинственность вопросов и неясно-глубоких образов. Любители Гессе знают, что так, по-своему, поступал и этот писатель, пользуясь и думая языком кристально-точным и лирически-сдержанным. Так поступал и Кафка, язык которого, послушный замыслу, не объяснишь особыми условиями бытования немецкого в Праге: язык и стиль — строгая константа относительно небывалого и безумного содержания. О лабораторном языке Носсака нужно только не забыть сказать, что он никогда не бывает столь выразительным, просто Носсак писал слабее, менее напряженно, проще, он более пассивен и возможностей у него меньше. А потребность в «очищенности» очевидна. Пестрота пестротой, а подчеркнутая аккуратность языка сразу же говорит о том, что между писательским взглядом и «жизнью» есть преграда и преграду эту ставит заведомая обобщенность замысла: энергия шока проливается на все жизненное, и раз уж так, бывает жалко, что порой так быстро исчерпывается она, эта энергия, творящая здесь поэтический смысл с его живой напряженностью.
Итак, слог «Спирали» отделан, отработан, и это — условие эксперимента. В этом романе невозможно, чтобы встретились, да еще на одной странице, две такие реплики: «Доведу парня и мигом мотану обратно», «В ее состоянии она неохотно остается одна». Вторая — непричесана до смешного (смешны однокоренные слова и игра звуков, одно в сочетании с другим); первая — не из Носсака, это куда более «современный» литератор. У Носсака нельзя сказать: «Он слегка выпендривался» — это перевод не на русский язык, а (та жаргон. Такая вольность уничтожает то самое, ради чего создавался этот роман с его пятью «лабораторными» ситуациями. Эти пять ситуаций, эпизодов, лучше называть не новеллами, а этюдами-эссе: все житейское («материал») и все фабульное интересно автору лишь постольку, поскольку позволяет выйти к рассуждению и мифологеме-символу. Покажется ли странным, что в такой «этюдности» есть нечто бальзаковское? Бальзак и Носсак встречаются в д’Артезе (герой романа Носсака, заимствовавший бальзаковское имя как такой псевдоним, за которым укрывается и сам его создатель — Носсак), а родство шире: что такое второй раздел «Спирали», как не «этюд нравов», но только с резким превышением идеи и обобщения над наблюдением, которое так пышно и вольно расцветало в эпоху «физиологических очерков» (так что вместе с родством сразу дано и сугубое отличие).
Теряя опору в символе, Носсак терялся и на полях действительности и, сохраняя писательский такт и ум, начинал комбинировать события как бы реальной жизни — традиционного «реализма» не получалось. А выигрывал он, очевидно, тогда, когда пользовался своими яркими символа мифологемами и когда мог сорганизовать вокруг них материал реальной жизни. В таких символах заключено ведь двоякое. Одно — предвзятость: тогда получается, что как исследователь жизни писатель пользуется средствами недостаточно острыми, он имеет дело не с тем, что есть, а с тем, что должно быть. Есть и другое: сами символы не случайны, в них обобщение страшного опыта истории и реальный язык человеческого, каким оно сказалось в те страшные времена, обобщение реальное и живое. В нем все непонятое откладывается как непонятное — однако в загадочности символа обращается в принципиальную проблему, в реально-жизненное смысловое целое. Такой символ словно обуздывает море слепого ужаса, непонятное делается как бы обозримым, пластичным — фурии древнего мира.
Миросозерцание прошлого, недавнего прошлого открывается перед нами в книге Носсака. Случай, когда с переводом писателя заметно запоздали. Книги его превратились в свидетелей минувшего — говорят больше о своем, меньше — читателю в наши дни. Я чуть не сказал — превратились в немых свидетелей, но ведь так оно и есть: если книге суждено стать только документом своей эпохи, как художественное создание она умолкает. Причина, почему встреча с Носсаком не может не принести некоторых огорчений и разочарований.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1984. – № 3. – С. 70-73.
Произведения
Критика