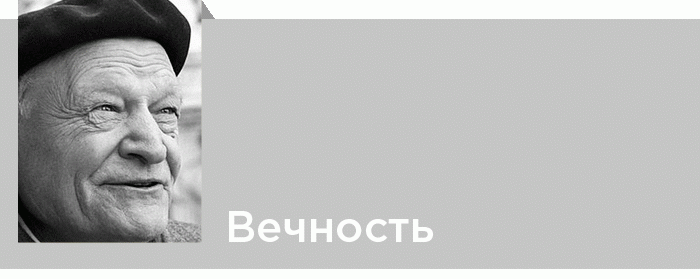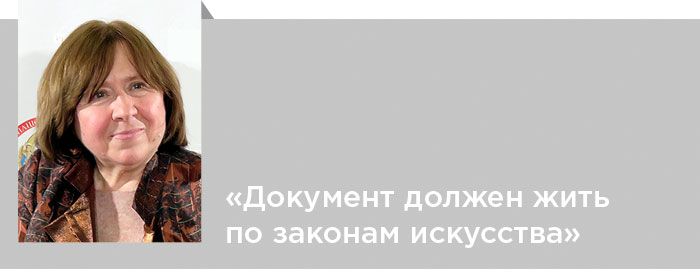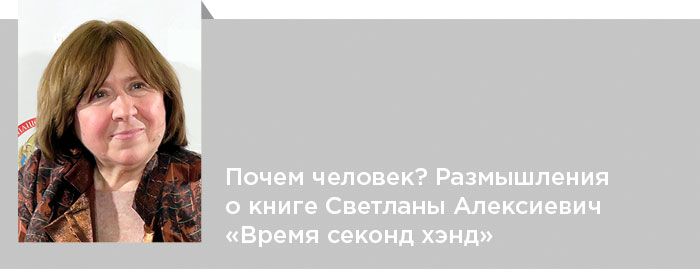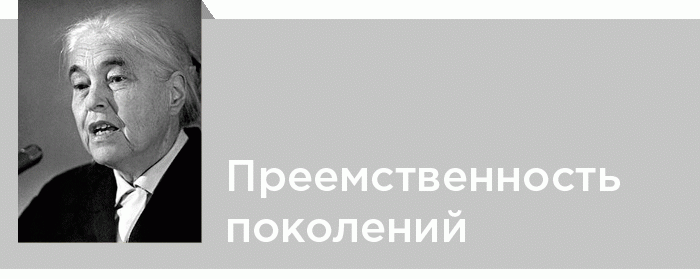Анна Зегерс. Седьмой крест

(Отрывок)
Немецким антифашистам — мёртвым и живым — посвящается эта книга.
Анна Зегерс
Действующие лица:
Георг Гейслер — совершивший побег из концлагеря Вестгофен.
Валлау, Бейтлер, Пельцер, Беллони, Фюльграбе, Альдингер — бежавшие вместе с ним.
Фаренберг — комендант концлагеря Вестгофен.
Бунзен — лейтенант в Вестгофене.
Циллих — шарфюрер в Вестгофене.
Фишер, Оверкамп — следователи.
Эрнст — пастух.
Франц Марнет — бывший друг Георга, рабочий химического завода в Гехсте.
Лени — бывшая подружка Георга.
Элли — жена Георга.
Меттенгеймер — отец Элли.
Герман — друг Франца, рабочий гризгеймских железнодорожных мастерских.
Эльза — его жена.
Фриц Гельвиг — ученик-садовод.
Д-р Левенштейн — врач, еврей.
Фрау Марелли — театральная портниха.
Лизель Редер, Пауль Редер — друзья юности Георга.
Катарина Грабер — тетка Редера, владелица гаража.
Фидлер — товарищ Редера по работе.
Грета — его жена.
Д-р Кресс.
Фрау Кресс.
Рейнгардт — друг Фидлера.
Официантка.
Голландский шкипер, готовый на любой риск.
Может быть, никогда еще в нашей стране не были срублены такие необычайные деревья, как эти семь платанов, стоявших перед бараком номер три. Вершины их были спилены раньше, по причинам, о которых станет известно потом. На высоте плеча к стволам были прибиты поперечные доски, и платаны казались издали семью крестами.
Новый комендант лагеря — его звали Зоммерфельд — тут же приказал все это переколоть на дрова. Этот Зоммерфельд был такой же зверь, но только в другом роде, чем его предшественник Фаренберг, нацистский ветеран, «завоеватель Зелигенштадта», отец которого и сейчас держит там, на рыночной площади, контору по прокладке труб. Новый комендант лагеря был до войны «африканцем», офицером колониальных войск, а после войны он вместе со своим прежним начальником, майором Леттов-Форбеком, ходил в атаку на красный Гамбург. Все это мы узнали гораздо позднее. Если прежний комендант был самодур, подверженный непредвиденным и бешеным приступам жестокости, то новый оказался сугубо трезвым человеком, у него можно было всегда все предвидеть заранее; и если Фаренберг был способен внезапно прикончить нас всех, то Зоммерфельд мог построить нас шеренгами и, аккуратно отсчитав, прикончить каждого четвертого. Этого мы тогда тоже еще не знали. Да если бы и знали! Разве это могло сравниться с тем чувством, которое охватило нас, когда все шесть деревьев были срублены, а потом и седьмое. Невелика победа, конечно, ведь мы были по-прежнему бессильны, по-прежнему в арестантских куртках! И все-таки победа — она дала каждому почувствовать, как давно мы ее уже не чувствовали, свою силу, ту силу, которую мы слишком долго недооценивали, словно это одна из самых обыкновенных сил на земле, измеряемых числом и мерой, тогда как это единственная сила, способная вдруг вырасти безмерно и бесконечно.
И в бараках наших впервые затопили в тот вечер. Погода как раз переменилась. Сейчас я уже не убежден, что несколько поленьев, которые нам выдали для нашей чугунной печурки, были именно из тех дров. Но тогда мы были уверены в этом.
Мы столпились вокруг печурки, чтобы посушить свое тряпье, и непривычный вид живого пламени заставил сильнее биться наши сердца. Караульный штурмовик стоял, повернувшись к нам спиной; он невольно загляделся в забранное решеткой окно. Нежная серая пряжа измороси, легкая, как туман, вдруг превратилась в проливной дождь, и резкие порывы ветра то и дело хлестали стену нашего барака. Что ж, в конце концов даже штурмовик, даже самый прожженный штурмовик может увидеть только раз в году, как наступает осень.
Поленья трещали. Вспыхнули два голубых язычка пламени — это загорелся уголь. Нам полагалось всего пять лопат угля, они могли только чуть-чуть согреть на несколько минут холодный барак, даже не просушив наше тряпье. Но мы пока об этом не думали. Мы думали только о дереве, сгоравшем перед нами. Ганс, покосившись на караульного, сказал беззвучно, одними губами:
— Трещит.
Эрвин сказал:
— Седьмой.
На всех лицах показалась слабая, странная улыбка, соединявшая в себе несоединимое — надежду и насмешку, бессилие и мужество. Мы затаили дыхание. Дождь барабанил то по дощатым стенам, то по жестяной крыше. Младший из нас, Эрих, бросил нам один короткий взгляд, но в нем была сосредоточена та сокровеннейшая сила, которая жила и в каждом из нас. И взгляд спрашивал: «Где-то он теперь?»
I
В начале октября Франц Марнет несколькими минутами раньше, чем обычно, выехал на велосипеде со двора своих родственников, принадлежавшего к общине Шмидтгейм в предгорье Таунуса. Франц был коренастый, среднего роста человек, лет под тридцать, лицо у него было спокойное, на людях — почти сонное. Однако сейчас, когда он катил по дороге, круто спускавшейся между пашнями к шоссе — его любимая часть пути, — черты Франца выражали искреннюю и простодушную жизнерадостность.
Может быть, впоследствии покажется непонятным, как это Франц, в его положении, способен был испытывать удовольствие. Но он его испытывал: он даже шутливо охнул, когда велосипед подскочил на двух ухабах.
Стадо овец, со вчерашнего дня удобрявшее соседнее поле Мангольдов, завтра перейдет на широкую, засаженную яблонями лужайку родственников Франца. Поэтому они спешили закончить сбор яблок сегодня. Тридцать пять суковатых яблонь, врезавших в светло-голубую высь свои мощные извилистые ветви, были усыпаны золотым парменом. Яблоки были так румяны и зрелы, что сейчас, в первом утреннем свете, они сияли, точно бесчисленные маленькие солнца.
Однако Франц не жалел о том, что пропустит сбор яблок. Достаточно он вместе с крестьянами за гроши ковырял землю. Правда, и за это надо благодарить судьбу после стольких лет безработицы, а уж у дяди, спокойного, очень порядочного человека, конечно, жилось в тысячу раз лучше, чем в трудовом лагере. С первого сентября Франц наконец поступил на завод. Он был рад этому по многим причинам, были рады и родственники, так как теперь Франц проживет у них зиму платным постояльцем.
Когда Франц проезжал мимо соседнего сада Мангольдов, те с лестницами, шестами и корзинами как раз возились под громадной грушей. Софи, старшая дочь, крепкая девушка, кругленькая, но легкая, с очень стройными запястьями и тонкими щиколотками, первая полезла на лестницу и при этом что-то крикнула Францу. Он, правда, не расслышал что, однако быстро обернулся и засмеялся. Его с необычайной силой охватило ощущение, что он здесь свой. Люди малокровных чувств и дел едва ли поймут его. Для них быть своим — значит принадлежать к определенной семье или общине или любить и быть любимым. Для Франца же это значило просто быть связанным вот с этим клочком земли, со здешними жителями, с утренней сменой, ехавшей в Гехст, и прежде всего принадлежать к числу живых.
Когда он миновал двор Мангольдов, перед ним открылись покатые склоны полей и внизу — туман. Немного дальше, ниже дороги, пастух открывал загон. Стадо вышло и тотчас прильнуло к откосу, бесшумно и плотно, точно облако, которое то распадается на меньшие облачка, то снова сгущается и разбухает. Пастух — он был из Шмидтгейма — тоже что-то крикнул Францу Марнету. Франц улыбнулся. Этот Эрнст, пастух с огненно-красным шарфом на шее, был предерзким парнем, ничего пастушеского! В холодные осенние ночи сердобольные крестьянские девушки бегали к нему, в его будку на колесах. За спиной пастуха земля уходит вниз плавными широкими волнами. Пусть Рейна отсюда еще не видно, до него целый час езды поездом, но и широкие, мягко очерченные склоны, покрытые пашнями и фруктовыми садами, а ниже виноградниками, и фабричный дым, запах которого доносится даже сюда, и поворот дорог и рельсов на юго-запад, и поблескивающие, мерцающие пятна в тумане, и даже пастух Эрнст в красном шарфе — вон он стоит, одной рукой подбоченясь, одну ногу выставив вперед, точно он командует целой армией, а не пасет обыкновенное стадо овец, — все это говорит о том, что до Рейна уже недалеко.
Это страна, о которой недаром сказано, что здесь снаряды последней войны выворачивают из земли снаряды предпоследней. Эти холмы — не горы. Ребенок может в воскресенье утром отправиться пить кофе со сдобными булками к родственникам за холмы и к вечернему звону уже быть дома. И все-таки эта цепь холмов была долгое время краем света, за ней начинались дичь и глушь, неведомая страна. Вдоль этих холмов римляне возвели свой вал. Столько поколений истекло кровью с тех пор, как они сожгли здесь на холмах алтари кельтов, столько было дано сражений, что они могли считать доступную часть земли наконец огороженной и расчищенной под пашни. Но не орел и не крест вошли в герб этого города внизу, а солнечное колесо кельтов, то солнце, от которого зреют яблоки Марнетов. Здесь стояли лагерем легионы, а с ними и все боги мира: городские боги и крестьянские, иудейский бог и христианский бог, Астарта и Изида, Митра и Орфей. Отсюда, где сейчас Эрнст из Шмидтгейма стоит возле своих овец, выставив одну ногу вперед, одной рукой подбоченясь, и кончик его шарфа торчит, словно на этих холмах всегда дует ветер, — отсюда начинались дебри. В долине позади него, в затуманенном свете солнца, словно в котле, кипели народы. Север и юг, восток и запад вливались сюда и смешивались, но ничьею не стала страна, и от всех что-то осталось в ней. Точно мыльные пузыри, возникали царства, возникали — и почти сейчас же лопались. Они не оставляли после себя ни защитных валов, ни триумфальных арок, ни военных дорог, только сломанные золотые украшения со щиколоток своих женщин. Там, где шоссе вливается в автостраду, собиралось войско франков, искавшее переправы через Майн. Здесь, между дворами Мангольдов и Марнетов, проезжал в горы монах, в дичь и в глушь, — ведь никто еще не решался переступить эту заповедную границу, — тщедушный человек верхом на ослике, защищенный панцирем веры, опоясанный мечом спасения; он нес людям Евангелие и искусство прививать яблони.
Эрнст, пастух, оборачивается к велосипедисту. В шарфе ему становится жарко, он срывает его, и шарф горит на жнивье, точно знамя. Эрнст делает этот жест словно на глазах у тысяч зрителей. Но только его собачка Нелли смотрит на него. Он снова становится в ту же неподражаемо насмешливую и надменную позу, но теперь — спиной к дороге, лицом к равнине, где Майн вливается в Рейн. На слиянии лежит Майнц. Этот город поставлял архиепископов Священной Римской империи. И вся равнина между Майнцем и Вормсом бывала во время избрания императора усеяна палатками. Каждый год на этой земле происходило нечто новое, и каждый год то же самое: от мягкого, затуманенного света солнца и от человеческих трудов и забот созревали яблоки и виноград. Вино было нужно всем и на все: епископам и князьям, чтобы избирать императора; монахам и рыцарям, чтобы основывать ордена; крестоносцам, чтобы сжигать евреев — по четыреста человек сразу на площади в Майнце, которая и посейчас называется площадью Огня; духовным и светским Курфюрстам, когда Священная империя распалась и на праздниках знати стало так весело, как никогда; якобинцам — чтобы плясать вокруг деревьев свободы.
Двадцать лет спустя на майнцском понтонном мосту стоял в карауле старый солдат. И когда они проходили мимо, эти последние остатки великой армии, оборванные и угрюмые, ему вспомнилось, как он стоял здесь на часах, а они вступали сюда с трехцветными знаменами и правами человека, и он громко заплакал. И этот караульный пост был снят. Стало тише даже здесь, в этой стране. И сюда дотянулись годы тридцать третий и сорок восьмой — двумя тонкими, горькими струйками крови. Затем снова была империя, которую теперь называют Второй. Бисмарк приказал расставить пограничные столбы не вокруг этой земли, а поперек, чтобы отхватить кусок для пруссаков. Ведь жители хоть и не были в прямом смысле бунтовщиками, все же казались слишком равнодушными, как те, кто немало перевидал и еще увидит.
Неужели это бой под Верденом слышали школьники, когда за Цальбахом прикладывали ухо к земле, или это только непрерывно дрожала земля под колесами поездов и шагами марширующих армий? Многие из этих парнишек позднее предстали перед судом, одни — за то, что братались с солдатами оккупационной армии, другие — за то, что подкладывали им под рельсы бикфордов шнур. А на здании суда развевались флаги межсоюзнической комиссии.
Не прошло и десяти лет с тех пор, как эти флаги были спущены и вместо них подняты черно-красно-золотые, которые еще сохраняла тогда «империя». Даже дети помнили, как Сто сорок четвертый пехотный полк опять проходил через мост под звуки военного оркестра. А какой вечером был фейерверк! Эрнсту отсюда было видно. Город на том берегу был полон огней и шума. Тысячи маленьких свастик отражались в воде крендельками. Повсюду кружили бесовские огоньки. Но когда на другое утро река за железнодорожным мостом уходила от города, ее тихая сизая голубизна была все та же. Сколько боевых знамен она уже унесла, сколько флагов! Эрнст свистнул собачке, и она тащит в зубах его шарф.
Теперь мы на месте. То, что происходит теперь, происходит с нами.
II
Там, где проселочная дорога выходит на Висбаденское шоссе, стоит ларек с сельтерской. Родственники Франца Марнета каждое воскресенье бранят себя за то, что своевременно не арендовали этот ларек, построенный на бойком месте и сделавшийся для владельцев просто золотым дном.
Франц рано выехал из дому, он охотнее всего ездил один и терпеть не мог путаться в густом рое велосипедистов, спешивших каждое утро из деревень Таунуса на гехстские химические заводы. Поэтому он был раздосадован, увидев, что один его знакомый, Антон Грейнер из Буцбаха, ждет его возле ларька с сельтерской.
Тотчас выражение искренней и простой радости исчезло с его лица. Оно стало скучным и простоватым. Этот же Франц Марнет, который был способен не задумываясь пожертвовать жизнью, мог раздражаться от того, что никогда Антон Грейнер не проедет мимо ларька, не купив чего-нибудь; у Антона была славная, преданная девчонка в Гехсте, и он потом совал ей то плитку шоколада, то пакетик леденцов. Грейнер стоял боком, чтобы иметь перед глазами проселочную дорогу. Что это с ним сегодня, подумал Франц, у которого с годами появилась особая чуткость к выражению человеческих лиц. Он сразу увидел, что Грейнер неспроста ждет его с таким нетерпением. Грейнер вскочил на велосипед и покатил рядом с Францем. Они спешили вперед, чтобы не попасть в толпу велосипедистов, становившуюся тем гуще, чем ниже спускалась дорога.
Грейнер сказал:
— Слушай-ка, Марнет. А ведь нынче утром что-то стряслось…
— Где? Что? — спросил Франц. Всякий раз, когда можно было ожидать, что он удивится, его лицо принимало выражение сонливого равнодушия.
— Марнет, — повторил Грейнер, — наверняка нынче утром что-то стряслось…
— Да что?
— Почем я знаю, — сказал Грейнер, — а только стряслось наверняка.
Франц сказал:
— Ах, все ты сочиняешь. Ну что могло стрястись в такую рань?
— Не знаю. Но раз я тебе говорю, можешь не сомневаться. Какая-то чертова история. Вроде как тридцатого июня.
— Да сочиняешь ты все…
Франц уставился перед собой. Как густ был еще туман внизу! Быстро бежала им навстречу равнина со своими фабриками и дорогами. Вокруг них стояли трезвон и брань. Вдруг толпу велосипедистов рассекли эсэсовцы на мотоциклах, Генрих и Фридрих Мессеры из Буцбаха, двоюродные братья Грейнера: они работали в той же смене.
— Как это они тебя не прихватили? — спросил Франц, словно его совершенно не интересовали дальнейшие сообщения Грейнера.
— Им нельзя, у них служба. Так, по-твоему, я сочиняю…
— Да с чего ты взял?
— С потолка взял. Так вот. Моей матери пришлось сегодня из-за этого наследства ехать во Франкфурт, к юристу. Она и занесла молоко Кобишам, потому что ей не поспеть к сдаче. А молодой Кобиш ездил вчера в Майнц закупать вино для трактира. Они там выпили и застряли на ночь, он только сегодня рано утром собрался домой, и около Густавсбурга его не пропустили.
— Ах, Антон!
— Что — ах?..
— Да ведь около Густавсбурга дорога давно закрыта.
— Слушай, Франц, а Кобиш ведь не полоумный. Он говорит, что там усиленный контроль и часовые по обоим концам моста, а какой туман! Думаю, еще нарвусь, говорит Кобиш, сделают мне исследование крови да найдут, что я выпил, — и прощай мои шоферские права. Лучше уж засяду я в «Золотом ягненке» в Вайзенау и опрокину еще кружечку-другую.
Марнет рассмеялся.
— Да, смейся. Ты думаешь, его пропустили обратно в Вайзенау? Ничего подобного, там мост был совсем закрыт. Говорю тебе, в воздухе что-то есть.
Спуск кончился. Справа и слева тянулась обнаженная равнина, где только местами была не убрана репа. Что тут могло быть в воздухе? Ничего, кроме золотых солнечных пылинок, которые над домами Гехста тускнели и превращались в пепел. Но Франц вдруг почувствовал: да, Антон Грейнер прав, в воздухе что-то есть.
Звоня, прокладывали они себе дорогу по узким людным улицам. Девушки взвизгивали и бранились. На перекрестках и у фабричных ворот горели карбидовые фонари. Сегодня, может быть из-за тумана, их зажгли в первый раз на пробу. В их жестком белом свете все лица казались гипсовыми. Франц толкнул какую-то девушку, она огрызнулась и повернула к нему голову. На левый, словно стянутый, изувеченный глаз она спустила прядку волос, видно, очень наспех — эта прядка, точно флажок, скорее подчеркивала, чем прикрывала шрам. Ее здоровый, очень темный глаз остановился на лице Марнета и на миг как бы приковался к нему. Ему почудилось, будто этот взгляд сразу проник к нему в душу, до тех глубин, которые Франц таил даже от самого себя. И гудки пожарных на берегу Майна, и неистово-белый свет карбидовых фонарей, и брань людей, притиснутых к стене грузовиком, — разве он к этому еще не привык? Или сегодня все это иное, чем обычно? Он силился поймать хоть какое-нибудь слово, взгляд, которые могли бы ему что-то объяснить. Сойдя с велосипеда, он повел его. В толпе он давно потерял обоих — и Грейнера и девушку.
Грейнер еще раз пробился к нему. «Возле Оппенгейма…» — торопливо бросил Грейнер через плечо; при этом он так перегнулся к Францу, что чуть не свалился с велосипеда. Ворота, в которые каждому из них предстояло войти, находились очень далеко друг от друга. Миновав первый контроль, они расставались на долгие часы.
Франц напряженно вслушивался и вглядывался, но ни в раздевалке, ни во дворе, ни на лестнице не мог обнаружить даже следа, даже легчайшего признака иного волнения, чем то, какое наблюдалось каждый день между вторым и третьим гудком сирены; разве только чуть пошумнее были беспорядок и галдеж — как всегда, впрочем, по понедельникам. Да и сам Франц — пусть он жадно отыскивал хоть ничтожный признак тревоги в словах, которые слышал, и в глазах, в которые смотрел, — сам Франц ругался совершенно так же, как и остальные, так же расспрашивал насчет миновавшего воскресенья, так же острил, так же сердито одергивал на себе спецодежду, переодеваясь. И следи за ним кто-нибудь с той же настойчивостью, с какой он следил за всеми, наблюдатель был бы совершенно так же разочарован. Франца даже ненависть кольнула ко всем этим людям, — ведь они просто не замечают, что в воздухе что-то есть, или не желают замечать. Да уж есть ли? Новости Грейнера почти всегда какой-нибудь вздор. А может быть, Мессер, двоюродный брат Грейнера, поручил ему прощупать Франца? В таком случае что он мог заметить? И что Грейнер, собственно, рассказал? Вздор, сущий вздор! Что Кобиш при закупке вина тут же нализался.
Последний сигнал сирены прервал его размышления. Франц поступил на завод совсем недавно и до сих пор испытывал перед началом работы какую-то тревогу, почти страх. Начавшееся шуршанье приводных ремней пронизало его дрожью до корней волос. Но вот они зажужжали ровно и звонко. Первый, второй, пятидесятый нажим на рычаг уже давно позади. Рубашка Франца вымокла от пота. Он облегченно вздохнул. Между мыслями снова начала возникать некоторая связь, хотя она то и дело рвалась, так как он всегда старался работать безупречно. Ни при каких условиях не мог бы Франц работать иначе, работай он хоть на самого дьявола.
Их было здесь наверху двадцать пять человек. Несмотря на то что Франц настойчиво продолжал искать хоть каких-нибудь признаков волнения, ему и сегодня было бы досадно, окажись хоть одна из его пластинок негодной, и не только из-за брака — хотя это могло ему повредить, — но ради самих пластинок. Они должны быть без изъяна и сегодня. При этом он размышлял: Антон упомянул Оппенгейм. Маленький городок между Майнцем и Вормсом. Что может там произойти особенного?
Фриц Мессер, двоюродный брат Антона Грейнера, старший мастер, на минуту остановился возле Франца, затем подошел к его соседу. Когда Фриц ставил свой мотоцикл под навес и вешал в шкаф свой мундир, он становился просто штамповщиком, как и все другие штамповщики. И сейчас он ничем не выделялся, кроме особой, уловимой, может быть, только для Франца интонации в голосе, с какой он крикнул: «Вейганд!» Вейганд был пожилой, волосатый, коренастый человек, по прозванию «Кочанчик». Хорошо, что его голосок, высокий и звонкий, слился с жужжанием приводного ремня, когда он, собирая пылеобразный отвал, проговорил, почти не открывая рта:
— Ты слышал? В Вестгофенском концлагере…
Франц, вглядевшись, увидел в ясных, почти прозрачных глазах Кочанчика те крошечные светлые точечки, которых так мучительно искал: словно где-то глубоко внутри человека горит яркое пламя, и только затаенные искорки брызжут из глаз. «Наконец-то», — подумал Франц. А Кочанчик уже стоял возле следующего.
Франц бережно вставил металлическую полосу, нажал рычаг, еще, еще и еще. Наконец, наконец, наконец-то. Если бы он мог сейчас же все бросить и побежать к своему другу Герману! Его мысль снова перескочила на другое. Что-то в этой новости по-особому затронуло его. Что-то в ней по-особому его взбудоражило, вцепилось в него и грызло, хотя он еще не знал, как и почему. Значит, бунт в лагере, говорил он себе, может быть, большой побег… Вдруг он понял, что именно во всем этом так затрагивает его. Георг!.. Какой вздор, решил он тут же. Почему непременно Георг? Георга может там уже и не быть. Или, что тоже вполне вероятно, он умер. Но к его собственному голосу как бы примешивался голос Георга, далекий и насмешливый: нет, Франц, если в Вестгофене что-то произошло, — значит, я еще жив.
В последние годы Франц и в самом деле поверил, что может вспоминать о Георге совершенно так же, как о других заключенных. Как о любом из тех тысяч, о которых вспоминаешь с яростью и скорбью. Он и в самом деле поверил, что их с Георгом давно уже связывают только крепкие узы общего дела, юность, проведенная под звездами тех же надежд, а не былые, мучительно врезавшиеся в тело узы, которые оба они старались когда-то разорвать. Старая история давно позабыта, решительно внушал он себе. Ведь Георг стал другим, так же как и он, Франц, стал другим… Он скользнул взглядом по лицу соседа: или Кочанчик и тому сказал? Разве можно было после этого так спокойно штамповать, продолжая аккуратно вкладывать полосу за полосой? Если там действительно что-нибудь случилось, решил Франц, Георг наверняка замешан. Потом на него опять нашли сомнения: нет, ничего не случилось, Кочанчик просто сбрехнул.
Когда Франц во время обеденного перерыва зашел в столовую и заказал себе светлого пива (суп он ел только вечером, у родных, а сюда приносил с собой хлеб, колбасу и сало — после долгой безработицы он копил на костюм и, если хватит, на куртку с застежкой «молнией», хотя еще неизвестно, сколько времени ему будет дано носить этот костюм), около стойки кто-то сказал:
— А Кочанчик-то арестован.
Другой добавил:
— За вчерашнее. Выпил лишнее и такое натворил…
— Ну, не из-за этого же; верно, еще что-нибудь…
Еще что-нибудь? Франц уплатил за пиво и прислонился к стойке. Так как все вдруг заговорили вполголоса, до него доносилось только какое-то тихое чириканье: «Кочанчик… Кочанчик…»
— Да, вот и влип, — сказал Францу его сосед Феликс, друг Мессера. Он пристально посмотрел на Франца. На его правильном, почти красивом лице было насмешливое выражение, ярко-синие глаза казались слишком холодными для молодого лица.
— Из-за чего влип? — спросил Франц.
Феликс вздернул плечи и поднял брови, — он, видимо, сдерживал смех. Если бы сейчас отправиться к Герману, опять подумал Франц. Но поговорить с Германом раньше вечера не удастся. Вдруг он заметил Антона Грейнера, пробиравшегося к стойке. Верно, Антону удалось под каким-нибудь предлогом получить пропуск, обычно он никогда не бывал ни в этом корпусе, ни даже в этой столовой. И почему он вечно ждет меня, думал Франц, почему ему хочется рассказывать свои басни именно мне?
Антон схватил его за локоть, но тотчас отпустил, точно боялся этим привлечь внимание. Он отодвинулся к Феликсу и выпил свое пиво, затем опять повернулся к Францу. А все-таки у него честные глаза, подумал Франц. Он недалекий человек, но искренний. И его тянет ко мне, как меня тянет к Герману… Антон схватил Франца под руку и начал рассказывать; его голос тонул в шуме и шарканье уходивших из столовой рабочих, так как обеденный перерыв кончился.
— Там, на Рейне, несколько человек бежало из Вестгофена, что-то вроде штрафной команды! Мой двоюродный брат ведь сейчас же узнает о таких вещах. И говорят, большинство уже сцапали. Вот и все.
III
Сколько он ни обдумывал побег, один и с Валлау, сколько ни взвешивал каждую мелочь и ни пытался представить себе бурное течение своей новой жизни, в первые минуты после побега он был только животным, вырвавшимся на свободу, которая для него — жизнь, а к западне еще прилипли шерсть и кровь.
С той минуты, как побег был обнаружен, вой сирен разносился по окрестностям на многие километры и будил деревушки, окутанные густым осенним туманом. Этот туман глушил все, даже лучи мощных прожекторов, которые обычно прокалывают наичернейшую ночь. Сейчас, почти в шесть утра, они задыхались в рыхлой мгле, едва окрашивая ее в желтоватый цвет.
Георг пригнулся еще ниже, хотя трясина под ним оседала. Засосать успеет, пока выберешься отсюда! Жесткий кустарник топорщился и выскальзывал у него из рук, которые побелели, осклизли и застыли. Ему чудилось, что он погружается все быстрее и глубже, — собственно говоря, его должно было уже затянуть. Хотя он бежал, спасаясь от верной смерти, — и он, и остальные шестеро были бы, без сомнения, в ближайшие дни убиты, — смерть в трясине казалась ему простой и нестрашной. Словно эта смерть — другая, чем та, от которой он бежал, смерть среди диких зарослей, на воле, не от рук человеческих.
На высоте двух метров над ним, на дамбе между ивами, бегали часовые с собаками. И собаки и часовые точно взбесились от воя сирен и плотного влажного тумана. Волосы Георга встали дыбом, он весь ощетинился — кто-то выругался совсем рядом, он узнал голос Мансфельда. Значит, уже оправился от удара, ведь Валлау здорово хватил его лопатой по голове. Георг выпустил из рук кустарник и сполз еще глубже. Он наконец ощутил под ногами тот выступ, который мог здесь служить опорой. Он это предусмотрел еще тогда, когда имел силы вместе с Валлау все заранее высчитать.
Вдруг началось что-то новое. Лишь через несколько мгновений он понял, что не началось, а, наоборот, кончилось — вой сирены. Новой была тишина, в которой особенно громко раздавались то отрывистые свистки, то приказания, доносившиеся из лагеря и из наружного барака. Часовые над ним пробежали за собаками к дальнему концу дамбы. Другие бежали от наружного барака, выстрел, еще, плеск, и хриплый лай собак заглушает другой, тонкий лай, который против собачьего совершенно бессилен, да и не собачий это, но и не человеческий голос, и, вероятно, в человеке, которого они сейчас тащат, не осталось уже ничего похожего на человеческое существо. Это Альберт, подумал Георг. Действительность может обладать такой подавляющей силой, что она кажется сном, хотя какие уж тут сны! Значит, поймали, подумал Георг, как думают во сне. Значит, поймали. Неужели нас теперь осталось только шестеро?
Туман был все еще очень плотен, хоть ножом режь. Вдали за шоссе вспыхнули два огонька, а кажется — у самых камышей. Эти отдельные острые точки легче прокалывали туман, чем широкие лучи прожекторов. Один за другим загорались огни в крестьянских домах, деревни просыпались. Вскоре круг из огоньков сомкнулся. Таких вещей не бывает, думал Георг, мне просто пригрезилось. Ему неудержимо захотелось покончить со всем этим, бросить все. Ведь достаточно только присесть, затем бульканье — и конец… Прежде всего успокойся, сказал ему Валлау. Валлау, верно, тоже сидит где-нибудь поблизости, в ивняке. Стоило Валлау кому-нибудь сказать: прежде всего успокойся, — и человек сейчас же успокаивался.
Георг ухватился за кустарник. Он медленно пополз вбок. Он был, вероятно, не больше чем метрах в шести от последнего куста, как вдруг, в минуту необычайного прояснения мыслей, его потряс такой приступ страха, что он так и остался висеть на откосе, плашмя, животом к земле; и так же внезапно, как появился, страх исчез.
Беглец дополз до куста. Сирена вторично завыла. Ее, наверно, слышно было далеко по ту сторону Рейна. Георг уткнулся лицом в землю. Спокойствие, спокойствие, сказал ему Валлау из-за плеча. Георг перевел дыхание, повернул голову. Все огни погасли. Туман стал тонким и прозрачным, как легкая золотая ткань. По шоссе ракетами пронеслись фары трех мотоциклов. Завывание сирены, казалось, набухает, хотя оно на самом деле только равномерно усиливалось и ослабевало, неистово впиваясь в мозг людям далеко отсюда. Георг снова уткнулся лицом в землю, — по дамбе над ним преследователи бежали обратно. Он только покосился уголком глаза. Прожекторам уже нечего было выхватывать, они совсем померкли в утренних сумерках. Только бы не сразу поднялся туман. Вдруг трое стали спускаться по откосу меньше чем в десяти шагах от Георга. Георг опять узнал голос Мансфельда. Ибста он узнал по ругательствам, не по голосу, который от ярости стал тонким — бабий визг. Третий голос, так ужасающе близко, — да они мне сейчас на голову наступят, подумал Георг, — был голос Мейснера, он каждую ночь раздавался в бараках, вызывая то одного, то другого заключенного. Две ночи назад он вызвал в последний раз его, Георга. И сейчас Мейснер после каждого слова чем-то рассекал воздух. Георг чувствовал даже легкий ветерок. Вот сюда… Прямо вниз… Скоро, что ли?
Второй приступ страха — точно рука, сдавившая сердце. Только бы не быть сейчас человеком, пустить корни, стать стволом ивы среди ив, обрасти корой и ветвями. Мейснер спустился вниз и заревел как бык. Вдруг он смолк. Он увидел меня, решил Георг и почувствовал внезапное спокойствие, страха уже ни следа. Это конец! Прощайте все.
Мейснер спустился еще ниже, к остальным. Они лазали по болоту между дамбой и дорогой. В данную минуту Георг был спасен, потому что находился гораздо ближе, чем они могли предполагать. Если бы он тогда побежал, они теперь уже нашли бы его в болоте. Как странно, что он, обезумевший и затравленный, все-таки с железным упорством держался собственного плана! Эти собственные планы, выношенные бессонными ночами! Какую власть они имеют над человеком в те мгновения, когда все планы рушатся и напрашивается мысль, что кто-то другой создавал за тебя планы. Но и этот другой — ты сам.
Сирена снова смолкла. Георг пополз вбок и одной ногой поскользнулся. Где-то рядом заметался болотный стриж, и Георг от испуга выпустил кустарник. Стриж нырнул в камыш, раздался сухой, резкий шорох. Георг прислушался. Они, конечно, тоже все прислушиваются. Если бы не быть человеком! А если уж быть, так зачем непременно Георгом? Камыш снова распрямился, никого не видно, да ничего, собственно, и не произошло, только птица заметалась на болоте. Все же Георг не в силах был пошевельнуться — колени исцарапаны, плечи онемели. Вдруг он увидел в кустах маленькое бледное остроносое лицо Валлау… из-за каждого куста на него смотрело лицо Валлау.
Затем это прошло. Он стал почти спокоен. Он холодно подумал: Валлау, Фюльграбе и я пробьемся. Мы трое самые крепкие. Бейтлера уже схватили. Беллони, может быть, тоже проскочит. Альдингер слишком стар. Пельцер слишком мямля. Когда Георг наконец перевернулся на спину, он увидел, что уже наступил день. Туман поднимался. Золотистый прохладный осенний свет лежал над землей, которую можно было бы назвать мирной. На расстоянии метров двадцати Георг увидел два больших плоских камня с белыми краями. До войны дамба служила дорогой на отдаленный хутор, давно уже снесенный или сгоревший. В те годы болото, должно быть, начали осушать; потом его снова затопило вместе с тропинками, которые вели от дамбы к дороге. Вероятно, тогда и были втащены сюда с берега Рейна эти камни. Между камнями кое-где осталась твердая земля, а над ней смыкался камыш. Образовался как бы туннель, по которому можно было проползти на животе.
Эти несколько метров до первого, серого с белыми краями, камня были самой опасной частью пути, почти без прикрытия. Георг крепко вцепился в кустарник, отпустил сначала одну руку, затем другую. Ветви распрямились; с легким шорохом поднялась какая-то птица, — может быть, та самая.
И вот он уже у второго камня; кажется, будто его перенесли сюда в одно мгновенье чьи-то крылья. Если бы он только не так продрог!
Произведения
Критика