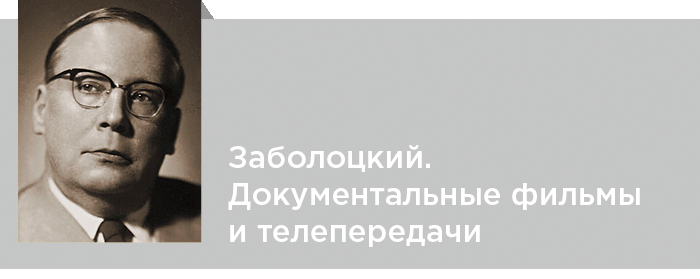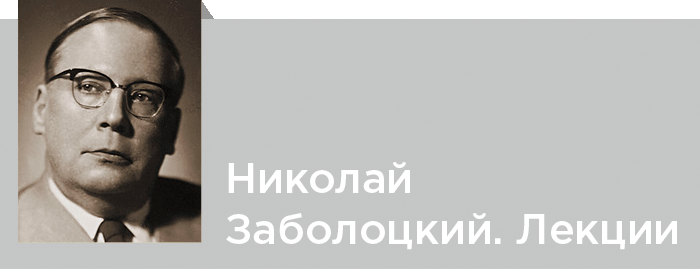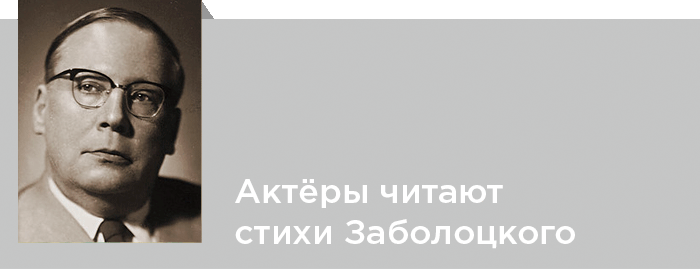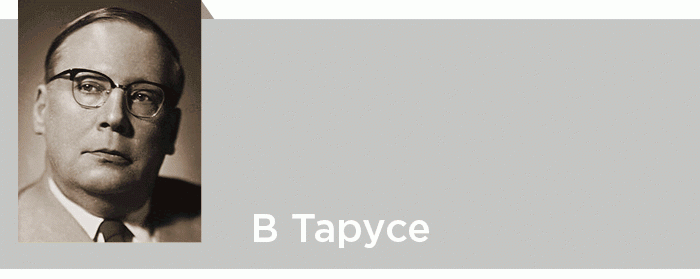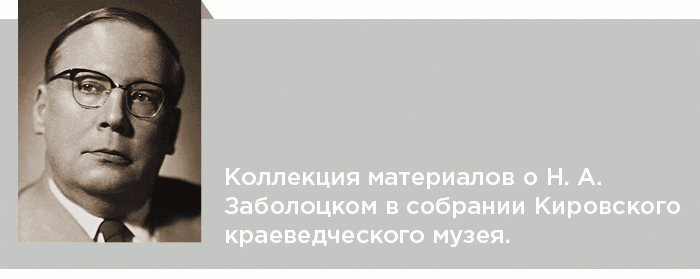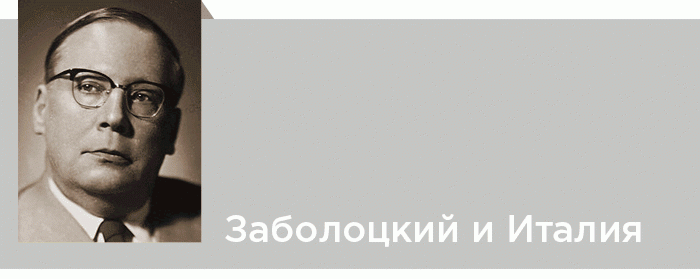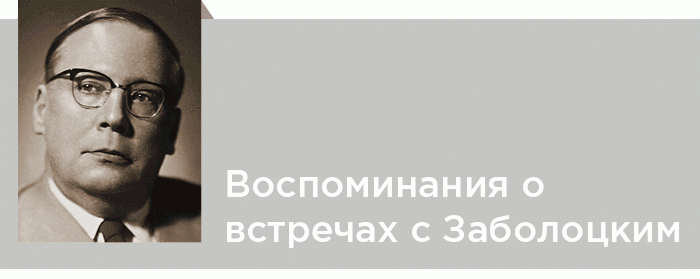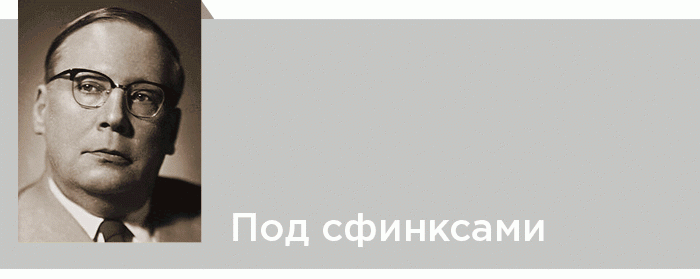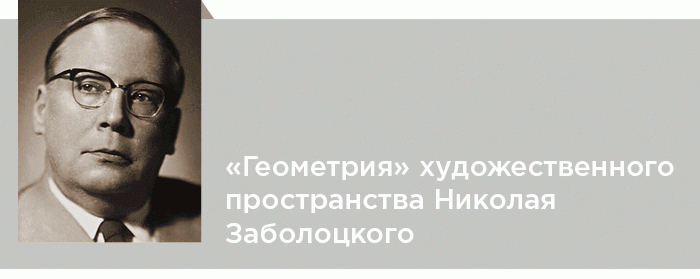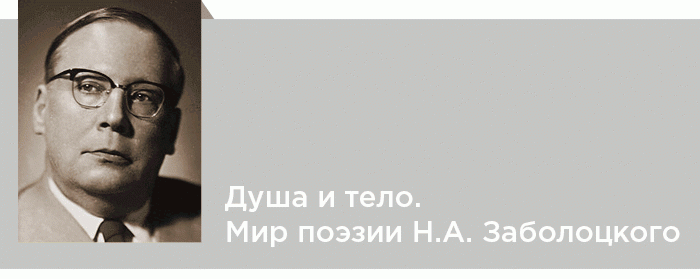Заболоцкий - в традиции
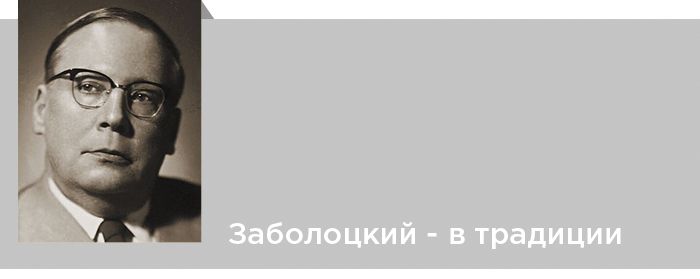
Инна Ростовцева
(Москва)
Из всех 100-летий великих поэтов XX века, случившихся на наших глазах, быть может, труднее всего поверить в столетие Заболоцкого. Ибо это — самый молодой классик. И превращение его в классика столь же странно и удивительно, что нам остается только последовать совету Шекспира: «Это странно / Как странника прими в свое жилище».
Заболоцкий принят в жилище русской поэзии на правах классика.
Наиболее проницательным современникам это было ясно уже при жизни поэта. Об этом свидетельствует письмо К.И. Чуковского к Н.А. Заболоцкому от 5 июня1957 года, написанное за год до смерти автора «Некрасивой девочки». В нем, в частности, говорилось: «Пишу Вам с той почтительной робостью, с какой писал бы Тютчеву или Державину. Для меня нет никакого сомнения, что автор «Журавлей», «Лебедя», «Неудачника», «Актрисы», «Утра», «Человеческих лиц», «Лесного озера», «Слепого», «Ходоков», «Некрасивой девочки» — подлинно великий поэт, творчеством которого рано или поздно советской культуре (может быть, даже против воли) придется гордиться как одним из высочайших своих достижений».
В этом свидетельстве К. Чуковского для нас важны три момента:
1. Осознание того, что Заболоцкий не просто находится в традиции Державин — Тютчев, но сам является звеном этой традиции. У К. Чуковского было то же ощущение, что и у самого Заболоцкого, когда он писал, что «Баратынский и Тютчев восполнили в русской поэзии XIX века то, что так недоставало Пушкину и что с такой чудесной силой проявилось в Гёте» (в письме к Е.В. Заболоцкой).
2. «Рано или поздно». Рано. За 50 лет посмертной жизни Заболоцкий получил стремительное признание и окончательное превращение в классика.
3. «Советская культура, может быть, даже против воли». В 60—80-е годы XX века в недрах незыблемой еще советской литературы началось интенсивное осмысление Заболоцкого. Говорится: время работало на поэта. Но есть и конкретные силы, слагаемые человеческого фактора времени; это — критика (необходим сборник статей «Заболоцкий — в критике: 50 лет», который мог бы со всей отчетливостью показать, сколь много сделала критическая мысль для понимания феномена поэта); это — читатель (хорошо бы собрать уникальные читательские свидетельства, разбросанные по частным письмам и архивам); и, наконец, это — современная поэзия, в которой Заболоцкий остается — без хрестоматийной позолоты — на сегодняшний день самым живым, востребованным автором.
***
И все же... Если мы признаем, говорим, что существует художественный мир Заболоцкого, то, следовательно, есть и внутри него самодостаточные силы, которые, действуя по своим особым принципам и законам, работали во времени, способствуя превращению поэта в классика.
Как ведет себя Традиция в мире Заболоцкого? Как вел себя Заболоцкий в отношении Традиции?
Замечена связь Заболоцкого именно с системой «притоков», с так называемыми «второстепенными» фигурами в русской классической поэзии. Так, Н. Тихонов называет имя поэта-сатирика XVIII века Нахимова, Н. Степанов — сатирическую оду Г. Державина, А. Турков — в связи с «Торжеством Земледелия» — ироикомические поэмы В. Майкова.
Речь идет, как правило, о влияниях. Между тем надо говорить о новаторском характере взаимоотношения поэта с традицией. Заболоцкий поддерживает в традиции то, что в силу тех или иных исторических причин могло закрепиться, удержаться в творчестве прошлого поэта, где он как бы нарушал собственную традицию, разламывал ее, изменяя порой даже собственное представление о себе.. И в этом смысле автор «Столбцов», «Торжества Земледелия», «Лодейникова» питал свое новаторство ферментами, реально существовавшими в традиции.
В своей книге «Мир Заболоцкого»1 в главе «Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок...» (Заболоцкий в традиции) я показываю это на примерах Г. Державина и К. Случевского. Почему в Заболоцком «закрепился» ген Державина, Случевского — это момент избирательный или случайный?
Д. Лихачев в статье «Будущее литературы как предмет изучения» выделяет в литературном развитии секторы необходимости и свободы. Необходимость — это закономерности историко-литературного развития, Свобода — это предоставление литературой возможности творческого выбора среди этих традиционных средств, тем и идей и возможности создания новых.
Заболоцкий пошел по второму пути и широко пользовался возможностями свободного выбора. Поэтому в свете Заболоцкого по-новому выглядят для нас сегодня не только Державин и Случевский, но и Е. Баратынский, В. Бенедиктов, Я. Полонский, А.К. Толстой — они не без помощи автора «Столбцов» меняют свой масштаб «второстепенных» — на самобытных, значительных, крупных; с другой стороны, уловленный ими, Заболоцкий как бы сам претерпевает мутации, обнаруживая новые — гротескные, иронические, элегические — грани своей художественной индивидуальности.
Прав И. Шайтанов, прозорливо заметивший в давней статье «В согласии и споре»2 : «Традиция — это... процесс двусторонний, не монолог, когда один говорит, а второй почтительно внимает и усваивает, а диалог, в котором по-новому выглядит и тот, кто оказывает влияние, и тот, кто воспринимает».
Заболоцкий никогда не занимался реставрацией русской классической традиции, ее «воскрешением», воссозданием по мертвым гипсовым слепкам и муляжам, что выпало на долю его современника Бориса Божнева (1898—1969) — одного из талантливых поэтов русской эмиграции, «единственного мастера» среди молодых парижан, самого опытного и взыскательного у них», по оценке Г. Адамовича. Творческий путь, пройденный Божневым по ту сторону берега, в какой-то мере напоминает путь Заболоцкого — просматриваются определенные аналогии.
Так, первый поэтический сборник Божнева носил вызывающее название «Борьба за несуществованье» (Париж, 1925) и сопровождался, как и выход «Столбцов» Заболоцкого, скандалом в литературной среде русской эмиграции. Стихи Божнева, по свидетельству критики, поражали резким контрастом между классически ясной и строгой формой и безоглядным «новаторством» разномастных авангардистов, шокирующим содержанием, в значительной степени определявшимся эстетикой безобразного. Обращали на себя внимание деэстетизация поэтического языка, откровенный эротизм, эпатирующее снижение высоких тем и образов:
Я не люблю оранжереи,
Где за потеющим стеклом
Растенье каждое, жирея,
Зеленым салом затекло.
И, к грядкам приникая ближе,
Цветов прожорливые рты,
Навозную вбирают жижу
В извилистые животы...3
Реакция высоконравственной эмигрантской критики на первую книгу Божнева («грязная порнография», «безликая розановщина», «писсуарная поэзия») была сродни реакции официозной советской печати на «Столбцы», о чем свидетельствует сам Заболоцкий в письме к М.И Касьянову от 10.IX.1932:: «...книжка («Столбцы». — И.Р.) вызвала в литературе порядочный скандал, и я был причислен к лику нечестивых. Если интересуешься этим делом — просмотри статью Селивановского «Система кошек» в журнале «На лит. посту» за 1929 г., № 15, и статью (совершенно похабную) Незнамова «Система девок», в «Печать и революция», 1930 г., № 4, и статью Горелова «Распад сознания» в журнале «Стройка» за 1930 г., № 1. Это наиболее характерное из того, что писалось о моей книжке».
Г. Адамович, назвав мир Божнева «печальным и убогим», вместе с тем отметил безукоризненное формальное мастерство, боль поэта за печальное несовершенство мира и бессмысленность человеческого существования.
Однако в дальнейшем Божнев, как и Заболоцкий, отходит от своей первой книги и совершает поворот в сторону «неоклассицизма», который заставил современников возвести его литературную генеалогию к метафизической линии в русской лирике XIX века, к Баратынскому и Тютчеву, воспринятым поверх и независимо от посредничества символистов и акмеистов. Так написаны книги «Фонтан» (Париж, 1927) — лирический цикл со сквозным образом фонтана, восходящим к стихотворению Тютчева «Фонтан» (книга вызвала похвалу Набокова), «Саннодержавие. Четверостишия о снеге» (1939), поэмы «Утешенность разрушения» (1939) и «Элегия эллическая» (1940).
В отличие от Заболоцкого, наполнившего традицию острой современностью, Божнев, находясь вдали от родины, искал «утешенности» в прошлом, в разрушенной традиции русской классической литературы, но ее не было. И не могло быть — отсюда безжизненность его красивых, отточенных стихов, стремящихся возродить былую гармонию. Вот типичный образец: «Сколь гармонически над ухом // Природы вьется и звенит, / Что звонко блещущая муха, / Струя, летящая в зенит... // Она чарует слух Природы, // Не преставая день и ночь, / И длань восточного народа / Ее не отгоняет прочь...».
Это — воспоминание воспоминания. Когда Божнев пытается в «Элегии эллической» — с оглядкой на элегию Баратынского — воспроизвести, «сосчитать» мгновенья прошлого — в природе и любви, — то поэтический язык его, воспроизводящий «лобзания любви», «упоительную чашу», «мраморные уста», «выпуклую глубину» и т.д., отдает архаичной мертвенностью, а традиция напоминает «платья гармонический комок», который «лежит как бы на берегу потока» — бурного потока современного мира, раздираемого противоречиями, расколом, трагическими событиями XX века, оставшегося вне поля зрения автора...
Если с традицией Тютчева Божнев еще договаривается на языке краткого, выразительного, отточенного стиха, то с традицией Баратынского — в жанре элегии — он терпит фиаско.
Это становится особенно очевидно, когда постигаешь, сколь своеобразно, диалектично, новаторски подходил Заболоцкий к традиции Баратынского.
Баратынский сопровождал поэта на всем протяжении творческого пути, в разные периоды жизни становясь участником полноправного диалога — остросовременного и метафизического одновременно.
В 30-е годы, строя свою натурфилософию, Заболоцкий обращается к Баратынскому, как бы перенимая, перехватывая его «вопросы» к мирозданию, стремясь отыскать на них свои ответы (так, к примеру, его «Вопросы к морю» — через 100 лет — «продолжают» последнюю строфу стихотворения Баратынского «Последний поэт», 1835 г.).
Одновременно поэт пробует себя в жанре элегии, связывая его наивысшие достижения — опять же — с именем и традицией Баратынского. Заболоцкий опирается на нее как прежде всего на традицию, разгадывающую смысл и цель существования (и — несуществованья) человека на земле. Он страстно спорит с классиком XIX века, романтиком и «дуалистом», по поводу жизни и смерти, личного бессмертия в таких элегиях, как «Вчера, о смерти размышляя...» (1936), «Бессмертие» (1937). (См. об этом в моей книге «Мир Заболоцкого»4).
Во второй половине 40-х годов Заболоцкий вновь — после пережитого им в заключении и ссылке — возвращается к Баратынскому. О том, что значил для него этот поэт, заново прочувствованный в тя-желейшие годы испытаний, свидетельствует письмо к Н.Л. Степанову от 4 февраля 1944 года из Михайловского Алтайского края: «Несколько лет путешествовала со мной твоя книжечка Баратынского, и я полюбил его и вместе с ним разлюбил многое, что любил когда-то так сильно»5.
Обращение к традиции теперь носит иной характер и преследует другую цель. Полемика, спор с натурфилософских позиций уступают место размышлению о реальной жизни, об искусстве, о назначении поэта, и в этом размышлении много трагизма и горечи: Заболоцкий идет «в ученики к Баратынскому и отчасти В. Бенедиктову, автору «Скорби поэта» (1835 г.), разделяя их сомнения, сопереживая утраченным иллюзиям.
Редчайший случай в истории русской поэзии: книга «Сумерки» (1842) Баратынского не просто прочитана, а как бы целиком растворена в художественном составе поэзии Заболоцкого 40—50-х годов, став книгой в книге отражений. Достаточно только сопоставить стихотворение Баратынского «Что за звуки? Мимоходом...» (1847) и «Слепого» (1946) Заболоцкого, чтобы ощутить всю глубину и родство в понимании поэтами классической проблемы творца, художника — избранника божьего, нищего слепца, а не «вещателя общих дум...»
По свидетельству современников, в молодости Заболоцкий особенно любил цитировать строки из «Пироскафа» Баратынского: «Много земель я оставил за мною. / Вынес я много смятенной душою / Радостей ложных, истинных зол; / Много мятежных решил я вопросов, / Прежде чем руки марсельских матросов / Подняли якорь, надежды символ!»
«Мятежные вопросы» — и не только общественно-социального, но и личного характера, с особой остротой встали перед поэтом в конце жизни, когда он «страстное земное перешел» — переживал свою «последнюю любовь». Здесь он впервые — не без посредничества Баратынского — встречается с традицией И.Бунина, который числил автора «Сумерек» своим любимым поэтом, написал о нем статью «Е.А. Баратынский» и дал по строке Баратынского название одному из своих рассказов — «Несрочная весна».
Есть свидетельство Г. Маргвелашвили, как Заболоцкий — страстно и пристрастно — в кругу друзей читал бунинский рассказ «Ида». Для него как художника, начинавшего с эпоса, поэм, «Столбцов» и «Смешанных столбцов», занятого миром больше, чем своим «Я», представляло определенные трудности выражение автобиографии, личного опыта, сокровенных чувств. Он не мог опуститься ни до привычного банального пересказа любовного сюжета, ни до узнаваемости своего «Я». Он оставался верен своим художественным принципам и бунинскому пониманию художественного как пластического: не случайно формула MOM, им исповедуемая, — это синтез Мысли, Образа и Музыки.
Заболоцкий нашел свои глубоко индивидуальные символы — такие, как «Журавли», «Чертополох», «Можжевеловый куст», «Березовая роща», в которых мерцает глубина трагического мира страстей человеческих — вспомним образ-символ журавлей в рассказе Бунина «Руся». В бунинских описаниях природы — конкретно-чувственных, пластических, очеловеченных — уже «живет» Заболоцкий с его поэтикой метаморфоз, когда природа наделена всей телесной, чувственной жизнью человека. Вот пример из раннего рассказа Бунина: «...глядел на бледное человеческое лицо месяца...» ("Новый год").
Лирика XX века не знала до Заболоцкого таких самостоятельных, индивидуальных, обобщенных смыслов символа (о «Чертополохе» сказано: «Это тоже образ мирозданья, организм, сплетенный из лучей...»).
Точнее будет сказать: поэт показал его скрытые возможности. Вероятно, не без уроков, полученных в мире Заболоцкого, молодой поэт сегодня придает такое большое значение индивидуальному символу: «Вспышка индивидуального символа позволяет поэту не только вновь пережить свое прошлое как уже случившуюся судьбу, не только соединиться с собой — прежним и вырасти в новое качество, но и на мгновенье слиться с космосом, ощутить его невиданную структуру. На том уровне глубины, на котором поэт обнаруживает свои символы, ни проблемы выбора образов, ни дилеммы «новаторство» — «традиционность» не существует»6. Существует искусство слова. Художественность. То, что зовется «художественный мир».
***
Заболоцкий как никто востребован современной поэзией.
Можно утверждать, что современный поэт в своих самых смелых поисках и экспериментах не минует сегодня Заболоцкого: именно через его посредничество он ощущает родство и связь с традицией русской классической поэзии, с той ее «натурфилософской» ветвью, что соотносится в сознании читателей с именами Баратынского, Тютчева, Случевского.
Это хорошо показал И. Шайтанов в уже упоминавшейся нами статье «В согласии и споре». Наблюдая, как «ведет» себя традиция Тютчева в художественных текстах таких разных поэтов, как Н. Рубцов и Ю. Кузнецов, критик пришел к справедливому заключению, что в поэзии 60—70-х годов «тютчевская традиция часто воспринимается через Заболоцкого — теперь эти два имени оказываются рядом».
Жаль, что Шайтанов не добавил к этим именам и Алексея Прасолова. Находясь в 1962—1964 годах в заключении, он впервые познакомился с поэзией Заболоцкого по 4-му, последнему прижизненному изданию его стихов (М., Гослитиздат, 1957) и поделился своими размышлениями о ней в письме к автору этих строк от 23.VIII.1963 г. В письме, в частности, говорится: «О Заболоцком. Пробежал сначала весь сборник, чтобы схватить в целом. Теперь — медленно, «со вкусом». Он не настолько цельный, как я представлял. Ищу Заболоцкого в Заболоцком. Сразу наметились вехи — лучшие стихи. Избегаю «Птичий двор», «Одинокий дуб» и им подобные. Они здесь случайность. «Журавли», «Любите живопись, поэты» — мои. «Некрасивая девочка» — одно из лучших. Но тяжеловата первая часть». И в заключение — признание: «В общем, дай Бог побольше мне в жизни таких учебников, как книга Заболоцкого. Здесь учишься и мудрости, и совершенству, и видишь чужую слабость»7.
Да не покажется это нескромностью: Прасолов прилежно учился по «учебнику» — Заболоцкий, и следы влияния мастера отчетливо видны в таких его стихах, как «Сюда не сходит ветер горный...», «Я услышал, корявое дерево пело...», «В закрытую наглухо дверь...», определивших «лицо» первой книги «День и ночь» (Воронеж, 1966), название которой прямо указует на выбор и приверженность тютчевской традиции. Опираясь на нее, подлинные поэты тех лет, спасаясь от ложных мифов современности — политизированной и декларативной — торили свой самобытный путь в искусстве...
Когда критик В. Бондаренко в статье «Русская душа, зацепившаяся за корягу»8, пытаясь якобы защитить жизненность стихов Анатолия Передреева (как будто кто-то ее ставит под сомнение: вот классический пример мнимой, ложной, надуманной проблемы, коим несть числа в нашей критике), риторически-крикливо вопрошает: «Разве даже трагичнейший и автобиографичный «Лебедь у дороги» списан у Тютчева и Фета? Не рано ли записали Анатолия Передреева в книжные классицисты», то вызывает удивление, что традиция понимается здесь как нечто отжившее, архаическое, книжное, а следование ей — равноценно для поэта оскоплению себя, лишению живых, полноценных, творческих потенций.
Мы знаем, что это не так. Точно так же, как и то, что «Лебедь у дороги» А. Передреева — не «списан», а написан после «Лебеди в зоопарке» (1948) Н. Заболоцкого, и это — существенная поправка, ибо именно через посредничество последнего Передреев выходит на встречу с традицией Тютчева и Фета, оказавшейся для него столь плодотворной...
Но это — тема отдельной статьи.
Можно говорить о постзаболоцком периоде в истории русской поэзии — 60—80 и 90-е годы XX века и начало XXI.
Заболоцкий входит в самую что ни на есть современность. Некоторые из участников дискуссии, проведенной журналом НЛО на тему «Концепт современности в истории культуры и гуманитарных наук» (3—5 апреля 2003 г.), предложили определять современность через вечную « культурообразующую маргинальность» или решать понятие современного в пользу актуального. Если принять во внимание это определение, то можно увидеть, что поэзия Заболоцкого оказалась востребованной многими известными маргинальными авторами, такими, как С. Стратановский, Э. Лимонов.
Дмитрий Бобышев, говоря о книге Стратановского «Рядом с Чечней»9, отмечает, что его «лирический герой ведет свое происхождение от философствующего мужика из «Торжества Земледелия» Заболоцкого. Это — отнюдь не автор, а одна из его иронических масок» («Арион»,№ 1,2003).
Эдуард Лимонов в цикле стихотворений «И сильный был в Саратове замучен...» также опирается на поэтику Заболоцкого, в частности «Столбцов», когда пишет городской, обезличенный, бездушный мир: «Фабрика слепая / глядит на мир, узоры выполняя / своим огромным дымовым хвостом». А в стихотворении «И все провинциальные поэты / Уходят в годы бреды Леты / Расстегнуты легко их пиджаки / Завернуты глаза за край рассвета...» неожиданно «выныривает» интонация Заболоцкого «Прощания с друзьями» (1952).
Кстати, оно оказалось особенно чутко прочитанным современными авторами. Очевидно, не без его влияния Иван Жданов создал один из лучших своих лирических шедевров «Область неразменного владенья...» (Памяти сестры).
Петербургский поэт Елена Шварц, когда пишет о родном городе Петрограде — Ленинграде10, не в силах противостоять магии «Белой ночи» Заболоцкого — магии алогизма, мистификаций и метафорических превращений:
За рыжею занавеской
Ночами не спит швея.
Отложит иглу и смотрит.
И ночь в нее смотрит. Ночь — я.
А за углом там трое брюсовых
В чугунных черных пиджаках
Собрались для черной мессы,
А черный маг застыл в дверях.
Ночь перебирает четки окон —
Совсем уж темных окон нет.
И только демон и голубка
Пьют чайный свет с крутых карнизов.
Михаил Симонов из Омска, автор книги «Часы и окна» (Омск, 2002), создавая свое поэтическое пространство, включающее географический меридиан: Венеция — Омск — Санкт-Петербург, строит свой «Обводный канал» и «Василеостровский», сводя вместе Заболоцкого и Бродского, традицию «Столбцов» и английского сентиментального путешествия: «И вещи застынут, как те острова», или «Жизнь на нуле» («перевелась почти, как стрелки / на местный пояс, замерла», или шалман под зимним петербургским небом: «Оно клубилось, если открывал / входивший дверь заветного шалмана, / и таяло, окутывая зал, / и скатывалось мне на дно стакана»: как это близко отстоит от «Вечернего бара», где «в бокале плавало окно».
Следы присутствия Заболоцкого в современной поэзии свежи, многообразны, интересны: то это — цитата без кавычек, свободно вкрапленная в стихотворный текст, как «Целует девку Иванов» у А. Вознесенского11 ; то как бы отвечающее вынесенным в эпиграф строкам поэта «Спой мне, иволга, песню пустынную...» стихотворение Яна Гольцмана «Пустынные песни, поются они неспроста...»12; то прихотливо отраженные «на донышке совиного зрачка» осколки натурфилософских идей Заболоцкого, «природности» человека: «Ужат в зрачке и мал, как жук, / в совиной зале я лежу», как это происходит в «Божественной комедии» у С. Шаргунова13.
Что осталось невостребованным современной поэзией XXI века в опыте Заболоцкого?
1. Интерес к науке и построение художественного мира в тесном взаимодействии с высшими достижениями научной мысли, это дерзкое, «фаустовское» начало: «...и все-таки никогда пусть не определяют и не ограничивают, насколько далеко и насколько глубоко способен человеческий ум проникать в свои тайны и тайны мира» (Гёте). Соединение строгого исследователя-экспериментатора, познающего тайны мира, с интуицией и даром художника — особая, неповторимая, неразгаданная сторона заболоцкой индивидуальности.
Сегодня происходят такие важные научные открытия: генная инженерия, клонирование человека, проникновение в глубинные тайны материи, Космоса, звезд, обнаружение «космической струны», например, а в современной поэзии нет даже следов «соприкосновения» художественной мысли с научной. Это обедняет ее возможности.
2. Интерес позднего Заболоцкого к жанровым сценкам жизни, зарисовкам с натуры: наблюдение, анализ, извлечение нравственных уроков из «людских страстей, простых и грубых», и главный из них: «Бесконечно людское терпенье,/ Если в сердце не гаснет любовь».
3. Зашифрованность личного автобиографического опыта в пластической художественной форме, когда «Я» поэта целомудренно обережено и недоступно пошлому разглядыванию и «перемигиванию» со стороны читателя, оставаясь в рамках высокой традиции культуры: «Вечно светит лишь сердце поэта / В целомудренной бездне стиха». «Лицо» стиха спокойно, а не кривляется в угоду публике. Но эти спокойствие и выдержанность не имеют ничего общего с тем постобэриутством, которое заполонило литературу конца XX — начала XXI века.
По свидетельству современного писателя, «мы пришли — правда, совсем с иной стороны — к лозунгу обэриутов: «Искусство — это шкаф». Шкаф — есть бездушный предмет, все, что угодно, не тайна, не любовь, не истина. Обэриуты имели в виду совсем другой смысл, но я сейчас, в начале XXI века, повторяю этот афоризм буквально. Наступает новая дегуманизация. Бездушное общество требует бездушных истин»14.
У тревоги писателя есть основания, и здесь Заболоцкий, за которым стоит традиция трех веков — XVIII, XIX и XX, («Мысль трех веков горит огнем») и который создал свою традицию в поэзии, участвуя в стратегии обновления русской литературы XXI века, — выступает как мощное противоядие против дегуманизации искусства.
Он учит, предостерегает, оберегает: его художественный мир открыт каждому, душа которого заждалась истины, красоты и совершенства.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ростовцева И. Мир Заболоцкого. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ. Изд-во «Высшая школа», 2003. С. 104.
2 Шайтанов И. В согласии и споре // «Литературная учеба», 1979, № 2.
3 Божнев Б. Элегия эллическая. Избранные стихотворения. Томск: Водолей, 2000.
4 Ростовцева И. Мир Заболоцкого. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ. Изд-во «Высшая школа», 2003. С.34-5.
5 Заболоцкий Н.А. Собр. соч.: В 3-х тт. — Т. 3. М.: Художественная литература, 1983. С. 338.
6 Кузнецова И. Комната с открытым окном / «Арион». № 1, 2003.
7 Прасолов А.Т. Я встретил ночь твою. Роман в письмах. Сост., предисловие и примечания И.И. Ростовцевой. М.: Издательский двор «Хроникер», 2003. С. 245-246.
8 Бондаренко В. Русская душа, зацепившаяся за корягу / «Литературная Россия», № 12, 2003.
9 Стратановский С. Рядом с Чечней. Новые стихотворения. Пушкинский фонд, 2002.
10 Шварц Е. Течение года / ЛГ. № 10, 2003.
11 Возненсенский А. // «Знамя», № 2, 2003.
12 Гольцман Я. По воде земной. Стихотворения. Проза. Переводы с грузинского. М.: Предлог, 2002.
13 Шаргунов С. На донышке совиного зрачка / «Арион», № 1, 2003.
14 Радов Е. // Exlibris «НГ», 23 января 2003.