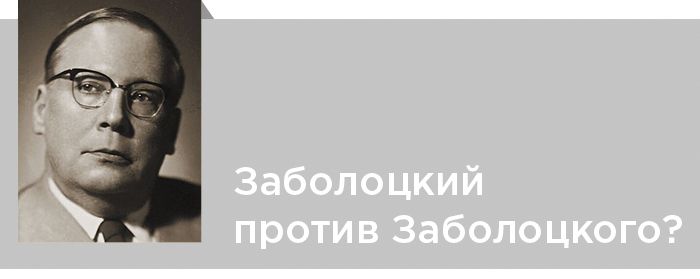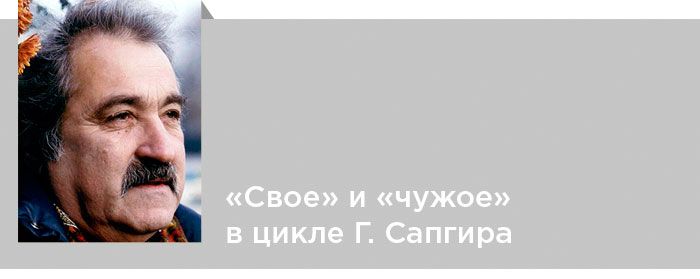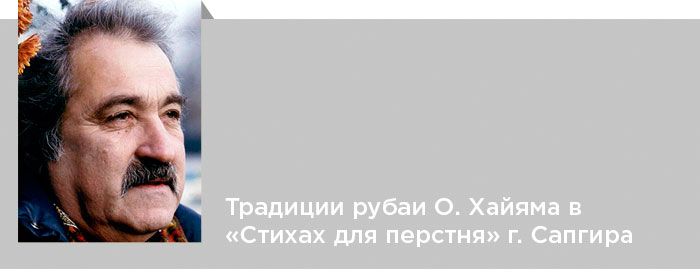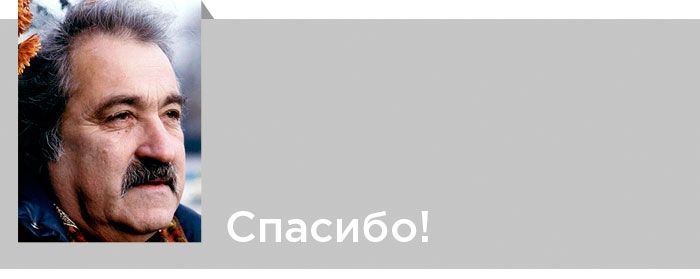Эффект «Киноглаза» («Глаза-кинокамеры») в поэзии Генриха Сапгира

УДК 82.0:801.6
С. Л. Константинова
Кинематографичность как одна из составляющих поэтики Г. Сапгира рассматривается сквозь призму обращения к приему «киноглаза» («глаза-кинокамеры»), прослеживаемого на протяжении всего творчества поэта. Исследование функциональности производимого приемом эффекта – от первой поэтической книги «Голоса» до текстов 1980-х – второй половины 1990-х годов – свидетельствует об определенных трансформациях авторского взгляда, движущегося от объективно обусловленной отстранённости к взгляду субъективированному.
Ключевые слова: кинематографичность текста, эффект «глаза-кинокамеры», авторский взгляд, функциональность приема, кадровое построение текста.
S. L. Konstantinova
THE «EYE – МOVIE CAMERA» EFFECT IN THE GENRIKH SAPGIR’S POETRY
The author of this work examines the “cinematicalness” phenomenon (one of the components of G. Sapgir’s poetry) with the reference to the “eye – movie camera” method that can be traced throughout all the creativity period of the poet. The functional effect produced by this method (starting from the rst poetic book "Voices" to the texts of 80’s and late 90’s) proves certain transformations of the poet’s insight moving from objectively caused dispassionateness to an subjective sight.
Key words: the “cinematicalness” ( lm-makability) of the text, the “eye – movie camera” effect, author’s insight, functionality of the method, frame text structure.
Кинематографическое, иначе – «кадровое», мышление характерно практически для всех периодов поэтического творчества Г. Сапгира и, в том числе, для его прозы. При этом специфика функционирования и семантическая наполненность кадрового построения текста и действующего в рамках его структуры эффекта «киноглаза» (Вертов, 1966), или «глаза-кинокамеры» (Шраер, 2004, с. 45), всякий раз ставится автором в прямую зависимость от замысла книги (поэтического цикла) и всякий раз – от книги к книге – прочитывается по-новому[1].
Несколько предварительных замечаний об используемом в данном случае термине – «киноглаз», или «глаз-кинокамера». Теория «киноглаза», сформулированная и активно разрабатываемая в 1920–е годы известным кинодокументалистом Дзигой Вертовым[2], одним из первых применившим метод «скрытой камеры», рассматривает «использование киноаппарата как киноглаза, более совершенного, чем глаз человеческий, для исследования хаоса зрительных явлений, наполняющих пространство». «Киноглаз, – пишет Дзига Вертов, – живет и движется во времени и в пространстве, воспринимает и фиксирует впечатления совсем не как человеческий, а по-другому» (Вертов, 1966, с. 53). Иными словами, «“киноглаз” – это документальная кинорасшифровка видимого, а также невидимого невооруженным человеческим глазом мира» (Вертов, 1966, с. 112).
Для того чтобы показать, какое отношение «киноглаз» Вертова имеет к творчеству Г. Сапгира, обратимся к ряду текстов, где установка на кинематографичность выступает в качестве одного из ведущих принципов, определяющих специфику авторского целеполагания.
В литературоведении уже отмечался тот факт, что в первой книге Сапгира «Голоса» (1958–1962) акцент сделан, во-первых, на звучащем и, во-вторых, что особенно важно в данном случае, на нарративно организованном слове. В частности, об «…эпизации лирического повествования с помощью насыщения его нарративным элементом…» пишет Ю. Б. Орлицкий (Орлицкий, 2003, с. 161). Разные голоса звучат в книге Сапгира либо сами по себе, за рамками нарративно организованного текстового пространства: «Вон там убили человека…», «Ночь» («Уберите, уберите нож…»), либо (и чаще всего) в нарративно организованном тексте, который может быть представлен в виде системы сменяющих друг друга кадров, лишенных прямого авторского комментария. Целый ряд стихотворений книги – «Потоп», «Смерть дезертира», «Провинциальные похороны», «Два поэта», «Шляпа и кролики», «Маневры», «Герострат», «Бутылочный пейзаж», «Бык», «Боров», «Иван и диван», «Солдаты и русалки», «Солдаты на отдыхе», «Утро Игоря Холина» и другие – строится именно таким образом. Изображаемый, точнее, фиксируемый мир – его событие, некая история – представлен в данном случае как предельно зримый, но воспринятый извне, дистанцированно. Он как бы выводится из сознания повествователя (субъекта высказывания), освобождаясь от субъективности и оставаясь в своем объективном, внеличном облике. Как пишет Я. Пробштейн, «многие стихи Сапгира воспринимаются именно как действо, автор показывает или рассказывает, не смешиваясь при этом ни с событиями, ни с персонажами, отделяя свой голос от их голосов, а себя от происходящего» (Пробштейн, 2003, с. 185).
В качестве примера приведу лишь начальные строки некоторых текстов, условно выделяя в них фиксируемые поэтом предметы и действия, дискретность которых обнаруживает определенное сходство с характерной для кинематографа сменой общих и крупных планов:
Распахнулись окна. Ветер
Раздувает простыни,
По волнам несет кровати,
Ударяет их о стены.
Вопли! Стоны!
Все матросы –
Альбатросы,
Стали сами
Парусами –
Сносит их от пристани,
По морю скачут шлюпки,
А в них гребут обрубки.
Маски их раскрашены,
Моськи все расквашены.
<…>
(«Потоп») (Сапгир, 2008, с. 23–24)
– Дезертир?
Отстал от части.
– Расстрелять его на месте.
(Растерзать его на части!)
Куст,
Обрыв, река,
Мост
И в солнце облака.
Запрокинутые лица
Конвоиров,
Офицера.
Там
Воздушный пируэт –
Самолет пикирует.
Бомба массою стекла
Воздух рассекла
УДАР.............
<…> («Смерть дезертира») (Сапгир, 2008, с. 25–26)
На дороге
Волочится воловья шкура.
В овраге
Лежит ободранная туша,
Ноги кверху задраны,
На осине голова.
Глазеет бритая сова.
К реке идет Сапгир и Холин.
Смеется филин
Над простофилями.
Овечья шкура удаляется,
Под ней лопатки
Выделяются,
Четыре палки
Передвигаются.
<…>
(«Два поэта») (Сапгир, 2008, с. 42)
Сосредоточиваясь преимущественно на внешнем действии, зримом состоянии персонажей, их репликах, нелепых деталях, в том числе и пейзажных, автор, с одной стороны, полностью устраняется, а с другой – смотрит в упор, крупным планом фиксируя некую сиюминутную (часто алогичную в своей основе) данность и плоскостную (заданную границами фиксируемого «киноглазом» кадра) прямолинейность.
Такой способ выстраивания четкого, последовательно реализуемого визуального ряда в определенной степени оказывается близок к кинематографической технике, описанной в целом ряде работ документалиста Дзиги Вертова: «…Заставляю зрителя видеть так, как выгоднее всего мне показалось то или иное явление. Глаз подчиняется воле киноаппарата и направляется им на те последовательные моменты действия, какие кратчайшим и наиболее ярким путем приводят кинофразу на вершину или на дно разрешения. <…>
Киноаппарат «таскает» глаза кинозрителя от ручек к ножкам, от ножек к глазкам и прочему в наивыгоднейшем порядке и организует частности в закономерный монтажный этюд» (Вертов, 1966, с. 54). В результате Вертов ставит своей целью не только яснее увидеть с помощью «киноглаза» мир, но и организовать увиденное в образ: «В путаницу жизни решительно входят: 1) киноглаз, оспаривающий зрительное представление о мире у человеческого глаза и предлагающий свое «вижу» и 2) кинок-монтажер, организующий впервые так увиденные минуты жизнестроения» (Вертов, 1966, с. 58).
С «киноглазом» Вертов связывал и второе важное звено своей теории документализма – программу съемки «жизни врасплох» (Вертов, 1966, с. 75). В статье «Рождение “киноглаза”» Вертов объясняет цель такой съемки: «Не «киноглаз» ради «киноглаза», а правда средствами и возможностями «киноглаза», то есть киноправда.
Не «съёмка врасплох» ради «съемки врасплох», а ради того, чтобы показать людей без маски, без грима, схватить их глазом аппарата в момент неигры, прочесть их обнаженные киноаппаратом мысли.
«Киноглаз» как возможность сделать невидимое видимым, неясное – ясным, скрытое – явным, замаскированное – открытым, игру – неигрой, неправду – правдой» (Вертов, 1966, с. 75).
С разработанной Вертовым теорией «съемки жизни врасплох» в определенной степени может быть соотнесена поэтическая стратегия «регистрации факта», реализованная не только в «Голосах» Сапгира, но и в ряде текстов других поэтов «лианозовской школы», в частности, Е. Кропивницкого и И. Холина. Именно эту особенность поэтики «лианозовцев» В. Кулаков называет регистрационным или протокольно-стенографическим стилем (Кулаков, 1999, с. 26). Раскрывая суть этого понятия, В. Кулаков приводит в качестве примера стихотворение Кропивницкого «Полночь. Шумно. Тротуар» (1938) и написанное в 50-х годах стихотворение Холина «Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы»:
Полночь. Шумно. Тротуар.
Пьянка. Ругань. Драка. Праздник.
Хрипы. Вопли. Безобразник
Едет в Ригу. Тротуар
Весь в движении. Угар
В головах шумит, проказник.
Полночь. Шумно. Тротуар.
Пьянка. Ругань. Драка. Праздник
***
Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы.
Сараи – могилы различного хлама.
Сияет небес голубых глубина.
Бараки. В бараках уют. Тишина.
Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны.
В обоях клопы. На столах тараканы.
Висят абажуры. Тускнеют плафоны.
Лежат на постелях ленивые жены.
Мужчины на службе. На кухнях старухи.
И вертятся всюду назойливо мухи.
Фиксируя конкретные факты, движения, детали, динамизируя развитие сюжета посредством смены общих и крупных планов, поэты добиваются эффекта, приближенного к эффекту документальной киносъемки – к тому, что Дзига Вертов называет «киновещью» (иначе – «…монтажное “вижу”») (Вертов, 1966, с. 71), или «кинофактом»: «Каждый заснятый без инсценировки миг, каждый отдельный кадр, снятый в жизни так, как он есть, скрытой съемкой, съемкой врасплох или другим аналогичным техническим способом, является зафиксированным на пленку фактом, кинофактом, как мы его называем» (Вертов, 1966, с. 87).
«Голоса» Сапгира, наследуя основные принципы регистрационности, заданные в стихах Кропивницкого и Холина, демонстрируют еще одну возможность «съемки жизни врасплох», проявленную в фиксации события не только «извне», но и «изнутри» (в зависимости от направленности «киноглаза», или «глаза-кинокамеры»). В стихотворении «Предпраздничная ночь» «глаз-кинокамера» не просто регистрирует конкретную историю путем расчленения мира на отрезки (кадры) и одновременного сочетания, связывания их друг с другом на уровне развертываемого сюжета, последовательного движения динамичных панорамных и замедленных крупных (выделены мною – С. К.) планов, но и воспроизводит реплики персонажей (разыгрывающиеся в их подсознании[3]), по своей функции, скорее, соответствующие не озвучанию, а титрам:
Пахнет пирогами. Тихо.
Прилегла и спит старуха.
Из-за ширмы вышел зять,
Наклонился что-то взять.
Мигом сын вскочил с постели
И стоит в одном белье –
Тело белеет.
Вдруг
Зять схватил утюг.
Хряк! –
Сына сбил с ног.
(Крикнуть порывалась,
Но пресекся голос,
Встал отдельно каждый волос!)
Зять глядит зловеще:
"А ну, теща, отдавай мои вещи!"
Надвигается на тещу –
И не зять, а дворник –
И не дворник, а пожарник.
За окном кричат: Пожар!
Запевает пьяный хор
В багровом отсвете пожара
За столом пируют гости.
Зять сидит на главном месте.
Рядом с ним соседка Вера
Хлопает стаканом водку.
Зять облапил, жмет соседку.
Целовать! Она не хочет,
Вырывается, хохочет.
Зять кричит: "Женюсь, ура!
А законную жену
Из квартиры выгоню
Или в гроб вгоню!"
Галдеж: "Давно пора!"
В комнате все жарче,
Ярче.
С треском лопнуло стекло.
Дымом все заволокло.
Лица,
Глаза, разинутые рты –
Все проваливается...
В солнце половина комнаты.
На столе блюдо -
Пирогов груда.
Сын стоит в одном белье.
Из-за ширмы вышел зять,
Наклонился что-то взять:
– Эх, погодка хороша!
– С праздником Вас, мамаша.
(Сапгир, 2008, с. 20–21)
Другое стихотворение книги – «Муж и жена» – демонстрирует несколько иную ситуацию. Перед читателем (слушателем, зрителем) разворачивается, правда, в полной темноте, кино звуковое, гротескно обыгрывающее чужие «голоса»:
– Абстракционизм, гав, гав!
– Мяу, милый, ты не прав.
– Рабин Оскар –
Экспрессионизм, кар, кар!
– Слыхали,
сюрреалиста Дали
распяли
на электрическом стуле...
– А Леже в музейном зале
растерзали
экскаваторы!
– Я же говорю,
что реализм, хрю, хрю... (Сапгир, 2008, с. 47)
Во второй части текста появившееся на экране изображение, фиксирующее лишь открывающуюся дверь, «незримое» появление Генриха и Риммы, тянущуюся к выключателю руку и спящую собаку, снова сменяется темнотой и звуками за кадром – баранье блеянье, реплики персонажей, скрежет стульев, аплодисменты, звон бокалов и колоколов, вопли экскурсовода:
В это время
двери отворяются,
незримо появляются
Генрих и Римма.
Генрих говорит: «Комната не та!
Что это за сборище
Спорящих товарищей?»
Римма говорит: «Это наша комната.
Тут один человек:
Наш пес Джек».
К выключателю – рука!
Однако
Спит собака.
"Потуши свет!"
"Слышишь, баранье блеянье?" –
Безупречное наше собранье...
премии –
безусловно, Академии!
Заскрежетали стульями,
аплодисменты, звон бокалов...
Ударили в колокола!
Бегут с кольями... –
Вышибай колом из рам
этот срам!
в окна, в двери
Экскурсовод вопит: "Горю!.."
– Реализм, хрю, хрю...
– Растерзали экскаваторы...
(Сапгир, 2008, с. 47–48)
Обращение к характерным для кинематографа способам визуализации сюжетной основы поэтического текста были характерны для экспериментальной книги А. Крученых «Говорящее кино»[4] (1928), в «Предисловии» к которой автор пишет: «В настоящей книжке я попытался свести Великого Немого с Великой Говоруньей – поэзией. Надо полагать, что им легко подружиться: кадр укладывается в стих и строфа становится эпизодом фильма. <…>
<…> Я уверен, что слово, как таковое, и видимость, как таковая, могут слиться в единый комплекс. И – кто знает – может быть этим начинается новый, небывалый род искусства» (Крученых, 2001, с. 425–426).
Из двадцати вошедших в книгу Крученых текстов три имеют подзаголовок «либретто» («Катька бумажный ранет», «Из комедий Гарри Ллойда», «Любовь втроем»), два – «отрывок сценария…» («Человек ниоткуда») или «заготовка сценария» («Баллада о фашисте»), семь обозначены как «кадр» («Три эпохи»), «кадры» («Наше гостеприимство», «Декабристы», «Любовь втроем», «Падение династии Романовых», «Солистка его величества») или «кадр лирический» («Жарночь в Москве»). Объясняя смысл подзаголовков, Крученых писал: «Подзаголовки стихов («либретто», «кадры») не должны смущать читателя: это, конечно, не те либретто, которые просматриваются на заседаниях художественного совета кино-фабрики, и не те кадры, которые засняты в кино-ателье. Это – дневник небеспристрастного кинозрителя или, если угодно – стихотворные рецензии, иной раз довольно смело обращающиеся с деталями» (Крученых, 2001, с. 426).
Вместе с тем, отдельные строки (строфы) действительно дают достаточно четкую раскадровку иронично пересказываемого фильма. Приведу лишь один пример. Стихотворение «Наше гостеприимство» (1923) пародийно, точнее, пародично (согласимся здесь с выводами Д. Давыдова[5]) обыгрывает американский фильм Б. Китона, вполне адекватно воспроизводя все необходимые элементы, заданные кинематографической структурой фильма-претекста:
Поезд –
задумчивая, дымная игрушка
тащит с трудом
пятерых
пассажиров –
через лес,
через ров,
по дороге теряя вагоны
и становясь втупик перед бревном.
И вот герой
в широкополой шляпе,
взлетевши вверх тормашками
опередивши паровоз, –
уже в именьи
почтенных родителей
подготовляемой невесты.
А там
в порыве
негостеприимства
(остатки мести родовой!)
его преследуют
из двери в дверь,
через балкон,
в стекло веранды.
И, наконец,
усталый как старинный паровоз,
Джон засыпает,
на мраморной скамейке
в уютном уголочке парка
с невинностью на личике.
А двое бравых мстителей
стоят за спинкою скамью,
впиваясь
взором ищейки
в горизонт,
готовы ринуться
по первому дыханью.
Но все их ухищренья
бессильны
перед кротостью героя
и водопадом
верности любовной…
Так мы следим
внимательно
за тем, что было
не ровно
девяносто лет назад.
(Крученых, 2001, с. 186–187)
Фиксирующие начало следующего предложения прописные буквы: «Поезд…», «И вот герой…», «А там…», «И, наконец…», «А двое бравых мстителей…» (в тексте выделены мною – С. К.) – выполняют функцию своеобразного маркера, делящего текст не только на подвергнутые монтажу кадры-фрагменты, сжимающие и убыстряющие ход времени, а вместе с ним сюжет фильма, но и фиксирующие перемену места действия. В финале «текста-фильма» (его описание выделено в вынесенную вправо отдельную строфу) раскадровка отсутствует по причине его полной предсказуемости: «кротость героя», как это и положено в любовной мелодраме, вознаграждается «водопадом верности любовной…».
В результате становится понятно, что Крученых называет кадрами компоненты фильма, концентрирующие в себе лишь переломные моменты в движении сюжета[6]. Нечто похожее мы находим и в сапгировских «Голосах». Так, характеризуя общность крученыховской и сапгировской книг, помимо множества параллелей «…как на уровне стиховых и языковых приемов <…>, так и на уровне структуры в целом: полиметрия стихотворений (от силлаботоники — через разные тонические формы — к свободному стиху); неравное количество иктов в разных строках; использование неточных, разноударных, тавтологических, ассонансных, диссонансных рифм; неурегулированное чередование рифмованных и нерифмованных строк, а также строк с разной мерой рифмической точности; использование игры слов, неологизмов-каламбуров, семантизированной деформации слов, просторечий, структурно значимой пунктуации (напр., многоточий, выполняющих “монтажную” роль) и т. д.» (Давыдов, 2009, с. 99), Д. Давыдов отмечает, в частности, и их общий «клиповый» строй[7].
Замечу при этом, что, в отличие от Крученых, акцентирующего внимание на элементах четко выстроенного (и потому, зачастую, предугадываемого) сценария, Сапгир фиксирует саму жизнь, или, говоря словами Вертова, «жизнь врасплох»: «…лучшее средство для этого – скрытое наблюдение, скрытая съёмка, аппарат-”невидимка”». В статье «Киноглаз» Вертов указывает, что фильмы «киноков» строятся не «пером литератора», а организацией самого жизненного материала. И далее, уточняя эту мысль, Вертов пишет о двух видах сценария и монтажа: один – для игрового фильма, другой – для документального. В первом случае производится склейка кадров по записанному сценарию, а во втором – монтаж понимается как организация «видимого мира» (Вертов, 1966, с. 97) – самой жизни. В стихотворении «Дионис», вошедшем в книгу «Московские мифы» (1970–1974), Сапгир даст словесный эквивалент такой организации «видимого мира», представив фрагмент монтажного листа в буквальном смысле, «как на экране»:
<…>
Уже – драка
Развернулась как на экране
(кадр)
Кто-то гонится за кем-то через площад(кадр)
Двое лупят парня в кожаной куртке
(кадр)
Лицо зашедшееся в крике
(кадр)
Человек в разорванном костюме
Шарит очки на асфальте
(кадр)
Один обливается кровью
А другой его поспешно уводит
(кадр)
Башмак давит очки с хрустом...
Завывает желтая машина
И мигает синей вертушкой
И за всем за этим наблюдает
Юноша с античной улыбкой
<…>
(Сапгир, 2008, с. 182)
Обнажая прием, делая фрагмент монтажного листа структурным элементом поэтического текста, Сапгир добивается эффекта еще более ясно обозначенной отстраненности, отдельности фиксируемой «сценки» и наблюдающего за происходящим «киноглаза», равного в данном случае как глазу «юноши с античной улыбкой», так и глазу монтирующего текст автора.
В поэтическом цикле «Этюды в манере Огарева и Полонского» (1987) элементы кинематографической эстетики[8] выполняют уже несколько иную функцию, позволяя реализоваться одному из ключевых приемов поэтики Сапгира, а именно, приему сдвига, «работающему» здесь как на уровне пространственно-временных смещений и совмещений, так и на уровне стилистических трансформаций. Не случайно мотивы «отсветов», «чужих отголосков», времени, «пронизывающего время», удвоений, снов, декораций так или иначе присутствует практически в каждом стихотворении. Приведу лишь один пример:
Опять на финских саночках тебя качу качу
и волосы кудрявые щекою щекочу
ты в муфте прячешь кроликов — я там и сам живу
полозья наши скрипнули со снега на траву
цветы такие нежные что кисея — внизу
давно по лесу летнему я саночки везу
твои глаза смеются: нет! — и губы как оса
а брови твои ласточкой ширяют в небеса
Ныряй сквозь солнце ласточка!
взгляни раскоса как
нас под медвежьей полостью
уносит прочь рысак
(платок из муфты вынутый нетерпеливо мнут)
мы до моста Елагина доскачем в пять минут
Зажглись электролампочки у Зимнего в саду
тебя из века вашего как прапор я краду.
(Сапгир, 2009, с. 294).
Зима и лето, век «наш» и век «ваш» (девятнадцатый) наслаиваются друг на друга, подобно наложенным один на другой кинокадрам, – один из характернейших для Сапгира приемов, особенно в его прозе. О подобного рода черте поэтики Сапгира говорилось уже не раз: «готовность смешивать миры», страсть к «ментальным путешествиям», «ныряние из жизни в жизнь». Данный цикл – еще одна попытка сместить пространство и время, уловить его «слоистость» и своеобразную повторяемость, «просвечиваемость»: «Всё» просвечивает сквозь «Всё» (о действии подобного рода приема в рассказах Г. Сапгира см.: Константинова, 2005, с. 149-156). Не случайно цикл завершается стихотворением, ключевым мотивом которого становится мотив кольца, вечно движущейся киноплёнки:
То достаю из прошлого то в настоящем прячу
то вырву кусок кинопленки из времени наудачу
а лучше всего твои лица склеить в виде кольца
и запустить на монтажном столе — пусть светится
без конца. (Сапгир, 2008, с. 300).
Характерная для кинематографа кадровая отчетливость, особенно ярко проявившаяся в стихотворениях «Снежный ветер дует с белизны залива…», «Ещё пел соловей в бледных зарослях мая…», «Будда — путник золотой стоял у храма…», а также кинематографическая слоистость, иначе, своеобразные кадровые напластования, позволяют не только визуализировать заложенный в цикле романный сюжет (в манере Огарева и Полонского)9, но и предельно сжать его, что естественным образом достигается при помощи монтажной склейки. Неслучайным в этом смысле кажется и жанровое определение, данное циклу, – «Этюды…», акцентирующее отчетливо проявленную в кинематографе, как синтетическом искусстве, живописную манеру – силуэт и линия, деталь говорят больше, чем подробное, развернутое описание.
Наглядным примером может служить стихотворение «Снежный ветер дует с белизны залива…», кинематографичность которого выражена достаточно явно. Каждая строка стихотворения может быть представлена в виде отдельного кадра: от фотографической конкретности панорамы (в двух первых строках) к целому ряду крупных планов и сцен:
Снежный ветер дует с белизны залива
рыбаки на льду чернеют сиротливо
Зябко — руки в рукава шинели прячу
и дышу в башлык — иду к нему на дачу
Долго буду там в углу снимать галоши
юной горничной шинель смущаясь брошу
К лампе — к людям — в разговор! «Хотите чаю?»
за чужой спиной себя на стуле замечаю
и рука с кольцом холеная хозяйки
чашку мне передает «Возьмите сайки»
Обыск был у Турсиных — все ли цело?
Все сидят наперечет люди дела
Маша теплится свечой — чистым счастьем
и на сердце горячо что причастен
(Сапгир, 2008, с. 291)
Причём выстраиваемый поэтом «видеоряд» может быть соотнесен с наброском (этюдом), а может быть и сценарием, отчетливо фиксирующим лишь ключевые детали, необходимые для реализации вполне законченного кино-эпизода. Примечательна здесь и субъектнообъектная организация текста, лирический герой которого – субъект действия – оказывается в какой-то момент вынесенным за его рамки. Герой – и субъект, и объект наблюдения, со стороны, «за чужой спиной» замечающий «себя на стуле», как раз и выполняет функцию «киноглаза», или «глаза-кинокамеры», смотрящего не только вокруг себя, но и на себя самого.
В поздних книгах Сапгира на смену раскадровке, фиксирующей систему последовательных действий движущихся персонажей, придут кадры статичные, запечатлевшие неподвижные (или чуть заметно движущиеся) предметы, тени, отсветы, что ощущается читателем как преднамеренная деформация приема. Движущимся окажется лишь взгляд наблюдателя, а вслед за ним и читателя. Происходит переход от системы кинокадров «Голосов», связанных между собой по-преимуществу внешним, нарративно организованным сюжетом, к системе фотокадров, точнее, к ассоциативно выстроенному «slide show», запечатлевшему смену мгновений, вызванных воспоминаниями, снами – всем тем, что принадлежит в большей степени к авторской сфере бес- или подсознательного. В качестве примера приведу стихотворение «Детство» с характерным подзаголовком «киностихи», вошедшее в первый цикл книги «Тактильные инструменты»[9] –«Предшествие словам (1989) (Дыхание ангела)»:
крашеная кровать – скелет динозавра
(ломает пальцы)
хотя и другую помню – станок для пыток
(хруст пальцев)
война – ржавое плетенье панцырной сетки
(высунутый язык)
страшное небо сквозь кружево креста
(ощерены черные зубы)
розовые иван-чаи выше головы
(закатываются глаза)
оса – жвальцами на липкий край стакана
(смотрит – выражение испуга)
крашеная кровать вымытый пол и высокие окна в тумане
(смотрит – выражение недоумения)
радужная пыль – треугольником в сумрак
(предостерегающе поднятый палец)
и кажется – забыли навсегда
(вздох облегчения).
(Сапгир, 2008, с. 694–695).
Если ранние «киностихи» Сапгира фиксируют смену кадров (сцен, эпизодов), строящихся на внешнем действии или зримом состоянии персонажа, группы персонажей, той или иной вещи, или, как это было у Холина, выстраивают систему дискретных картинок, тотальных по своей сути, из которых складывается картинка общая (у Холина – быт жителей барака), то «киностихи» 90-х годов решены в несколько иной киноэстетике. В стихотворении «Детство» авторский (взрослый) «глаз-кинокамера», с одной стороны, равен детскому взгляду, его переживанию прошлого, а с другой, – параллелен ему, смотрящему оттуда, из прошлого, из фиксируемого «киноглазом» кадра. Отсюда и рождается попытка передать сложное внутреннее состояние лирического героя (взрослого? или ребенка?), запечатленное в жесте, мимике и даже вздохе: «смотрит – выражение испуга», «смотрит – выражение недоумения», «вздох облегчения». Так выстраивается и особая, субъективированно авторская, система координат (деталей) переживаемого мира, прямо противопоставленная гротескно поданному набору персонажей, голосов, предметов ранней сапгировской книги.
Подобный прием характерен и для стихотворения «Тень осязания», вошедшего в эту же книгу («Тактильные инструменты», 1999):
(Твоя левая ладонь читает эти стихи. Все, что тебя окружает, лишь предлог и тема. Тема и вариации. Выбери тему своего стихотворения. Затем, не прикасаясь, медленно проведи над ней ладонью, следуя ее форме и объёму. Это не прикосновение, не осязание, это тень. Тень осязания. А если провести ладонью над тенью хотя бы своей, это будет тень осязания тени).
комната
угол комнаты
окно
распахнутое окно
дверь
раскрытая дверь
стол
уставленный чашками стол
газета
развернутая газета
женщина
спящая женщина
веранда
солнечная веранда
ветка
надломанная ветка
яблоко
упавшее яблоко
сосна
несущая облако сосна
куст
цветущий куст жасмина
тень куста
я
моя тень
калитка
тень калитки
переулок
тень изгороди
березовая роща
тени берез
электричка
тени вагонов
туча на горизонте
тень Москвы.
(Сапгир, 2008, с. 713–714).
Каждая последующая строка – это не только вариация темы, заданной в строке предыдущей, но конкретизирующая тему ремарка, крупный план, фиксирующий остановки авторского глаза – «киноглаза» («глаза-кинокамеры») («я / моя тень…»), движущегося из комнаты на улицу. Именно это движение незримого наблюдателя (заметим – явленного лишь в виде тени) не только оживляет статичные (безглагольные) крупные планы и выстраивает вполне законченный лирический сюжет, но и определяет целостность зрительного восприятия. Разложенный на кадры мир выглядит в данном случае совсем не раздробленным, а единым в своей цельности и непосредственной, авторски обусловленной заданности.
Эстетика документальной съемки Вертова, строящейся преимущественно на образахдвижениях, уступает место эстетике «авторского кино», выстроенного исключительно по своим внутренним, ассоциативно и психологически обусловленным законам. Его центральная категория – кадр как образ-перцепция – нацелена на проявление не объективно отстраненной, но максимально приближенной к авторской картине мира[10]. Вместе с тем, в отличие, например, от строящихся похожим способом безглагольных стихотворений А. Фета, композиционным стержнем которых является «…интериоризация, движение от внешнего мира к внутреннему его освоению» (Гаспаров, 1995, с. 147), «киностихи» Сапгира подчинены принципу четкого отстранения, разведения миров наблюдателя и фиксируемых им картинок (кадров), даже если они представлены в качестве его собственных переживаний и впечатлений. Данное в виде ремарок («Детство») или своеобразного предисловия («Тень осязания») собственно авторское слово может быть соотнесено с указаниями режиссера о том, как следует читать (воспринимать) предложенную картинку-кадр[11]. У Фета оценка заложена непосредственно в создаваемом им образе; у Сапгира – вынесена за его рамки, что подчеркнуто также графическим оформлением текста.
В результате, выявленные трансформации механизма действия «киноглаза» («глаза-кинокамеры») свидетельствуют о внутренних изменениях и поисках, происходящих в поэтике Г. Сапгира: от объективно обусловленной отстранённости взгляда автора-повествователя к взгляду личностному, не только внутренне, но и внешне субъективированному. Эффект наблюдения за происходящим в мире, вокруг, сменяется эффектом погружения в мир, в себя через видимые «киноглазом» детали, оттенки, отголоски, насыщенные ценностно значимыми для самого автора смыслами.
Литература
- Вертов Дзига, 1966. Статьи. Дневники. Замыслы. М. : Искусство.
- Гаспаров М. Л., 1995. Фет безглагольный (композиция пространства, чувства и слова) // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М. : Новое литературное обозрение. С. 139–149.
- Давыдов Д., 2009. «Говорящее кино» Алексея Крученых и «Голоса» Генриха Сапгира: сопоставительные заметки // Полилог. № 2. С. 96-100.
- Константинова С. Л., 2005. ««Слоистика» в «итальянских» текстах Г. Сапгира // Константинова С. Л. «Итальянский текст» русской литературы XIX–XX вв. Псков. С. 149–156.
- Константинова С. Л., 2009. «Свое» и «чужое» в цикле Г. Сапгира «Этюды в манере Огарева и Полонского»: к проблеме романизации лирического высказывания // Вестник ПГПУ. Серия «Социальногуманитарные и психолого-педагогические науки». Вып. 7. Псков: ПГПУ. С. 88–98.
- Крученых А., 2001. Стихотворения, поэмы, романы, опера. СПб.: Академический проект.
- Кулаков В., 1999. Поэзия как факт. Статьи о стихах. М. : Новое литературное обозрение.
- Орлицкий Ю. Б., 2003. Введение в поэтику Сапгира: система противопоставлений и стратегия их преодоления // Великий Генрих. Сапгир и о Сапгире. М. С. 159–167.
- Орлицкий Ю. Б., 2008. Открыватель новых миров // Сапгир Г. В. Складень. М. : Время. С. 5–12.
- Пробштейн Я., 2003. Московские мифы // Великий Генрих. Сапгир и о Сапгире. М. С. 182–193.
- Сапгир Г.В., 2008. Складень. М.: Время.
- Семьян Т., 2009. Телесность в книге Генриха Сапгира «Тактильные инструменты» // Полилог. № 2. С. 8–13.
- Шраер Максим Д., Шраер-Петров Давид П., 2004. Генрих Сапгир – классик авангарда. СПб.
[1] Как справедливо заметил Ю. Б. Орлицкий, «…В каждой своей новой книге (а они появлялись у поэта регулярно, примерно раз в год) Сапгир выбирал один определенный алгоритм обращения со словом, вокруг которого группировался каждый раз заново создаваемый им поэтический мир. Или, проще говоря, открывал новый художественный прием или даже способ мышления и говорения» (Орлицкий, 2008, с. 6).
[2] Дзига Вертов – псевдоним Давида Авелевича Кауфмана (1896–1954), одного из первых основателей и теоретиков документального кино, руководителя группы «Киноки».
[3] Согласно наблюдению Я. Пробштейна, сделанному им по поводу стихотворения «Предпраздничная ночь», «Художественная – иная – реальность, встающая за очевидной, может быть показана как возможность, разыгранная в подсознании одного из героев…» (Пробштейн, 2003, с. 183).
[4] Как отмечает Д. Давыдов, «…по устному сообщению вдовы Г. В. Сапгира, Л. С. Родовской–Сапгир, книга “Говорящее кино” была хорошо известна поэту еще в лианозовские времена. Впрочем, и не зная этого, мы смогли бы отметить ряд параллелей, которые нельзя не учесть» (Давыдов, 2009, с. 97).
[5] «…Крученых пишет о “реальных фильмах” и одновременно <…> пишет “реальные фильмы”, переписывает их, как если бы переснимал римейк (ведь, в идеале, всякий римейк — рецензия на предыдущую версию). Но здесь автор не оговаривает, а исследователь не учитывает смысл “организации поэтического материала по принципам кинематографа”: смысл этот пародичен (не пародиен!). <…> Крученых пародирует “Великого Немого” как художественный примитив, но не осмеивает его, а валоризирует, использует в качестве конструктивной модели…» (Давыдов, 2009, с. 97–98).
[6] Ср. с замечанием Д. Давыдова о том, что «…стихи Крученых представляют собой “как бы оплощенные” фильмы» (Давыдов, 2009, с. 97).
[7] В то же время, говоря об отличительных особенностях рассматриваемых книг, Д. Давыдов пишет: «Крученых <…> пародичен по отношению к кинопрототипу; его тексты представляют собой, так сказать, рефлексию второго уровня. Сапгир и “наивнее”, и “умудреннее” предшественника: он находит основу для “клипового” построения текста непосредственно в речи и, одновременно, мифологии обыденности (т. е. здесь обнаруживается рефлексия первого уровня); в то же время “Голоса” пародичны и по отношению к метатексту русского классического авангарда (в т. ч. Крученых), в них вскрывается утопичность авангардного негативизма, но авангардными же средствами (= рефлексия третьего уровня). Быть может, именно в этом балансировании на разных уровнях интерпретации и кроется сверхзначимость “Голосов” для всей поставангардной традиции» (Давыдов, 2009, с. 100).
[8] Кинематографичность «Этюдов в манере Огарева и Полонского», «кадровое построение текста и эффект «глаза-кинокамеры»» отмечены и в работе Максима Д. Шраера и Давида Шраера-Петрова (Шраер, 2004, с. 45).
[9] Подробнее см. об этом: Константинова, 2009, с. 88–98.
[10] Как отмечает Т. Семьян, «…Сапгир в книге «Тактильные инструменты» предложил новый жанровый вид литературного текста, безусловно, синкретичного, потому что основу текстовой организации книги составляют принципы перформанса – современного вида акционистского искусства, определяемого как публичный жест (физический, словесный, поведенческий, социальный и пр.)» (Семьян, 2009, с. 8).
[11] «Безусловно, книга «Тактильные инструменты» определяется сегодня (а возможно, так ощущал и сам автор) как этапное, даже итоговое произведение. Основной мотив практически всех произведений книги – мотив осмысления не только прожитого и пережитого, но попытка понять суть земного существования, осмыслить вечные бытийные темы, поэтому общая интонация книги, несмотря на игровую поэтику – рассуждения о вечном» (Семьян, 2009, с. 10).
[12] Как пишет Ю. Б. Орлицкий, Сапгир «…создает стихи и целые поэтические циклы, главную роль в которых играет не прямое слово, а ремарка: это своего рода партитуры – дыхания или движения – в общем, игры на «тактильных инструментах», как назвал поэт одну из своих последних книг» (Орлицкий, 2008, с. 8). См. также замечание Т. Семьян: «В начале первых двух частей тексты стихотворений содержат знаменитый приём Сапгира – ремарки в скобках – это рекомендации, какие действия должен (или должен был бы) производить читатель. Ремарки являются частью художественного целого, а иногда, как в первом стихотворении «Море в раковине», только ремарки и составляют собственно текст стихотворения» (Семьян, 2009, с. 9).