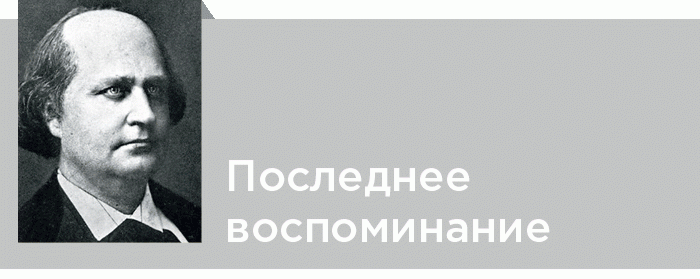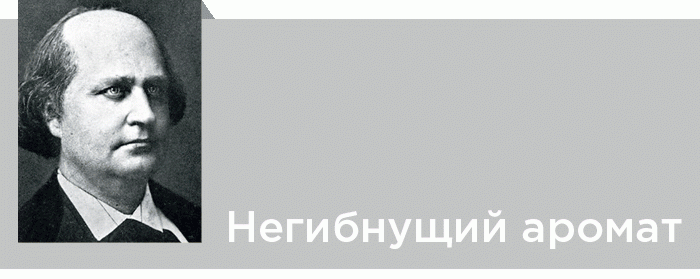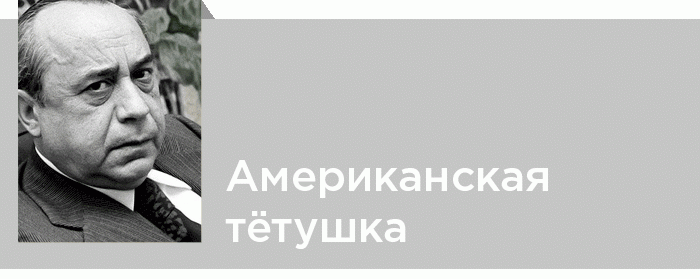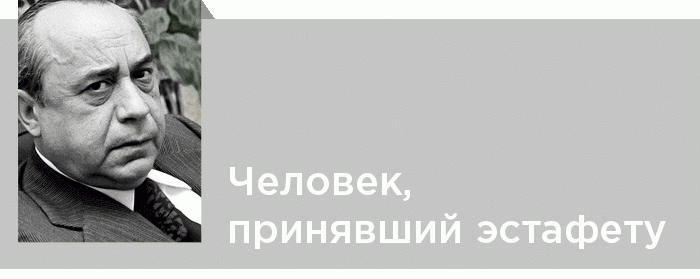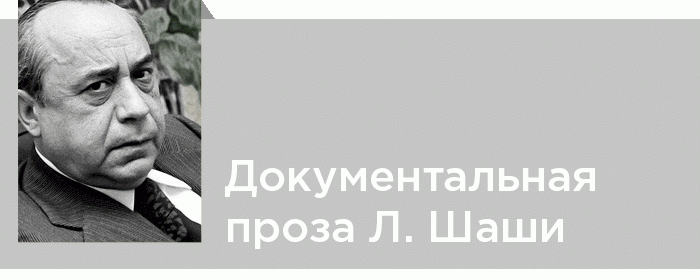Леонардо Шаша. Каждому своё

(Отрывок)
Глава первая
Письмо принесли с дневной почтой. Вначале почтальон, как обычно, положил на стойку пачку разноцветных рекламных брошюрок. Затем осторожно, точно боялся, что оно вот-вот взорвется, письмо. На желтом конверте — белый прямоугольник напечатанного типографским шрифтом адреса.
— Не нравится мне это письмо, — сказал почтальон.
Аптекарь оторвался от газеты, снял очки и спросил удивленно и даже несколько раздраженно:
— В чем дело?
— Я говорю, не нравится мне это письмо. — И почтальон указательным пальцем с опаской подвинул конверт аптекарю. Тот, не притрагиваясь к письму, склонился над мраморной стойкой, стараясь получше рассмотреть конверт. Затем взял письмо, вновь водрузил на нос очки и принялся изучать его.
— Чем же оно тебе не нравится?
— Его опустили ночью или рано утром. И заметьте, адрес вырезан из бланка со штампом вашей аптеки.
— А ведь верно, — согласился аптекарь и вопросительно поглядел на почтальона, будто ожидал от него совета или объяснения.
— Письмо анонимное, — заметил почтальон.
— Анонимное? — повторил аптекарь.
Он еще не дотронулся до письма, но оно уже ворвалось в его мирную домашнюю жизнь и, подобно молнии, грозило испепелить немного увядшую, некрасивую и неряшливо одетую женщину, которая в кухне жарила на ужин козленка.
— У нас многие не прочь послать анонимку, — сказал почтальон.
Он положил сумку на стул, а сам облокотился о мраморную стойку, явно дожидаясь, когда аптекарь наконец вскроет письмо. Он принес его нераспечатанным в надежде на простодушие и дружеское расположение адресата, не забыв, однако, хорошенько исследовать конверт. Рассуждал он так: «Если аптекарь вскроет письмо и прочтет, что ему наставили рога, он промолчит, но, если в письме угроза или просьба, он непременно скажет».
Во всяком случае уходить, ничего не узнав, почтальон не собирался — времени у него было предостаточно.
— Мне — и вдруг анонимное письмо? — после долгого молчания сказал аптекарь.
Он сказал это с возмущением, но на лице был написан испуг. Он побледнел, над губой выступили капельки пота, глаза растерянно блуждали. И хотя почтальон сгорал от нетерпения, он не мог не разделить изумления и возмущения аптекаря. Ведь владелец аптеки был человеком добродушным, сердечным и покладистым: он всем давал лекарства в кредит, а на земле, которая досталась ему от жены в приданое, крестьяне хозяйничали, как у себя дома. Никаких сплетен и пересудов не слышал почтальон и насчет его жены.
Внезапно аптекарь решился, он взял письмо, распечатал его, развернул сложенный лист бумаги. Как почтальон и подозревал, слова были вырезаны из газеты. Аптекарь залпом проглотил горькую «микстуру». Впрочем, в письме было всего две строчки.
— Ну и дела! — воскликнул он уже почти шутливо, с видимым облегчением.
«Значит, не про измену», — решил почтальон и спросил:
— Что, угрозы?
— Да, грозятся, — подтвердил аптекарь и протянул ему письмо.
Почтальон поспешно схватил его и громко прочел:
— «Это письмо — твой смертный приговор. За содеянное тобою тебя ждет смерть».
Он сунул письмо в конверт и положил его на стойку.
— Да это просто шутка, — убежденно сказал он.
— Думаешь, шутка? — встревоженно переспросил аптекарь.
— А что же еще? Некоторые рогоносцы покоя себе не находят, так в отместку они уж не знают, чем бы досадить ближнему. Это не впервой. Еще они страсть как любят по телефону названивать.
— Что верно, то верно, — согласился аптекарь. — И со мной такое случалось. Однажды ночью слышу телефонный звонок. Подхожу, женский голос спрашивает, не потерял ли я собаку. А то она нашла одну, голубую, в крапинку, и ей будто бы сказали, что это собака аптекаря. Вот это и правда была шутка. А тут ведь смертью угрожают.
— Э, дело рук тех же глупцов, — уверенно сказал почтальон и, взяв сумку, направился к выходу. — Так что не стоит волноваться, — бросил он на прощание.
— Я и не волнуюсь, — ответил аптекарь; но почтальон уже ушел.
И все-таки он волновался. Уж очень грубой была шутка. Если только это шутка... А что же еще? Ссор он ни с кем не заводил, политикой не занимался, даже с друзьями избегал говорить о ней. Никто не знал, что по старой семейной традиции он голосовал на парламентских выборах за социалистов, а на муниципальных — за христианских демократов. Ведь когда в городке правили демо-христиане, им удавалось кое-что урвать у правительства для местных нужд, да к тому же левые партии упорно покушались на семейную ренту. Но он никогда не вступал в спор ни с теми, ни с другими — правые считали его своим сторонником, левые — своим. Впрочем, заниматься политикой — только время попусту терять. Тот, кто этого не понимает, либо преследует корыстные цели, либо слеп от рождения. Словом, он жил спокойно и мирно. А может, это и послужило причиной анонимного письма?
Какой-нибудь завистливый бездельник решил, верно, напугать его, посеять в душе беспокойство. Впрочем, у него есть одна-единственная страсть — охота, и, возможно, тут кроется причина анонимного письма. Охотники, это уж всем известно, народ не очень доброжелательный. Достаточно обзавестись хорошей собакой или хорька подстрелить, как все начнут тебе завидовать, даже друзья, которые охотятся вместе с тобой и по вечерам приходят в аптеку языки почесать. Такие вот типы уже не одну охотничью собаку отравили. Иной раз хозяева по недомыслию оставляли своих собак одних на центральной площади — пусть себе побегают немного, — так потом их находили отравленными стрихнином. Может, у кого-нибудь стрихнин ассоциировался с аптекой. И зря, совершенно зря. Потому что для него, аптекаря Манно, собака — святая святых, особенно если она отменно хороша на охоте, будь то его собственная или друзей. Впрочем, его-то собаки могли не бояться яда. Всего их было у него одиннадцать, большинство чернейской породы. Откормленные, ухоженные, они полновластно хозяйничали в большом саду. Приятно было смотреть на них и слушать их заливистый лай. Правда, он немного злил соседей, но для аптекаря звучал сладостной музыкой. Он знал по голосу каждую собаку, точно угадывал, радуется ли она, сердится или заболела сапом. Ну конечно же все дело в собаках. Кто-то решил над ним подшутить, но, честно говоря, довольно зло. В среду у него единственный свободный день, а кто-то решил его попугать, чтобы он не пошел на охоту. Верно, собаки у него превосходные, но и стреляет он, если говорить без излишней скромности, наверняка — каждую среду зайцам и кроликам настоящее побоище устраивает. Его постоянный напарник по охоте, доктор Рошо, может это подтвердить. Он, кстати, тоже хороший стрелок, да и собаки у него отличные. Словом, все ясно... Анонимное письмо пробудило в нем даже чувство гордости и стало как бы свидетельством его охотничьей доблести. В среду открывается сезон охоты, а его хотят лишить самого большого удовольствия — ведь для аптекаря Манно это был самый радостный день года.
Продолжая раздумывать над тем, кто и с какой целью написал анонимку, хотя последнее уже не вызывало у него сомнений, аптекарь вынес плетеное кресло из дома и уселся в тени. Прямо напротив, освещенная неумолимыми лучами солнца, возвышалась бронзовая статуя Меркуцио Спано, магистра права, неоднократного заместителя министра почт и телеграфа. В своем двойном качестве магистра права и заместителя министра он длинной тенью задумчиво склонялся над анонимным письмом (так по крайней мере показалось аптекарю), но эта непочтительная мысль тут же сменилась чувством горечи за незаслуженную обиду. Чужая подлость лишний раз оттенила его собственную порядочность, и аптекарю стало очень жаль себя, ведь сам-то он на ответную подлость не способен. Когда тень Меркуцио Спано коснулась стен замка Кьярамонте на другой стороне площади, аптекарь был так глубоко погружен в свои невеселые думы, что дону Луиджи Корвайя показалось, будто он заснул.
— Проснись! — крикнул он приятелю.
Аптекарь вздрогнул, улыбнулся и поторопился принести дону Луиджи стул.
— Ну и денек, — вздохнул дон Луиджи, грузно опускаясь на стул.
— Термометр показывает сорок четыре, — сказал аптекарь.
— Да, но уже немного посвежело. Вот увидишь, ночью без одеяла не поспишь.
— Погода и та стала каверзной, — с горечью сказал аптекарь.
И тут же решил рассказать дону Луиджи о странном письме, а уж тот сам поделится новостью с каждым из приятелей.
— Представляешь, я получил анонимное письмо!
— Анонимное письмо?!
— Да, и с угрозами. — Аптекарь встал и пошел за письмом.
Дон Луиджи, прочтя две грозные строчки, воскликнул:
— О господи! — И тут же добавил: — Глупейшая шутка.
Аптекарь сразу согласился, что конечно это шутка, но, похоже, не без умысла.
— Какой здесь может быть умысел?
— Отвадить меня от охоты.
— Возможно. Вы, охотники, на всякую пакость способны, — заметил дон Луиджи.
Сам он осуждал это бессмысленное занятие, стоившее к тому же немалых денег и трудов, хотя вполне умел оценить жареную куропатку или кролика в кисло-сладком соусе.
— Не все, — уточнил аптекарь.
— Разумеется, разумеется. Нет правил без исключения. Но ты сам знаешь, на что способны некоторые охотники: собаке они за милую душу подсунут отравленную котлету, а то будто ненароком вместо зайца подстрелят гончую друга. Сущие негодяи. Собака-то здесь при чем? Хорошо ли, плохо ли, но свое собачье дело она знает. Если ты такой храбрый, своди счеты с самим хозяином.
— Ну, это разные вещи, — возразил аптекарь, которому тоже иной раз доводилось завидовать счастливому обладателю отличной своры гончих. Впрочем, он никогда не желал им смерти.
— А по мне, так это одно и то же. Кто может хладнокровно убить чужую собаку, вполне способен убить и ближнего своего, говаривал наш священник. Впрочем, — добавил он, — я могу и ошибиться. Ведь я сам не охотник.
Так они целый вечер проговорили о психологии охотников, и каждому, кто приходил, немедля сообщали об анонимке. А затем разговор неизменно заходил о ревности, зависти и злобной мстительности тех, кто подвизался на древнем и благородном поприще охоты. О присутствующих, разумеется, не говорили, хотя дон Луиджи подозревал чуть ли не в каждом автора анонимки и тайного отравителя чужих собак. Он буравил лица собеседников своими маленькими острыми глазками под колючими бровями. Доктору Рошо. нотариусу Пекорилле, адвокату Розелло, учителю Лауране, даже аптекарю, который, возможно, сам и сочинил письмо, чтобы за ним укрепилась слава бесстрашного охотника, — всем им дон Луиджи готов был приписать любые подлые намерения, какие только мог вообразить его подозрительный и коварный ум.
Но в одном все были единодушны: письмо — просто шутка, довольно злая, тем более что автор анонимки стремился запугать аптекаря как раз перед торжественным днем открытия охотничьего сезона. И когда на площади, как и каждый вечер, появился старшина карабинеров, аптекарь Манно и сам решил слегка пошутить. Делая вид, будто он напуган и совершенно растерян, аптекарь пожаловался блюстителю закона, что ему, честному человеку и гражданину, добропорядочному отцу семейства, ни за что ни про что грозят смертью.
— А что случилось? — спросил старшина, заранее приготовившись услышать занятную историю.
Но, увидев письмо, он сразу помрачнел. Конечно, это могла быть шутка, скорее всего так оно и есть, но неблаговидный поступок налицо, и заявление написать все же следует.
— Какое еще заявление? — воскликнул аптекарь.
— Э, нет, без заявления не обойтись. Таков закон. Так и быть, чем плестись в казарму, давайте напишем его прямо здесь. Впрочем, это минутное дело.
Они зашли в аптеку, аптекарь зажег настольную лампу и под диктовку старшины карабинеров стал писать.
Диктуя заявление, старшина держал в руках развернутый лист бумаги, и на него сбоку падал луч света от лампы. Лаурана, которому очень хотелось знать, как пишутся такого рода официальные заявления, прочел на обратной стороне листа слово UNICUIQUE, а затем несколько слов, набранных более мелким шрифтом: ordine naturale, menti obversantur, tempo, sede. Он подошел поближе, чтобы разобрать остальное, и громко прочел «человеческое». Но тут старшина, оберегая служебную тайну, досадливо сказал:
— Простите, разве вы не видите, что я диктую?
— Я читал на обратной стороне листа, — сказал в свое оправдание Лаурана.
Старшина тут же сложил лист вдвое.
— Не мешало бы и вам рассмотреть письмо на свету, — с плохо скрываемым раздражением буркнул Лаурана.
— Не беспокойтесь, мы сделаем все что нужно, — заверил его старшина и продолжил диктовку.
Глава вторая
Двадцать третье августа 1964 года было для аптекаря Манно последним счастливым днем на этой грешной земле. Заключение врачебной экспертизы гласило, что он дожил лишь до заката, что косвенно подтверждалось и охотничьими трофеями — одиннадцать кроликов, семь куропаток, три зайца, которых нашли в переполненных ягдташах аптекаря и доктора Рошо. По мнению знатоков, это была добыча за весь день, если принять во внимание, что место не являлось охотничьим заповедником и не особенно изобиловало дичью. Аптекарь и врач любили трудную охоту, подвергая тем самым нелегкому испытанию находчивость собак и свою собственную. Поэтому они всегда отправлялись на охоту вдвоем и не искали других партнеров. Тот счастливый день они тоже завершили вместе, в десяти шагах друг от друга, вот только аптекаря сразили выстрелом в спину, а доктора Рошо — в грудь. Одна из собак разделила их участь и отправилась охотиться вместе с ними в райских кущах. Одна из десяти собак, которых аптекарь взял с собой на охоту: одиннадцатую он оставил дома, потому что у нее воспалились глаза. Быть может, верный пес бросился на убийцу, а может, его подстрелили от избытка рвения или ярости. Никто так и не узнал, как повели себя в трагический миг остальные девять собак аптекаря и две доктора. Известно только, что примерно в девять вечера они сомкнутой стремительной стаей ворвались в городок с диким воем, и этот вой, разумеется, услышали все жители до одного, и у каждого зародилось недоброе предчувствие. Отчаянно лая, собаки пулей понеслись к складу, который аптекарь приспособил под псарню. Там, у закрытых дверей, они завыли еще громче, словно хотели поскорее поделиться с заболевшей собакой трагической вестью.
Знаменательное возвращение собак надолго посеяло у жителей городка глубокие сомнения в разумности мироздания, и об этом не забывали упомянуть всякий раз, когда заходил разговор о собачьих достоинствах, ибо несправедливо, что собаки лишены дара речи. Впрочем, в оправдание создателя надо сказать, что если бы собаки даже и обрели внезапно дар речи, они сразу бы вновь онемели, спроси их старшина карабинеров, кто были убийцы.
Сам он узнал о возвращении собак ближе к полуночи, когда уже лежал в постели. До рассвета он с помощью карабинеров и нескольких зевак убеждал собак показать ему место недавней охоты, соблазняя их требухой и задабривая ласковыми речами. Но те оставались глухи и немы. Пришлось старшине карабинеров, когда солнце уже стояло высоко в небе, самому отправиться на розыски, узнав предварительно у жены аптекаря название места, где двое друзей собирались поохотиться. Лишь в сумерки, после целого дня поисков — не приведи господь повториться такому — он набрел на тела убитых. Ничего другого он и не ждал. С той самой минуты, как он вскочил с постели, ему уже стало ясно, что автор анонимного письма, которое все приняли за шутку, привел свою угрозу в исполнение. Это была серьезная неприятность, самая серьезная за те три года, что старшина карабинеров прослужил в городке. Двойное убийство, причем обе жертвы — люди уважаемые, степенные, добропорядочные, не имевшие врагов и занимавшие видное положение. Жена аптекаря, урожденная Спано, приходилась правнучкой тому Спано, чей монумент высился на площади, доктор Рошо был сыном известного окулиста профессора Рошо, а его жена — племянницей каноника и кузиной адвоката Розелло. Само собой разумеется, из областного центра примчались полковник и начальник полиции. Вскоре газеты сообщили, что расследование возглавил лично начальник уголовной полиции, в тесном сотрудничестве с карабинерами. Хорошо известно, что проторенной дорожкой идти легче, поэтому первым делом были задержаны те, за кем в прошлом числились уголовные преступления, исключая злостных банкротов и ростовщиков, а таких в городке тоже было немало. Но ровно через сорок восемь часов все задержанные были отпущены на свободу. Следователи действовали вслепую, на ощупь, и даже местные осведомители блуждали в полном мраке. Тем временем шли приготовления к похоронам, весьма торжественным и пышным, как и подобало, если учесть высокое положение убитых и их многочисленной родни. Да и сам случай был из ряда вон выходящим, и буквально весь городок оплакивал погибших. Полиция решила увековечить это событие, что и было сделано в строжайшей тайне, настолько тайно, что на лице каждого, попавшего в момент похорон в объектив, было написано: «Вы, мои дорогие, зря стараетесь, я честный, порядочный человек, а не преступник какой-нибудь и всегда был другом погибших». Следуя в похоронной процессии за двумя массивными, отделанными бронзой гробами из орехового дерева, которые несли на плечах, сгибаясь под их тяжестью, самые крепкие и преданные клиенты и покупатели, друзья аптекаря обсуждали анонимное письмо и копались в прошлом бедняги Манно.
При этом они, как и полагается в таких случаях, горько оплакивали доктора Рошо, который вообще был ни при чем и дорогой ценой заплатил за легкомысленное согласие отправиться с аптекарем на охоту. Заметьте, после того, как аптекарь получил анонимное письмо! Ведь при всем уважении к покойному Манно, нельзя не признать, что коль скоро автор анонимки осуществил свою угрозу, значит, у него был на то свой резон, пусть даже нелепый, основанный на мелком, давно забытом поступке или, вернее, проступке аптекаря. К тому же в письме было ясно сказано «за содеянное тобою тебя ждет смерть». Значит, какой-то грешок, хотя бы давний и совсем пустяковый, за аптекарем все-таки водился. Да и вообще зря никто и шагу не сделает, а уж убивать ни с того ни с сего честного человека, а тут еще сразу двух, никому и в голову не придет. Конечно, сгоряча можно убить человека за неосторожно брошенное слово, за обгон твоей машины. Но ведь это преступление было совершено с заранее обдуманным намерением, чтобы отомстить за обиду, вероятно, одну из тех обид, которые со временем не только не забываются, а становятся еще острее. Правда, в мире хватает сумасшедших, которым вдруг втемяшится в голову, что кто-то тайно их преследует, и попробуй их потом разубедить. Но разве это преступление назовешь поступком сумасшедшего? Не говоря уж о том, что в данном случае сумасшедших, по-видимому, было двое, а довольно трудно себе представить, чтобы двум безумцам удалось заранее сговориться. А что убийц было двое, нет никаких сомнений. Кто рискнет схватиться в одиночку с двумя вооруженными охотниками, да к тому же с такими меткими стрелками? Все же необъяснимым оставался самый факт отправления письма. Зачем было предупреждать аптекаря? Вдруг Манно, вспомнив о своей вине, а о том, что она существовала, не могло быть двух мнений, или же просто испугавшись угрозы, не пошел бы на охоту? Тогда все планы убийц рухнули бы.
— Письмо, — сказал нотариус Пекорилла, — характерно для преступлений по мотивам оскорбленной чести. Но невзирая на риск, мститель хочет, чтобы жертва заранее умирала от страха и, получив письмо, вновь стала бы переживать свою вину.
— Да, но аптекарь отнюдь не умирал от страха, — заметил учитель Лаурана. — Пожалуй, вечером, получив письмо, он немного взволновался, но потом успокоился и даже начал подшучивать над угрозой анонима.
— Откуда нам знать, что человек скрывает от других и что у него творится на душе? — сказал нотариус.
— А зачем скрывать? Если возникли какие-нибудь подозрения насчет автора анонимки, самым разумным было бы...
— ...Рассказать о них друзьям и старшине карабинеров, — с иронией заключил нотариус Пекорилла.
— Почему бы и нет?
— О, мой дорогой друг! — удивленно, с оттенком укоризны воскликнул нотариус. — Вообразите себе, мой дорогой друг, что аптекарь Манно, да будет земля ему пухом, в минуту слабости или внезапного безумия... Ведь мы все-таки мужчины, не так ли?
Ища поддержки, он обернулся к окружающим, и все дружно кивнули.
— В аптеку чаще всего заходят женщины, а все они считают аптекаря чуть ли не своим домашним врачом... Словом, удобный случай делает мужчину вором... Приятная девушка, молодая дама... Учтите, мне лично неизвестно, чтобы за покойным водились подобные грешки, но кто может поручиться.
— Никто, — подтвердил дон Луиджи Корвайя.
— Вот видите, — продолжал обрадованный нотариус. — И я, пожалуй, рискну сказать, что основания для таких подозрений... есть. Будем откровенны, покойный женился по расчету. Достаточно посмотреть на синьору, на эту бедняжку, чтобы мигом улетучились все сомнения, согласен, она женщина честная, добродетельная, но чертовски некрасивая.
— Он выбился из бедности, — сказал дон Луиджи, — и, как все разбогатевшие бедняки, был скупым и даже жадным, особенно в молодости... Потом, уже после женитьбы, когда дела в аптеке пошли отличнейшим образом, он изменился. Да и то чисто внешне.
— Вот именно внешне. Потому что в глубине души он оставался человеком скрытным, суровым. Но главное даже не в этом. Вспомните, как он вел себя, когда заходил разговор о женщинах?
На риторический вопрос нотариуса немедленно отозвался дон Луиджи.
— Он только слушал, сам же не произносил ни слова.
— А так, что тут скрывать, ведут себя те, кто болтовне о женщинах предпочитает нечто другое. Иной раз он улыбался, как бы говоря: «Вы только языки чешете, а я не зеваю». К тому же, не забывайте, он был красивым мужчиной.
— Все ваши соображения, дорогой нотариус, ровным счетом ничего не доказывают, — возразил Лаурана. — Даже если предположить, что Манно соблазнил девушку или, выражаясь языком дешевых романов, опозорил ее, даже если это так, то тогда непонятно, почему он, получив письмо, не поделился со старшиной карабинеров своими подозрениями относительно авторства анонимки.
— Да потому что между вечным покоем и домашним покоем многие выбирают первое. Уж поверьте мне на слово, — вмешался в разговор коммандор Церилло с таким видом, словно он жалел, что ему самому до сих пор не представилась возможность сделать подобный же выбор.
— Но старшина очень тактично, осторожно... — попытался было возразить Лаурана.
— Не говорите ерунды, — оборвал его нотариус. И тут же добавил: — Извините, но вам я объясню все попозже.
Процессия уже подошла к самой кладбищенской церкви, где усопших поминали добрым словом, а нотариусу как раз предстояло произнести прочувствованную речь в честь покойного аптекаря.
Впрочем, Лаурана больше не нуждался в разъяснениях нотариуса, он и сам отлично понял, что сказал глупость.
В первый же вечер старшина карабинеров вызвал к себе вдову Манно и, прибегая к тончайшим эвфемизмам и хитроумным уловкам, стал допытываться, не возникала ли у нее хоть однажды, а такое может случиться с каждым, тень, лишь тень подозрения о внебрачных похождениях покойного супруга. Нет, боже упаси, он не думает, что синьор Манно изменял ей, но, быть может, какая-нибудь женщина, желая соблазнить его, слишком часто заходила в аптеку: словом, не замечала ли синьора чего-либо странного в поведении мужа? Ему, старшине, вполне достаточно одного туманного намека. Но синьора неизменно и решительно отвечала:
— Нет!
И все-таки старшина карабинеров не признал себя побежденным. Он велел доставить в казарму служанку и, по-отечески беседуя с ней, после шестичасового допроса сумел выжать из нее признание, что да, однажды у аптекаря с женой произошла небольшая семейная сцена. Виновницей ссоры была одна девушка, которая, по мнению синьоры Манно, слишком часто появлялась в аптеке. Аптека находилась в нижнем этаже дома, и синьоре при желании нетрудно было проверить, кто пришел или ушел.
Вопрос: Ну, а синьор Манно?
Ответ: Он все отрицал.
Вопрос: А вы, что вы об этом думаете?
Ответ: Я? А я-то здесь при чем?
Вопрос: У вас, как и у синьоры, тоже возникли подозрения?
Ответ: У синьоры никаких подозрений не было. Просто ей казалось, что девушка уж больно разбитная, ну а, сами знаете, мужчина всегда остается мужчиной.
Вопрос: Очень разбитная? И вдобавок очень красивая?
Ответ: По-моему, так себе. Но вот разбитная — точно.
Вопрос: Значит, разбитная, иначе говоря, очень живая, словом, кокетливая. Вы это хотели сказать?
Ответ: Да.
Вопрос: Ее имя?
Ответ: Не знаю. На этот вопрос служанка позже отвечала: — Я ее не знаю, не видела ни разу, хотя нет, один раз, но даже лица не помню.
Допрос продолжался с четырнадцати часов тридцати минут до девятнадцати часов пятнадцати минут, когда служанка, словно по наитию, вдруг вспомнила не только имя, но и возраст всех родственников до пятого колена, номер дома и уйму других подробностей о разбитной девице. Ровно в девятнадцать тридцать девица предстала перед старшиной, а ее отец остался ждать у ворот казармы. А в двадцать один час несостоявшаяся свекровь вместе с двумя приятельницами явилась в дом девицы, вернула ей золотые часы, брелок для ключей, галстук и двенадцать писем, в свою очередь потребовав немедленного возвращения кольца, браслета, подвенечной вуали и двенадцати писем. Быстро покончив с неприятной церемонией, означавшей бесповоротное расторжение предстоящего брака, несостоявшаяся свекровь с издевкой заключила:
— Поищите теперь другого олуха, — тем самым косвенно признав, что ее сын не отличался умом, раз он хороводился с девицей, которая спуталась с аптекарем. Слова старухи исторгли яростные вопли из груди матери беспутной девицы и привели в неистовство ее мгновенно сбежавшихся родственников. Но прежде чем они опомнились и обрушились на старуху, та вместе с двумя верными подругами поспешно удалилась. Выскочив на улицу, она громко, чтобы все соседи слышали, крикнула:
— Нет худа без добра. Неужто его не могли убить раньше, чем мой сын зачастил в дом к этой шлюхе?
Она явно намекала на судьбу аптекаря, который, таким образом, за один день вторично удостоился надгробного слова.
Глава третья
Просмотрев целый ворох рецептов и выслушав показания врача, писавшего их, старшина карабинеров пришел к заключению, что частые посещения девицей аптеки объяснялись тяжелой болезнью ее младшего брата. Он в одиннадцать лет заболел менингитом и никак не мог полностью оправиться, заикался, часто терял память и вообще слыл слабоумным.
Отец работал в поле, а мать хозяйничала по дому. Девушке самой приходилось ходить к лечащему врачу за советами и рецептами. К тому же в семье она была самой грамотной и сообразительной. Само собой разумеется, были допрошены и отец девицы, и ее бывший жених, но больше из желания поскорей разделаться с этой частью расследования. Наконец старшина убедился в невиновности девушки, но теперь ей предстояло убедить в этом и семь с половиной тысяч жителей городка, включая всех родственников. А они, едва старшина закончил допрос, на всякий случай, втихомолку, со знанием дела, основательно ее избили.
Синьоре Терезе Спано, вдове Манно, которая вынула из альбома и долго рассматривала фотографии мужа, чтобы отобрать, какую из них увеличить для надгробного памятника, казалось, будто его красивое и спокойное лицо искажено чуть заметной ухмылкой, а глаза смотрят холодно и насмешливо. Так, даже в доме, где аптекарь Манно прожил целых пятнадцать лет и всегда слыл образцовым отцом и верным мужем, с ним произошла странная метаморфоза. Вдову и во сне мучили подозрения, ей чудилось, будто во всех зеркалах он отражался голым, как манекен, как червь, безруким и безногим. Ночью, внезапно проснувшись, синьора вскакивала, и снова начинался допрос фотографий мужа. Иногда ей казалось, будто покойный отвечал ей, что смерть есть смерть, а все остальное гроша ломаного не стоит, а чаще он представал в ее воображении таким же циничным и хитрым, как и при жизни. Ее родственники были крайне возмущены и не преминули в сотый раз упрекнуть бедняжку в опрометчивом согласии выйти замуж за аптекаря, чему они в свое время упорно противились. Родные же аптекаря, которым чужд был этот пышный траур, так же как прежде была чужда обеспеченная, сытая жизнь их родича, приняли его гибель как роковую неизбежность. Коль скоро твое положение изменилось и в своем ослеплении ты думаешь, что добился богатства и счастья, тебя раньше других настигают горе, стыд и безжалостная смерть.
Хотя не было никаких улик, кроме окурка сигары, найденного на месте преступления, а это позволяло предположить, что, долго сидя в засаде, один из убийц закурил, в городке буквально каждый хранил про себя разгадку тайны или по крайней мере был убежден, что нашел ключ к ее раскрытию.
Подобрал такой ключ и Лаурана, им было слово UNICUIQUE, которое он, вместе с другими, увы, стершимися из памяти словами, разобрал сквозь призму лучей на оборотной стороне листа. Лаурана не знал, последовал ли старшина карабинеров его совету внимательно рассмотреть обратную сторону письма и подвергли ли это письмо всестороннему изучению в лаборатории научной криминалистики. В этом случае слово UNICUIQUE не могло не привлечь внимания судебных экспертов. Но в глубине души Лаурана не был уверен, примут ли во внимание его совет и придадут ли в лучшем случае должное значение этой косвенной улике. По правде сказать, это даже льстило его тщеславию, потому что другим не было дано разгадать столь очевидную тайну или, вернее, столь таинственную очевидность; тут нужен ум острый, свободный от предрассудков, способный распутать этот гордиев узел. Так, из тщеславия, помимо собственной воли Лаурана сделал первый шаг. Заглянув, как всегда, к продавцу газет, он спросил «Оссерваторе романо».
Продавец весьма удивился — синьор Лаурана слыл, хотя и не вполне заслуженно, ярым антиклерикалом, а главное, вот уже лет двадцать никто не спрашивал у него «Оссерваторе». Он об этом без обиняков и сказал, заставив сердце Лаураны забиться от радости.
— Уже лет двадцать никто не спрашивал у меня эту газету... Во время войны ее еще читали, в наш город пять газет прибывало. Но однажды ко мне пришел секретарь фашио и объявил, что, если я не перестану заказывать «Оссерваторе», меня лишат права на продажу газет. Сила солому ломит. Скажите, а как бы вы поступили на моем месте?
— Точно так же, — ответил Лаурана.
«Итак, — подумал он, — никто не спрашивал у нашего киоскера, есть ли у него «Оссерваторе романо». Но, может, старшина карабинеров это уже выяснил? Нужно навести справку у начальника почты или у письмоносца».
Начальник почты был человеком говорливым и всеобщим приятелем. Лауране без особого труда удалось получить нужные сведения.
— Я пишу работу о Карло Мандзони. Мне рекомендовали прочесть одну статью в «Оссерваторе романо», появившуюся пятнадцать—двадцать дней назад. У нас кто-нибудь получает «Оссерваторе романо»?
Все знали, что Лаурана печатает в журналах критические статьи. Поэтому начальник почты, не задумываясь, ответил (он бы ничего не сказал или долго колебался, если бы полиция предварительно уже наводила соответствующие справки):
— У нас «Оссерваторе» выписывают двое — достопочтенный синьор каноник и приходский священник св. Анны.
— А отделение демократической партии?
— Нет.
— Даже секретарь местного отделения?
— Тоже нет. Я же вам сказал, к нам всего два экземпляра приходят.
И, объясняя настойчивые вопросы Лаураны его инстинктивным недоверием к церковным властям, посоветовал ему:
— Сходите к приходскому священнику. Если у него сохранился этот номер газеты, он вам наверняка даст.
Церковь св. Анны была совсем неподалеку, а рядом стоял дом священника. Лаурана и раньше был в довольно дружеских отношениях с приходским священником, человеком широких взглядов, пользовавшимся неизменным расположением прихожан; что же до начальства, то оно его недолюбливало, и не без основания.
Священник встретил Лаурану с распростертыми объятиями. Но когда тот объяснил цель своего визита, на лице священника отразилась досада. Он сказал, что, конечно, получает «Оссерваторе романо»; в силу инерции, а главное, не желая раздражать начальство, он, как и его предшественник, подписался на эту газету, но уж читать ее — увольте. Он эту газету вообще не раскрыл ни разу и подозревает, что ее уносит капеллан. А вы его знаете? Ну, такой молодой, худой, кожа да кости. И что любопытно, он никогда не смотрит вам в глаза. Настоящий тупица. Да вдобавок еще соглядатай, его для этого и приставили. Уж он-то читает «Оссерваторе романо» и наверняка хранит все номера. Хотите, я ему позвоню?
— Буду вам очень признателен.
— Сию минуту.
Он снял трубку и назвал номер. Едва его соединили, он грубо спросил:
— Ну как, уже настрочил очередной донос канонику?
При этом он подмигнул Лауране и немного отвел трубку, чтобы и тот слышал протестующие возгласы капеллана. Помолчав, он добавил:
— Впрочем, мне на это начхать. Я тебе по другому поводу звоню. Слушай меня внимательно. Что ты делаешь с номерами «Оссерваторе романо», которые воруешь у меня?
Капеллан снова отчаянно запротестовал, но приходский священник бесцеремонно прервал его:
— Да нет, на этот раз я шучу... Ну так вот, куда ты их деваешь? Сохраняешь? Молодец, молодец. Подожди, сейчас я тебе скажу, какие номера мне нужны. Собственно, не мне, а моему другу, одному критику. Какие вас интересуют номера?
— Точно затрудняюсь сказать, Статья, которую я ищу, могла быть напечатана где-то между первым июля и пятнадцатым августа.
— Отлично... Слушай, есть у тебя все номера с первого июля по пятнадцатое августа? Должен проверить? Так проверь и заодно посмотри, нет ли в одном из этих номеров статьи о Мандзони. Поищи хорошенько и потом позвони мне.
Он повесил трубку и объяснил:
— Обещал поискать, и если найдет, то завтра утром принесет газету мне. Это избавит вас от неприятной необходимости встречаться с ним. Он грязный тип.
— В самом деле?
— Поверьте, нужно обладать железными нервами, чтобы его терпеть. К тому же он человек порочный, вы, конечно, понимаете, о чем я говорю. А я назло все время посылаю к нему молоденьких девиц. Он, бедняга, мучается, терпит просто отчаянные муки. Ну, а потом мстит мне. Но я, как вы сами убедились, смотрю на жизнь трезво. Знаете анекдот о молодой служанке и строгом епископе? Нет? Тогда послушайте. Хоть раз вы услышите анекдот о священниках, рассказанный самим священником. Так вот, однажды епископу донесли, что в одном селении священник не только держит служанку значительно более молодую, чем это предписано уставом, но и спит с ней на одной постели. Епископ, понятно, помчался в селение, внезапно нагрянул в дом священника и видит там красивую молодую служанку, а в спальне — широченную кровать. Тогда он объявляет священнику, какие про него ходят слухи. Тот не отрицает: «Это сущая правда, ваше преосвященство, что служанка спит с одного края кровати, а я — с другого. Но вы сами видите, что тут с двух сторон висят петли. В эти петли я каждый вечер перед сном вдеваю вот эту здоровенную доску. Она покрепче двери». И показывает доску.
Епископ был поражен, даже растроган такой моральной чистотой. Ему вспомнились святые времен средневековья, которые, ложась рядом с женщиной, клали между нею и собой крест или меч. Он мягко сказал: «Но, сын мой, конечно, доска — разумная мера предосторожности, но если тобою овладевает искушение? Ведь оно бывает дьявольски сильным, почти неодолимым, что ты тогда делаешь?» — «О, ваше преосвященство, что ж тут такого сложного? Я просто снимаю доску».
Приходский священник успел рассказать еще парочку анекдотов, прежде чем позвонил капеллан. Он проверил: все номера с первого июля по пятнадцатое августа у него сохранились, но статьи о Мандзони там нет.
— Я очень сожалею, — сказал приходский священник, — но, может, он плохо смотрел. Я же вам говорил, это настоящий болван. Чтобы удостовериться, пожалуй, лучше вам самому сходить и посмотреть. Впрочем... Хотите, я ему велю принести все номера сюда?
— Нет, нет, благодарю вас, не стоит беспокоиться... К тому же статья не так уж мне нужна.
— Охотно вам верю, уже два века мы не говорим ничего нового и важного. А уж о Мандзони, представляете себе, что может написать о Мандзони католик. Чтобы понять и по-настоящему оценить этого писателя, нужно быть человеком глубоко развращенным в прямом и переносном смысле слова.
— И все же кое-какие мысли католиков о творчестве Мандзони довольно поучительны.
— Знаю, знаю, бог, карающий и прощающий смертных, Мандзони и Вергилий... Обо всем этом, по правде говоря, одни лишь католики и писали. За редкими исключениями. И, пожалуй, ничего особенно умного до сих пор не сказали. Знаете, когда исследователи почти попадают в цель, в самую сердцевину? Когда они затрагивают тему молчания в любви. Но этот разговор заведет нас слишком далеко. Хочу показать вам одну вещицу, вы ведь неплохо в этом разбираетесь.
Он подошел к стенному шкафу, открыл его и вынул маленькую, величиною с ладонь, фигурку святого Рокко.
— Посмотрите, какое изящество линий, какая экспрессия. Знаете, как она мне досталась? Она вместе с разным хламом валялась в церковной кладовой у одного моего коллеги из ближнего селения. Взамен я ему купил большого новенького святого Рокко из папье-маше. Он меня за маньяка считает, за одного из тех, которые помешаны на всякой старине, и как будто даже некоторое смущение испытывал, что согласился на такой невыгодный для меня обмен.
Приходский священник был хорошо известен как тонкий и отнюдь не бескорыстный знаток древнего искусства, и многие знали, что он поддерживает постоянные и выгодные торговые связи с антикварами Палермо.
Показывая гостю со всех сторон фигурку святого Рокко, священник не переставая рассказывал:
— Кое-кто его уже видел. Мне дают триста тысяч лир. Но я пока хочу сам им полюбоваться, всегда успею продать его какому-нибудь казнокраду. Ну, каково ваше мнение? По-моему, первая половина шестнадцатого века.
— Да, похоже...
— Вот и профессор Де Ренцис то же самое думает. А он большой знаток сицилийской скульптуры пятнадцатого и шестнадцатого веков. Впрочем, немудрено, что его мнение, — тут он громко засмеялся, — всегда совпадает с моим. Ведь плачу-то ему я.
— Вы ни во что не верите, — сказал Лаурана.
— О нет, верю! И по нынешним временам даже слишком во многое.
По городку ходил анекдот, возможно, это даже была правда, что однажды во время мессы, когда приходский священник открывал ларец-дарохранительницу, ключ застрял в замочной скважине. Священник не утерпел и выругался:
— Что, в ней дьявол, что ли, сидит?
Понятно, он имел в виду замочную скважину. Одно было известно точно — священник всегда торопился закончить службу, он вечно что-то покупал или продавал на стороне.
— Простите, тогда я не понимаю... — начал было Лаурана.
— Почему я не снимаю церковное облачение? Должен вам сказать, что я его надел не по своей воле. Возможно, вы об этом знаете. Мой дядюшка, священник этой самой церкви, богач и ростовщик, оставил мне все свое добро, но с условием, что я тоже последую его примеру. Когда он умер, мне было три года. В десять лет, когда я поступил в духовную семинарию, я чувствовал себя святым Людовиком, в двадцать два, закончив ее, — живым воплощением сатаны. Я хотел бросить все, но это значило распрощаться с наследством, обречь мать на нищету. Теперь мне дядюшкино наследство не очень нужно, мать умерла. Я мог бы сложить с себя церковный сан.
— А Конкордат?
— Если я предъявлю завещание дяди, Конкордат мне не страшен. Я стал священником по принуждению, и церковные власти отпустили бы меня с миром, не ущемляя моих гражданских прав. Но дело в том, что теперь в этом одеянии я чувствую себя вполне удобно. И это сочетание удобств и определенного цинизма позволило мне обрести душевное равновесие и полноту жизни.
— А вы не рискуете навлечь на себя неприятности?
— Абсолютно нет. Если меня попытаются тронуть, я устрою такой скандал, что сюда примчатся даже корреспонденты «Правды». И не меньше месяца тут просидят.
После столь приятной беседы Лаурана вышел от священника уже в полночь. Он расстался с ним, преисполнившись симпатии к этому духовному отцу. «Да, в Сицилии, а может, и во всей Италии полно таких вот милых людей, которым надо голову снести», — подумал он. Что же до слова UNICUIQUE, то он узнал, что оно не могло быть вырезано из газет, приходивших на имя священника. А это уже кое-что значило.
Критика